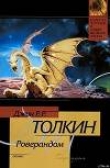Текст книги "Джон Р. Р. Толкин. Биография"
Автор книги: Хамфри Карпентер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 2
БИРМИНГЕМ
Когда миновал первый шок, Мэйбл Толкин поняла, что нужно принять какое–то решение. Она с двумя мальчиками не могла навсегда остаться в тесном пригородном коттеджике своих родителей, однако на то, чтобы поселиться в отдельном доме, средств у нее едва хватало. Несмотря на то что Артур Толкин трудился не покладая рук и откладывал каждый сэкономленный грош, ему удалось собрать весьма скромный капитал, большая часть которого была вложена в копи Бонанца. Эти акции давали высокие дивиденды, но тем не менее весь доход исчислялся тридцатью шиллингами в неделю. Этого было маловато, чтобы содержать себя и двоих детей, даже по самым скромным меркам. Кроме того, оставалась еще проблема образования мальчиков. Допустим, в первые несколько лет она может учить их сама: она знала латынь, французский, немецкий, умела рисовать, писать красками и играть на фортепьяно. Позднее, когда Рональд с Хилари подрастут, им придется сдать вступительные экзамены в школу короля Эдуарда в Бирмингеме – лучшую классическую школу [Среднее образование в Англии делилось – и до сих пор делится – на две направленности: классическую (grammar schools) и современную (modern schools). В первой, унаследованной от средневековых школ, основной упор делается на изучение гуманитарных предметов, и в первую очередь – древних языков, латыни и греческого.
В современных школах программа имеет практическую направленность и изучение древних языков не предусматривается. Некоторым аналогом этого разделения могут служить дореволюционные российские гимназии и реальные училища.] в городе, где учился и сам Артур Толкин. А пока что нужно снять дешевую квартиру. Квартир в Бирмингеме предостаточно, но мальчикам необходимы свежий воздух, и возможность гулять за городом, и такой дом, чтобы они могли быть счастливы там, несмотря на бедность. И Мэйбл принялась просматривать объявления.
Рональд, которому шел пятый год, потихоньку приспосабливался к житью под кровом бабушки с дедушкой. Отца он почти забыл – еще немного, и мальчик начнет воспринимать его как нечто из далекого, почти легендарного прошлого. Переезд из Блумфонтейна в Бирмингем сбил его с толку: иногда он ожидал, что, выйдя из дедушкиного дома на Эшфилд–Роуд, увидит перед собой веранду здания банка; но шли недели, месяцы, воспоминания о Южной Африке начинали стираться, и мальчик стал обращать больше внимания на взрослых, что его окружали. Дядя Вилли и тетя Джейн по–прежнему жили с родителями, а еще в доме был жилец, страховой агент с волосами песочного цвета, который напевал «Полли–Волли–Дудль», сидя на ступеньках и подыгрывая себе на банджо, и строил глазки тете Джейн. Семейство считало его вульгарным. Когда Джейн объявила о помолвке с ним, все пришли в ужас. Рональд втайне мечтал о банджо.
По вечерам дедушка возвращался домой, измотанный беготней по бирмингемским улицам и улещиванием лавочников и управляющих, которых надо было уговаривать приобрести партии «Джейза». Джон Саффилд носил длинную бороду и выглядел очень старым. Ему стукнуло шестьдесят три, и он клялся, что доживет до ста. Большой весельчак, он, похоже, вовсе не возражал против того, чтобы зарабатывать себе на жизнь трудом коммивояжера, несмотря на то что когда–то владел собственным магазином тканей в центре города. Иногда он брал листок бумаги и ручку со специальным тоненьким перышком, обводил кружком шестипенсовую монету и мельчайшим каллиграфическим почерком вписывал в этот кружок весь текст «Отче наш». Его предки были граверами – видимо, от них Джон Саффилд и унаследовал это искусство; он с гордостью рассказывал про то, как король Вильгельм IV даровал их семейству собственный герб за тонкую работу, выполненную по его заказу, и про свое дальнее родство с лордом Саффилдом (последнее – неправда).
Так Рональд начал понемногу усваивать обычаи семейства Саффилдов. Постепенно они сделались для него куда более близкими людьми, чем семья его покойного отца. Его дедушка Толкин жил совсем рядом, на той же улице, и иногда Рональда водили к нему в гости; но Джону Бенджамину Толкину было уже восемьдесят девять лет, и смерть сына сильно подкосила старика. Через полгода после смерти Артура его отец тоже скончался. Так оборвалась еще одна связь, соединявшая мальчика с Толкинами.
Однако оставалась еще тетя Грейс, младшая сестра Артура, которая много рассказывала Рональду о предках Толкинов. Все ее истории выглядели совершенно невероятными, но тетя Грейс утверждала, что все основано на фактах. Она говорила, будто фамилия семейства первоначально была фон Гогенцоллерн, потому что эта семья происходила из той части Священной Римской империи, что принадлежала Гогенцоллернам. По ее словам, на осаде Вены в 1529 году некий Георг фон Гогенцоллерн сражался на стороне эрцгерцога Фердинанда Австрийского. Он возглавил незапланированную вылазку против турок, выказал неслыханную отвагу и захватил штандарт самого султана. Потому, рассказывала тетя Грейс, его и прозвали «Tollkuhn», «безрассудно отважный»; и это прозвище пристало ко всему семейству. Она утверждала также, что у их семейства есть и французские корни: оно породнилось со многими знатными фамилиями Франции, а их фамилия была даже переведена на французский и звучала как дю Темерер. Насчет того, когда и почему предки Толкинов перебрались в Англию, мнения в семействе расходились. Более прозаичная версия гласила, что это произошло в 1756 году и что им пришлось спасаться бегством, когда в Саксонию, где находились их земли, вторглись прусские захватчики. Тетя Грейс предпочитала более романтичную, хотя и неправдоподобную, историю о том, как один из дю Темереров бежал за Ла–Манш в 1794 году, спасаясь от гильотины, и, видимо, именно тогда и взял себе вариант прежней фамилии Толкин. Этот дворянин славился как искусный клавесинист и часовщик. Разумеется, эта история – одна из многих подобных легенд о происхождении рода, которые бытуют в семействах, принадлежащих к среднему классу, – изрядно романтизировала появление в Лондоне в начале XIX века семейства Толкинов, которые зарабатывали изготовлением карманных и настенных часов и фортепьяно. А несколько лет спустя Джон Бенджамин Толкин, отец Артура, переселился в Бирмингем и основал там фирму, производящую и продающую фортепьяно.
Толкины всегда любили рассказывать истории, окутывавшие их происхождение романтической дымкой; но, правдивые они или выдуманные, к тому времени, как на свет появился Рональд, Толкины давно уже стали обычной английской семьей, англичанами по характеру и по внешности, неотличимыми от тысяч других деловых людей среднего класса, проживавших в пригородах Бирмингема. Во всяком случае, Рональд куда больше интересовался семьей своей матери. Он вскоре привязался к Саффилдам и всему, что они в себе воплощали. Он узнал, что, хотя сейчас большинство Саффилдов перебралось в Бирмингем, корни семейства следует искать в тихом вустерширском городке Ившем, где жило много поколений Саффилдов. Рональд в определенном смысле был бездомным ребенком, поскольку отъезд из Южной Африки и последовавшие за этим скитания начинали вызывать у него ощущение неприкаянности, а потому он привык считать своей настоящей родиной западный Мидленд вообще и Ившем в частности. Много позднее он писал: «Моя фамилия Толкин, но по вкусам, способностям и воспитанию я Саффилд». А о Вустершире он говорил: «В любом уголке этого графства, будь он прекрасным или запущенным, я неким неуловимым образом чувствую себя «дома», как нигде в мире».
К лету 1896 Мэйбл Толкин удалось найти квартиру, достаточно дешевую, чтобы она с мальчиками могла поселиться отдельно, и они перебрались из Бирмингема в деревушку Сэрхоул, примерно в миле от южной окраины города. Это новое место произвело на Рональда глубокое, неизгладимое впечатление. В том самом возрасте, когда у ребенка начинает просыпаться воображение, он попал в английскую деревню.
Дом, куда они переселились, был номером 5 по улице Грейсвелл, кирпичным коттеджем на две семьи на самом краю деревни. Мэйбл Толкин сняла его у местного землевладельца. За воротами шла дорога, уводящая вверх по склону холма, в деревню Моузли, а оттуда в Бирмингем. В противоположном направлении она вела в Стратфорд–он–Эйвон. Но движение на дороге ограничивалось редкими фермерскими телегами или повозками торговцев, и нетрудно было забыть, что город так близко.
За дорогой был луг, спускавшийся к реке Коул, которая в тех местах немногим шире обычного ручья. На реке стояла сэрхоулская мельница, старое кирпичное здание с высокой трубой. Здесь на протяжении трех столетий мололи зерно, но времена менялись. На мельнице установили паровую машину, чтобы не прерывать работу, когда в реке слишком мало воды, и теперь мельница молола в основном не зерно, а кости на удобрения. Однако вода по–прежнему шумела в шлюзе и крутила большое колесо, а внутри здания все было покрыто мельчайшей белой пылью. Хилари Толкину было всего два с половиной года, но вскоре и он начал сопровождать старшего брата в экспедициях через луг к мельнице, где они сквозь щели в заборе глазели на мельничное колесо, вращающееся в своей темной пещере, или, обежав забор, заглядывали во двор, где рабочие забрасывали мешки в ожидающую телегу. Иногда мальчики даже решались зайти в ворота и сунуть нос в открытую дверь. За дверью виднелись кожаные ремни, шкивы, валы и люди за работой. Мельников было двое, отец и сын. У старика была черная борода, но мальчики больше боялись сына в пыльной белой одежде и с пронзительным взглядом. Рональд прозвал его Белым Людоедом. Когда он рявкал на них, чтобы они убирались, мальчики опрометью бросались со двора и, обогнув мельницу, выходили на берег тихого пруда, в котором плавали лебеди. В конце пруда темная вода внезапно обрывалась вниз и падала через шлюз на большое колесо внизу. Это было страшное и заманчивое место.
Неподалеку от сэрхоулской мельницы, вверх по холму, в сторону Моузли, был глубокий песчаный карьер, край которого порос деревьями. Этот карьер стал еще одним излюбленным местом мальчиков. Собственно говоря, открытия поджидали со всех сторон – хотя порой изыскания были сопряжены с риском. Старого фермера, который как–то раз шуганул Рональда за то, что мальчик собирал грибы у него на участке, братья прозвали Черным Людоедом. Подобные опасные приключения были самой солью тех дней в Сэрхоуле. Вот как вспоминает о них Хилари Толкин, почти восемьдесят лет спустя:
«Мы чудесно проводили лето – просто собирали цветы и шастали по чужим участкам. Черный Людоед имел обыкновение забирать ботинки и чулки, которые мы оставляли на берегу, чтобы походить босиком по воде, и приходилось догонять его и выпрашивать обувь обратно. Ух и влетало же нам от него! Белый Людоед был не такой опасный. Но для того чтобы попасть в то место, где мы собирали ежевику (оно называлось Лощина), надо было пройти через земли Белого, а он нас не особо жаловал, потому что узкая тропинка шла через его поле, и мы по дороге украдкой рвали куколи и другие красивые цветы. Мать один раз принесла нам обед в это славное место. Она пришла и как закричит страшным голосом, а мы как бросимся бежать!»
В Сэрхоуле было мало домов, кроме того ряда коттеджей, в котором жили Толкины, но тропинка через брод вела в деревню Холл–Грин. Рональд с Хилари иногда ходили покупать сладости у беззубой старушки, которая держала там ларек. Постепенно они подружились с местными ребятами. Это было не так–то просто: деревенские смеялись над их городским произношением, длинными волосами и передничками, а сами братья Толкины были непривычны к уорикширскому диалекту и грубым манерам сельских мальчишек. Но вскоре они и сами принялись заимствовать деревенские словечки, привыкнув называть свиной бок «chawl», мусорное ведро – «miskin», сдобную пышку – «pikelet», а хлопчатобумажную ткань – «gamgee». Последнее слово было обязано своим происхождением доктору Гэмджи, врачу из Бирмингема, который изобрел «gamgee–tissue», хирургическую повязку из хлопка. В этом округе его имя стало словом нарицательным.
Мэйбл вскоре принялась обучать сыновей, и лучшего учителя им не приходилось и желать. Да и сама Мэйбл не пожелала бы ученика более способного, чем Рональд, – к четырем годам он уже умел читать, а вскоре после этого освоил и письмо. Почерк его матери отличался очаровательной самобытностью. Она переняла у отца искусство каллиграфии и писала в изысканном стиле, без наклона, украшая каждую заглавную букву замысловатыми завитушками. Рональд вскоре тоже принялся упражняться в каллиграфии. У него почерк был иной, чем у матери, но со временем он сделался таким же элегантным и неповторимым. Однако больше всего Рональд любил уроки, посвященные языкам. Вскоре после того, как семья поселилась в Сэрхоуле, мать обучила его начаткам латыни, и латынь ему ужасно понравилась. Его интересовало не только значение слов, но и само их звучание и облик. Мэйбл начала замечать, что мальчик обладает особыми способностями к языкам.
Она стала обучать его французскому. Французский понравился ему куда меньше, без каких–либо особых причин: просто звучание французских слов не так радовало его слух, как латынь и английский. Мать пыталась приохотить его к игре на фортепьяно, но безуспешно. Казалось, слова заменяют ему музыку, и он получает удовольствие, слушая их, читая их и повторяя их вслух, почти не обращая внимания на смысл.
Рисование тоже давалось ему хорошо, особенно когда мальчик брался изображать пейзаж или дерево. Мать сообщила ему немало сведений по ботанике, и к ним Рональд тоже не остался равнодушен. Вскоре он научился неплохо разбираться в растениях. Но и тут его больше интересовали облик растения и ощущение от него, нежели ботанические подробности. Особенно это относилоськ деревьям. И хотя Рональд любил рисовать деревья, больше всего он любил быть вместе с деревьями. Он лазил по ним, прислонялся к ним, даже болтал с ними. И очень огорчался, когда ему случалось обнаружить, что не все разделяют его чувства. Один случай особенно запал ему в память: «Над мельничным прудом росла ива, и я научился залезать на нее. Ива принадлежала, кажется, мяснику, жившему на Стратфорд–Роуд. И в один прекрасный день ее спилили. С ней ничего не сделали: просто спилили и оставили валяться. Я этого никак не мог забыть».
В часы, свободные от занятий, мать в изобилии снабжала его детскими книжками. «Алиса в Стране чудес» Рональда очень позабавила, хотя пережить такие же приключения, как Алисе, ему не хотелось.
«Остров сокровищ» ему не понравился, так же как сказки Андерсена и «Крысолов из Гамельна» [Стихотворение, написанное для детей Робертом Браунингом (1812—1889). В основу стихотворения легла распространенная средневековая легенда]. А вот книжки про индейцев он любил и мечтал научиться стрелять из лука. Еще больше ему нравились сказки про Керди Джорджа Макдональда [Джордж Макдональд (1824—1905) – англо–шотландский детский писатель, один из основоположников жанра фэнтези; автор ряда сказок, проникнутых христианской символикой. В число этих сказок входят и сказочные повести о Керди («Принцесса и гоблин», 872, и «Принцесса и Керди», 1883), ставшие классикой детской литературы. Макдональд оказал большое влияние на Г. К. Честертона, К. С. Льюиса и Дж. Р. Р. Толкина], действие которых происходит в далекой стране, где в горах бродят уродливые и злые гоблины. Восхищался он и легендами артуровского цикла. Но больше всего Рональду пришлись по душе «Цветные книги сказок» Эндрю Лэнга [Эндрю Лэнг (1844—1912) – английский поэт, переводчик, фольклорист и антрополог, составитель 12 сборников детских сказок, именуемых по цвету обложки («Синяя книга сказок», «Красная книга сказок» и т. п.), куда вошли как сказки разных народов, так и пересказы наиболее известных мифов], в особенности «Красная книга сказок», потому что в ней, ближе к концу, он нашел лучшую историю, которую когда–либо читал. Это была повесть о Сигурде, который убил дракона Фафнира, – легенда причудливая и захватывающая, действие которой происходило на безымянном Севере. Сколько раз Рональд ни перечитывал ее, каждый раз он не мог оторваться. «Я всей душой мечтал о драконах, – скажет он много позднее. – Нет, конечно, я, со своими скромными силенками, вовсе не жаждал, чтобы они жили где–нибудь по соседству. Но мир, где существовал Фафнир, хотя бы воображаемый, казался богаче и прекраснее, несмотря на опасность».
Но просто читать о драконах ему было мало. Когда Рональду исполнилось лет семь, он принялся сочинять свою собственную сказку про дракона. «Я ее начисто забыл, кроме одной филологической подробности, – вспоминал он. – Моя мать насчет дракона ничего не сказала, но заметила, что нельзя говорить «зеленый большой дракон», надо говорить «большой зеленый дракон». Я тогда не понял почему и до сих пор не понимаю. То, что я запомнил именно это, возможно, важно: после этого я в течение многих лет не пытался писать сказок, зато был всецело поглощен языком».
В Сэрхоуле лето сменялось осенью, осень – зимой, зима – весной, а весна – снова летом. Праздновали бриллиантовый юбилей королевы Виктории, и колледж на вершине холма в Моузли украсился разноцветными фонариками. Мэйбл как–то удавалось кормить и одевать мальчиков на свои скудные средства, к которым время от времени прибавлялись вспомоществования от Толкинов или Саффилдов. Хилари все больше становился похож на отца, в то время как Рональд унаследовал внешность Саффилдов, их худощавое, вытянутое лицо. Временами его тревожил странный сон: огромная волна вздымается к небу и неотвратимо надвигается, накрывая собой деревья и зеленые поля, стремясь поглотить его и все, что вокруг. Этот сон повторялся на протяжении многих лет. Позднее Толкин называл его «мой комплекс Атлантиды». Однако обычно он спал хорошо, и сквозь повседневные заботы гнетущей бедности сияла его любовь к матери и к окрестностям Сэрхоула, сулящим приключения и утехи. Он не уставал наслаждаться сельскими радостями, с каким–то отчаянным самозабвением, словно предчувствуя, что придет день – и всего этого не станет. И этот день пришел, и довольно скоро.
Со дня смерти мужа все большую роль в жизни Мэйбл Толкин играло христианство. Каждое воскресенье Мэйбл брала мальчиков с собой в «высокую» англиканскую церковь. А однажды в воскресенье Рональд с Хилари обнаружили, что идут незнакомой дорогой совсем в другую церковь: собор Святой Анны на Алсестер–Стрит, в трущобах близ центра Бирмингема. Этот собор принадлежал римско–католической церкви.
Мэйбл уже давно подумывала о том, чтобы перейти в католичество. К тому же она решилась на этот шаг не в одиночку. Ее сестра Мэй Инклдон вернулась из Южной Африки. У нее тоже было уже двое детей. Ее муж Уолтер остался в Африке заканчивать свои тамошние дела. И Мэй решила втайне от мужа перейти в католичество. Весной 1900 года Мэй и Мэйбл прошли катехизацию в соборе Святой Анны и в июне того же года были приняты в лоно римской церкви.
На них обрушился гнев всего семейства. Их отец, Джон Саффилд, был воспитан в лоне методистской школы, а теперь принадлежал к унитарной церкви. И то, что дочь его стала «паписткой», он воспринял как личное оскорбление. Супруг Мэй, Уолтер Инклдон, считал себя столпом местной англиканской церкви и не понимал, как Мэй могла переметнуться на сторону Рима. Вернувшись в Бирмингем, он запретил жене посещать католическую церковь, и той пришлось повиноваться. Ища утешения – а может быть, и из мести, – она обратилась к спиритуализму.
После смерти Артура Толкина Уолтер Инклдон оказывал Мэйбл небольшую материальную поддержку. Разумеется, теперь об этом не могло быть и речи. Вместо этого и Уолтер, и все прочие члены ее семьи стали относиться к ней враждебно, не говоря уже о Толкинах, большинство которых были баптистами и ненавидели католичество. Напряжение, вызванное этой враждебностью, а также дополнительные финансовые трудности плохо повлияли на здоровье Мэйбл. Но ее верность своей новой конфессии осталась неколебимой, и, невзирая на сопротивление семьи, Мэйбл принялась наставлять Рональда и Хилари в католической вере.
А тем временем Рональду пришла пора поступать в школу. Осенью 1899–го, в возрасте семи лет, ему пришлось сдавать вступительные экзамены в школу короля Эдуарда, которую закончил его отец. Экзаменов он не выдержал – возможно, его мать была чересчур снисходительной наставницей. Однако год спустя он снова держал экзамены – и поступил и в сентябре 1900–го начал посещать школу. Дядя Толкин, который, в отличие от прочих родственников, относился к Мэйбл благодушно, согласился взять расходы на себя. Плата за обучение составляла тогда двенадцать фунтов в год. Школа находилась в центре Бирмингема, в четырех милях от Сэрхоула, и в первые несколько недель Рональду приходилось проделывать большую часть пути пешком, потому что его мать не могла оплачивать поездки на поезде, а трамваи так далеко не ходили, разумеется, долго это длиться не могло, и Мэйбл поняла, что деревенскому житью, увы, пришел конец. Она сняла дом в Моузли, ближе к центру города и рядом с трамвайной линией, и в конце 1900 года они с мальчиками собрали свои пожитки и оставили коттедж, где были так счастливы в течение четырех лет. «Всего четыре года, – писал Рональд Толкин в старости, оглядываясь назад, – но сейчас мне кажется, что это была самая долгая часть моей жизни, оказавшая наибольшее влияние на формирование моей личности».
Путешественник, прибывший в Бирмингем по Лондонской и Северо–Западной железной дороге, не мог бы не заметить школы короля Эдуарда, что величественно высилась над дымом и чадом вокзала Нью–Стрит. Тяжеловесное, почерневшее от сажи здание в неоготическом стиле, напоминающее столовую богатого оксфордского колледжа, было творением Барри, автора заново отстроенного здания парламента [Школу, построенную Барри, снесли в тридцатых годах XX века после того как школа переехала в новый комплекс. (Прим. авт.)]. Школа, основанная Эдуардом VI, имела неплохой постоянный доход от дарственных вкладов и пожертвований, и директора могли позволить себе открывать филиалы в более бедных районах города. Но тем не менее образовательные стандарты самой школы короля Эдуарда, «Высшей школы», не имели себе равных в Бирмингеме, и многие из тех сотен мальчиков, что протирали штаны на ее скамьях, разбирая Цезаря под свистки паровозов под окнами, позднее получали награды в ведущих университетах страны.
К 1900 году школе короля Эдуарда сделалось уже тесновато в старом здании. Там было многолюдно и шумно – устрашающая перспектива для мальчика, выросшего в тихой деревне. Неудивительно, что большую часть своего первого триместра Рональд Толкин не посещал школу по причине болезни. Но постепенно он привык к толкучке и шуму, и ему даже стало нравиться в школе, хотя особых способностей он пока что не проявлял.
А вот домашняя жизнь сильно отличалась от того, к чему он привык в Сэрхоуле. Его мать сняла домик на центральной улице в пригороде Моузли, и вид из окна сильно отличался от уорикширского сельского пейзажа, причем не в лучшую сторону: трамваи, ползущие в гору, унылые лица прохожих и вдалеке – дымящие трубы фабрик Спаркбрука и Смолл–Хита. Рональду дом в Моузли запомнился как «ужасный». Но не успели они устроиться, как пришлось снова переезжать: здание собирались снести, чтобы построить пожарную часть. Мэйбл подыскала жилье меньше чем за милю оттуда в ряду соединенных между собой стандартных домов позади станции Кингз–Хит. Таким образом, они очутились неподалеку от дома ее родителей. Но выбор Мэйбл был продиктован тем, что на той же улице стояла новая римско–католическая церковь Святого Дунстана, снаружи отделанная рифленым железом, а изнутри – смолистой сосной.
Рональд по–прежнему отчаянно тосковал по Сэрхоулу, но новый дом отчасти его утешил. Зады дома в Кингз–Хите выходили на железную дорогу, и жизнь оттенялась ревом паровозов и грохотом товарных вагонов на угольном складе. Однако склоны выемки, по которой проходила железная дорога, поросли травой, и там можно было собирать цветы и травы. И еще кое–что привлекало его внимание: странные названия на стенках вагонов с углем, стоявших на запасных путях внизу. Он не знал, как читаются эти названия, но было в них нечто притягательное. Так и вышло, что, пытаясь разобрать слова Nantyglo, Senghenydd, Blaen–Rhondda, Penrhiwceiber и Tredegar, Рональд узнал о существовании валлийского языка.
Когда мальчик немного подрос, ему случилось побывать в Уэльсе. И, глядя на названия проносящихся мимо станций, он видел слова, которые привлекали его больше, чем все, с какими ему доводилось сталкиваться до сих пор, язык древний и в то же время живой. Рональд попытался разузнать о нем побольше, но все валлийские книги, какие ему удалось добыть, оказались непонятными. Но все же это знакомство, каким бы кратким оно ни было, открыло ему путь в иной языковой мир.
А матери его тем временем не сиделось на месте. Ей не нравился дом в Кингз–Хите, она обнаружила, что ее не устраивает церковь Святого Дунстана. Поэтому она опять пустилась на поиски и снова начала брать сыновей на длинные воскресные прогулки, присматривая храм божий, который бы ей подошел. И вскоре Мэйбл обнаружила Бирмингемскую Молельню, большой храм в пригороде Эджбастон, находившийся под покровительством общины священников. Неужели среди них не найдется для нее друга и понимающего духовника? Вдобавок при Молельне имелась классическая школа Святого Филиппа, которой руководило местное духовенство. Плата за обучение в школе была ниже, чем в Школе короля Эдуарда, и к тому же здесь ее сыновья могли воспитываться в католическом духе. Решающим фактором послужило то, что совсем рядом со школой сдавался внаем дом. А потому в начале 1902 года Мэйбл с мальчиками переехали из Кингз–Хита в Эджбастон, и Рональд с Хилари, которым теперь было десять и восемь лет, были зачислены в школу Святого Филиппа. Бирмингемская Молельня была основана в 1849 году Джоном Генри Ньюменом [Джон Генри Ньюмен (1801—1890) – влиятельный церковный деятель и писатель, возглавивший так называемое «Оксфордское движение», направленное на реформацию англиканской церкви в духе католицизма; впоследствии перешел в католичество и стал кардиналом–диаконом], в ту пору лишь недавно обратившимся в католическую веру. В ее стенах он провел последние четыре десятилетия своей жизни и умер там же в 1890 году. Дух Ньюмена все еще витал в высоких залах Молельного дома на Хэгли–Роуд, и в 1902 году в общине еще оставалось немало священников, которые были его друзьями и служили под его началом. Одним из таких священников был отец Френсис Ксавье Морган, сорока трех лет от роду. Вскоре после того, как Толкины переехали в этот район, он взял на себя обязанности приходского священника и зашел навестить своих новых прихожан. В нем Мэйбл обрела не только понимающего духовника, но и бесценного друга. Отец Френсис Морган, наполовину валлиец, на четверть англичанин, на четверть испанец (семья его матери занимала большое место в торговле хересом), не блистал выдающимся интеллектом, но зато был настоящим кладезем доброты, юмора и отличался экспансивностью, которую многие приписывали его испанским корням. Это был человек очень шумный, разговорчивый и эмоциональный. Дети его поначалу побаивались, но, узнав поближе, привязались к нему всей душой. И вскоре отец Френсис сделался неотъемлемой частью дома Толкинов.
Если не считать этой дружбы, жизнь Мэйбл и ее сыновей ненамного улучшилась в сравнении с предыдущими двумя годами. Жили они в доме 26 по Оливер–Роуд, и дом этот был немногим приличнее трущобы. Вокруг – сплошные нищие переулки. Да, до школы Святого Филиппа была всего пара шагов – но разве можно было сравнить ее голые кирпичные классы с неоготической роскошью школы короля Эдуарда? Да и образовательный уровень уступал «эдуардовскому». Рональд вскоре без труда обогнал своих одноклассников, и Мэйбл поняла, что школа Святого Филиппа не даст ее сыну того образования, которого он заслуживает. Поэтому она забрала Рональда из школы и снова взялась учить его самостоятельно – и не без Успеха: несколько месяцев спустя он заслужил благотворительную стипендию в школе короля Эдуарда и осенью 1903–го вернулся туда. Хилари тоже забрали из школы Святого Филиппа, но сдать вступительные экзамены в школу короля Эдуарда он пока что не сумел. «Это не моя вина, – писала его мать родственнице. – И нельзя сказать, что ему не хватает знаний; но он вечно витает в облаках и пишет очень медленно». Так что младшего сына она пока что продолжала обучать дома.
В школе короля Эдуарда Рональда приняли в шестой класс, где–то в середине между самым младшим и самым старшим. Теперь он учил греческий. О своем первом знакомстве с этим языком он впоследствии писал так: «Греческий очаровал меня своей текучестью, подчеркиваемой твердостью и своим внешним блеском. Но немалую часть обаяния составляли его древность и чуждость (для меня). Он не казался родным». Шестой класс вел энергичный человек по имени Джордж Бруэртон, один из немногих учителей, которые специализировались на преподавании английской литературы. Этого предмета в программе считай что не было, а то, что было, сводилось к изучению пьес Шекспира. Рональд вскоре обнаружил, что Шекспира он «от души ненавидит». Позднее он вспоминал горькое «разочарование и отвращение своих школьных дней, вызванное тем, как бездарно распорядился Шекспир «приходом Бирнамского леса на Дунсинанский холм». Я жаждал придумать такие обстоятельства, в которых деревья действительно могли бы пойти в бой». Но если Шекспир ему не понравился, то кое–что другое пришлось ему по вкусу. Его классный наставник Бруэртон был прирожденным филологом–медиевистом. Ярый пурист, он требовал, чтобы школьники обходились простыми, старыми, исконно английскими словами. Если, к примеру, мальчик произносил слово «manure» («компост»), Бруэртон немедленно прерывал его:
– «Компост»? Что за «компост»? Это называется – «muck», «дерьмо». Повторите три раза! Дерьмо, дерьмо, дерьмо! [В данном случае проблема состоит в том, что, в то время как слово «manure» – литературное, и притом французского происхождения, слово «muck» не только германское (точнее, скандинавское), выглядящее как исконно английское, но еще и достаточно грубое. Таким образом, достойный наставник готов был пожертвовать благопристойностью ради чистоты английского языка. Исследуя тексты Толкина, мы не раз столкнемся с тем фактом, что он последовательно избавлялся от французских заимствований в своих текстах, невзирая на то, что они вросли в английский язык так же прочно, как вросли в Русский язык многочисленные иностранные заимствования]