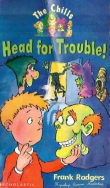Текст книги "И нитка втрое скрученная"
Автор книги: Гума Ла
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Ну кто там?
В узкой полосе тусклого желтого света показался прямоугольник лица: сморщенная коричневая кожа, как скомканная оберточная бумага, серые клочья волос, глаз, будто плавающий в лужице какой-то жидкости, щель рта и рука, вцепившаяся в край двери, рука, похожая на коричневую куриную лапу.
– Я хочу видеть Сюзи, – сказал Ронни, проклиная про себя и дождь, и эту отвратительную старуху. – Она дома? Скажите ей, что это Ронни.
– Ее здесь нет, – злобно проскрипела старуха. – Убирайся отсюда. Чего тебе надо от Сюзи? – А где-то за ее спиной шипела под тупой иглой граммофонная пластинка.
– Я хочу ее видеть, – настаивал Ронни. – Скажите ей...
– Парень, я сказала, что ее здесь нет. Проваливай, проваливай.
Рональд открыл было рот, чтобы сказать что-то еще, но дверь захлопнулась у него перед носом, и он услышал звук защелкнувшегося замка и вой убыстряющегося пения, очевидно, не снимая пластинки, заводили граммофон. Он поднял руку, чтобы снова постучать, но тут же раздумал. Чертова старая шлюха! Ненависть кипела в нем, а голос за дверью с металлическим скрежетом затянул что-то про Гавайи.
"Чертова сука, пусть она лучше не водит меня за нос", – подумал Рональд, отходя от двери. Пусть лучше не якшается с другими мужчинами, не то он ей покажет. Он уходил обратно по липкой грязи, спотыкаясь о битый кирпич. Бешенство и досада клокотали в нем, и все туже завязывался в груди железный узел ненависти.
Под моросящим дождем он перешел улицу. Остановился под эвкалиптом, с которого лило, как под открытым небом. Бьюсь об заклад, она там крутит свой чертов граммофон, ждет какого-нибудь... Он стоял, съежившись от холода, сжимая одной рукой воротник куртки. Позади залаяла и зарычала собака, заметалась на цепи. Рональд вышел из-под дерева, не думая о собаке, и остановился на краю искореженной мостовой. Он решил ждать.
Через некоторое время ему захотелось курить, и, нервным движением нащупав смятую пачку, он вытащил сигарету из кармана. Он осторожно зажег ее, прикрывая от дождя ладонями. Но через минуту сигарета расползлась от воды в коричневое табачное месиво, и он со злостью швырнул ее в глину. Он все стоял, наблюдая за домом, злость не отпускала его, мокрые пальцы нащупывали в кармане складной нож. Дождь промочил насквозь его одежду, он чихнул и вытер верхнюю губу мокрой рукой. Он все еще мучительно думал об этой девушке, Сюзи, когда увидел, как чья-то массивная фигура перебралась через разбитую улицу и остановилась перед домом. Мужчина был одет в старое пальто, он притоптывал на пороге, чтобы согреться. Вскоре дверь приоткрыли, и в мокрую тишину улицы издевкой просочилась музыка из граммофона. Мужчина сказал что-то старухе, дверь широко распахнулась, и он быстро скрылся в доме.
Там в доме одна половица разболталась и скрипела, когда на нее наступали. Пол был грязный, перепачканный глиной, на нем сохранились еще кое-где остатки линолеума, как содранные струпья громадной раны. Комната была загромождена обветшалой, покоробленной мебелью, сдвинутой сюда, когда остальная часть дома обрушилась. Доски на потолке прогнулись, в щели между ними напихали скомканные газеты. Повсюду виднелись громадные, причудливых очертаний пятна сырости и клеевая краска отставала от стен или вздувалась мокрыми пузырями.
Старуха плелась в кухню и громко брюзжала.
– Одно у ней на уме – мужики. Не тот, так другой. Вечно мужики, мужики, мужики.
На ней было старое, длинное, грязное платье, доходившее ей до щиколоток, и вконец изношенные шлепанцы, которые хлюпали по полу, когда она шла, а один из них был такой дырявый, что открывал ноготь большого пальца ноги, желтый, изломанный, грязный, словно выкопанный из древнего могильника.
Сюзи Мейер, которая заводила граммофон, стоявший на столе около неприбранной постели, огрызнулась на старуху:
– Заткнись! Прикуси язык! Не твое это собачье дело!
Роман, стаскивая старую солдатскую шинель, расхохотался. На шинели недоставало нескольких пуговиц, оторванные погоны болтались. Сукно потемнело от дождя.
Сюзи поставила пластинку, и искаженный голос певца вырвался из громадной трубы. Она села на край своей неопрятной постели и стала слушать.
– Скажи старухе, чтобы принесла выпить. Чертовски холодно, – сказал Роман.
– Скажи ей сам, – ответила Сюзи. – Ты же видишь – я слушаю.
– Хорошо. – Он осклабился. Гнилые зубы показались на обрюзгшем, расплывшемся, покрытом давно не бритой щетиной лице. Он пошел к ней. – Снова пластинки?
– Отстань. Дай послушать.
– Пластинки, – проворчал он и двинулся к кухонной двери, чтобы попросить у старухи бутылку дешевого вина.
Девушка сидела на кровати, слушала гнусавое пение, на лице у нее был написан восторг. Это было грубо раскрашенное лицо местной красотки, выступающие скулы лоснились слоем румян, ресницы топорщились под грузом краски, толстые губы рдели двумя аляповатыми полосами губной помады неподходящего к щекам оттенка, а жесткие волосы были накручены на пластмассовые трубочки-бигуди, делавшие ее похожей на какую-то нелепую куклу-уродца. Она сидела как завороженная и впитывала в себя скрипучие звуки про любовь и лунный свет.
Когда Роман вернулся в комнату с бутылкой в руке, пластинка прокрутилась до конца. Он сказал:
– Ну как, Сюзи?
– Я купила новые песни Бинга, – сказала девушка, снова взявшись за ручку граммофона. – Хорошо бы у нас было электричество и радиоприемник.
Роман закинул голову назад и начал пить прямо из горлышка.
– Где только ты монету берешь на свои пластинки? Иисусе, у меня вот нет даже на приличную выпивку.
– Не твое дело, – огрызнулась она. – Ты что, мой муж? – И уже спокойно сказала: – Две самых последних пластинки Бинга... Я хотела еще купить Фрэнки Лэйна, но песня мне не очень понравилась.
Роман отхлебнул еще вина и спросил, искоса глядя на Сюзи:
– Слушай, что у тебя с этим щенком, Ронни Паулсом?
– А что? – Она вскинула пеструю, в валиках бигуди голову, насмешливо прищурила подведенные глаза.
– Лучше ты это брось, со щенками крутить.
Она расхохоталась пронзительным, жестким смехом, издавая звуки, средние между карканьем и визгом, и затем презрительно сказала:
– Заруби себе на носу, я могу ходить с кем пожелаю, слышишь? А если ты уж такой щепетильный, то сидел бы дома со своей женой и детьми.
– Кончай шуметь, – ответил Роман и снова отпил из бутылки. Он терпеть не мог, когда ему напоминали о его жене и детях. В этой отвратительной комнате было холодно и неуютно, но все лучше того, что у него дома. Он захмелел и прислонился спиной к рассохшемуся буфету. С противоположной стены из грязного проржавевшего зеркала на него смотрели его собственные налитые кровью глаза.
– Я слыхала, этот Чарли Паулс отделал тебя как следует? – сказала девушка с издевкой.
Роман тупо уставился на нее.
– Он? Меня? Отделал меня?
– Jа. Да и по лицу видно. Вон как он тебя разукрасил.
– Я еще доберусь до него, – сказал Роман угрюмо. – А этому щенку, младшему Паулсу, переломаю его щенячью шею.
Девушка снова засмеялась. Она взяла сигарету из пачки, лежавшей около граммофона, и закурила, выпуская клубы дыма и насмешливо разглядывая круглоголовую развалину, прислонившуюся к старому буфету. На улице по-прежнему шумел дождь. Она снова начала крутить ручку граммофона.
– Ты не можешь оставить эту штуку в покое? Лучше поговорим о том, о сем, а?
– Я знаю, что ты называешь поговорить, – ответила Сюзи. – Сколько у тебя?
Он не ответил, и она вытащила из конверта новую пластинку и поставила ее на диск, игла зашипела, побежала, и снова послышалась музыка.
– Бинг – это класс! Я одну картину с ним четыре раза смотрела.
Роман не сводил с нее угрюмых глаз, а она сидела, забыв обо всем, упиваясь вырывающимися из трубы звуками голоса, искаженного сработанной пружиной, тупой иглой и негодной мембраной.
– Класс! – повторила она со вздохом. – Жаль только, у нас нет приемника.
15
Роман жил со своей семьей в постройке, которая была не то сараем, не то курятником, не то собачьей конурой. Жалкое это сооружение к тому же едва держалось. И когда всем сразу нужна была крыша над головой, он сам, его жена и одиннадцать ребятишек набивались внутрь, как кролики в клетку. Когда же такой необходимости не возникало, дети слонялись вокруг, одетые в грязные кофты, старые рубахи, порванные майки. Больше ничего не было. От голода у них распухли животы, и они целыми днями рылись в земле, как куры, выискивая лакомые отбросы: заплесневелые хлебные корки, обглоданные кости, грязно-липкие банки из-под сгущенного молока. Мать сидела на пороге, высохшая, как верхушка поваленного ветром дерева.
Постоянной работы у Романа не было, квалификации тоже. Сначала он еще перебивался от работенки к работенке, зарабатывая по нескольку шиллингов. Но потом, отчаявшись, увидя, что так ему все равно не прокормить свое многочисленное потомство, стал заниматься мелким воровством, обирая тех, кто был слабее его. Иногда в этом занятии он переступал границы и оказывался за решеткой.
В промежутках между очередными отсидками он пьянствовал и все свои несчастья вымещал на жене. Думать и соображать он был неспособен, вот и лупил того, кто оказывался к нему всех ближе, как тонущий, который отталкивает и бьет по головам своих товарищей по несчастью, чтобы только дотянуться до сомнительного залога спасения – плывущего по волнам весла.
Он пропивал теперь все, что ему удавалось выманить, украсть или иной раз заработать. А когда не было денег на самое дешевое вино, он пил шестипенсовый денатурат.
Когда он бывал дома, то все, кто жил поблизости, слышали неистовый шум его диких выходок. Он бил жену палкой по голове, кулаками по лицу. Он ломал ей руки, ребра. Когда он уставал бить ее, он порол детей. Он почти всегда пребывал в состоянии пьяного бешенства, а когда не было вина и средств добыть его, он был опасен, как старый голодный волк, готовый броситься на любого, кто попадался ему на пути.
Когда-то его жена была даже привлекательна. Но Роман вышиб и переломал ей зубы, а лицо измолотил, превратив в бесформенный блин шрамов. Какую бы любовь она к нему ни питала когда-то, все чувства давно уступили место ненависти; поначалу она даже дралась с ним, отбивалась. Но с годами непрерывные избиения и вечная нищета иссушили даже ненависть, и женщина стала, как тряпичная кукла, которую долго таскал и трепал дворовый пес, пока, наконец, не вытряхнул из нее опилки, и держит теперь в зубах лишь грязные обрывки ленты. Она перестала сопротивляться, драки в их доме больше уже не были завлекательным зрелищем для соседей, и на них махнули рукой пусть дерутся, сколько душе угодно.
Но, точно по волшебству, жизнь не умирала в чреве женщины. Кажется, когда на нее ни взглянуть – она либо на сносях, либо с новорожденным на руках. Это пугало и бесило Романа еще больше. Его жена беременела безотказно, как по часам. И рожала так же гладко и мягко, как шприц гонит смазку: нажмешь – и смазка выходит наружу. И поэтому, кроме шума драк, в доме всегда слышался детский плач.
Он пробовал подступиться к известным в локации женщинам свободных нравов, чтобы только избежать общения с женой. Но он был нищ и жалок, его прогоняли, и тогда он возвращался домой и набрасывался на жену. В то утро, когда Чарли Паулс отделал его, он вернулся в свою хибару и зверски избил жену – в качестве компенсации за собственное поражение.
Чем это кончится, никто не знал. Да никому, собственно, и дела не было. Своих бед хватало.
16
Дождь прекратился; повсюду была вода, между промокшими хижинами образовались стоячие озера, дорожки тянулись бусами черных луж, нанизанных кое-как на влажные нити глины, с мокрых листьев стекали капли воды и морзянкой барабанили по сочащимся влагой крышам. Люди пробирались по дорожкам, переправлялись через лужи или продирались через липкую глину. Дети были счастливы: они шлепали босиком, запускали флотилии щепок через коричневые озера. В воздухе стоял запах дождя, смешанный со всеми остальными запахами локации, растворявшийся во всепоглощающем горьком аромате нищеты и запустения.
Когда Чарли вошел во двор своего дома, он сразу понял, что случилась какая-то беда. Здесь навис мрак, но иной, чем мрак непогоды, и Алфи с Рональдом слонялись по двору, хотя оба давно уже должны были уйти на работу. На пороге кухни стояла Каролина, большая, отяжелевшая, на ее расплывшемся, кукольном лице застыло волнение.
– В чем дело? – спросил Чарли. – По какому случаю не на работе, бездельники?
Альфред посмотрел на него глазами, полными тоски и ужаса, а Рональд, глухо, но прямо сказал:
– Отец. Он только что умер. – И отвернулся, насупившись, и еще глубже засунул руки в карманы брюк.
Чарли обвел их испуганным взглядом и прошептал:
– Нет. Нет. Да вы что?!
Он бросился в дом, отпихнув стоявшую в дверях Каролину, и ее опухшее лицо сразу растянулось в гримасе плача. Вбежав в кухню, Чарли услышал, как младший братишка Йорни плачет в их комнате, а из-за рваной занавески над входом в комнату родителей доносится странное унылое песнопение.
Это мать. Она сидела на стуле у кровати, ее руки лежали на коленях, а тело легонько раскачивалось взад и вперед в такт пению или причитанию. Слова падали сухие, как песок пустыни, на голову было накинуто черное покрывало, спина ее тихо покачивалась, а глаза смотрели невидяще, прямо в стену.
– Ма, – позвал Чарли.
– Твой отец ушел от нас, – проговорила она. – Твой отец ушел и больше никогда не вернется. Он был для меня хорошим мужем, и всю жизнь он работал, чтобы прокормить нас, и он дал мне детей и помогал их растить. Он был добр со мной и со своими детьми, и он верил в нашего господа всемогущего. Он жил и работал и не делал ничего, что дурно в глазах господа. Он работал для своей семьи, а когда уже не мог больше работать, он лежал и ждал, когда Иисус призовет его к себе. Теперь он ушел к богу, ушел от болезни и голода, ушел отдохнуть от своих трудов. Он нес свой крест, как и господь наш Иисус, и теперь ноша упала с его плеч...
Сухой, без слез, голос причитал, и плечи покачивались, у матери не было слез, слова эти были ее слезами.
Чарли посмотрел на кровать, и горло у него сжалось. Отец лежал теперь совершенно спокойный, под ровным, неподвижным покрывалом, а лицо его, темное от щетины и застывшее, как маска, было обращено вверх из грязных подушек, и слова матери падали вокруг.
– Ма, – снова позвал Чарли.
Тихие причитания кончились, раскачивающаяся фигура замерла. Несколько минут мать сидела молча, но вот бразды правления снова оказались в ее руках, и она заговорила.
– Отца надо обмыть, – сказала она. – Пошли малыша Йорни с ведром, пусть принесет воды. Кредитная книжка на полке в кухне.
– Хорошо, ма, – мягко ответил Чарли.
– А Ронни пошли за доктором. Он должен выписать справку, правда? По дороге он может сказать мистеру Сэмпи, который собирает каждую неделю похоронные взносы. Похоронная твоего отца выплачена. Я рада, что хоть это нам удалось.
– Хорошо, ма.
Она вздохнула.
– А ты сходил бы и позвал миссис Нзубу, чтобы она помогла мне. Она захочет помочь. Она помогала мне на свадьбе Каролины, и она обидится, если я не попрошу ее помочь сейчас. И сообщи брату Бомбате, и твоему дяде Бену, и другим людям. Людям надо сказать, я думаю.
– Хорошо, ма, – сказал Чарли и пошел к двери. Но остановился и хриплым голосом добавил: – Ма, ты уж не очень убивайся, а?..
– Обо мне не беспокойся, – ответила мать, не обернувшись. – Пойду-ка уложу Каролину. Ей нельзя сейчас волноваться.
Когда Чарли ушел, она встала, подошла к комоду и долго рылась в нем, пока не отыскала старую картонную коробку из-под конфет. Коробка была полна до краев рваными потрепанными бумажками – свидетельствами о браке, о рождении, рецептами, табелями воскресной школы, целым архивом большой семьи. Она достала похоронную страховую книжку, на которой значилось имя Фредерика Паулса, остальные бумаги сложила обратно в коробку. Она открыла потертый кошелек, вынула два пенни. Затем, склонившись над кроватью, положила монеты на глаза старого Паулса. Руки его были сложены под покрывалом. После этого она полезла в шкаф за чистой рубашкой.
В кухне тихонько плакала Каролина.
– Как ты себя чувствуешь, детка? – спросила мать.
– Да вроде ничего, мама, – ответила Каролина отрешенно. Она вытерла слезы, и на лице остались грязные полосы.
– Пойди ляг, – сказала мать, – и попроси Алфи посидеть с тобой. Вам пока здесь нечего делать. У Алфи вычтут день, если он пропустит работу?
– Не знаю, ма.
– Ну, ладно. Иди ложись пока. А я разведу огонь.
На улице небо по-прежнему было серо-стального цвета, а деревья стояли мокрые от дождя. Откуда-то из-за заборов доносились чьи-то слова, люди разговаривали, закатывались лаем собаки. Позади дома по улице проехала телега, раскачиваясь и подпрыгивая в глиняной колее и залитых водой ямах и выбрасывая из-под колес маленькие фонтанчики грязной воды. Телега была нагружена дровами, прикрытыми кусками мокрой мешковины, и босой мальчик шел следом за повозкой, следя, чтобы поленья не падали на землю. Наверху на дровах, нахохлившись от холода, сидел усатый старик с изможденным лицом пророка и то и дело подстегивал лошадь. Телега тащилась по дороге, а одно из колес издавало резкие, высокие, мучительные стоны.
Во дворе послышались шаги, и в дверях кухни появилась женщина с заплаканным взволнованным лицом. Под тяжестью ее шагов заскрипел и пошатнулся дом.
– Доброе утро, Нзуба, – сказала мать из-за печки.
Представьте себе массу черного смородинного желе, разлитого во множество сообщающихся между собой овалов, сфер, эллипсов и прочих разных выпуклостей, являющих собой голову, торс, руки и ноги. Облачите это желе в широкие одежды, стираные-перестираные и снова выпачканные, закапанные салом и супом, напяльте поверх платья мужское пальто, старое и расползающееся по швам, решительно отказывающееся застегиваться спереди, мужские вытянутые, перештопанные и все равно дырявые носки на слоноподобных икрах, обуйте эту фигуру в разбитые, расхлябанные мужские же ботинки со свалки – и вы получите в результате миссис Нзубу.
Когда она говорила или улыбалась, ее рот выглядел как раздувающийся и сжимающийся пузырь на кипящей поверхности шоколадного бланманже. Когда она двигалась или шевелила хотя бы одним пальцем, вся пышная громада ее тела приходила в движение, оно дергалось, колыхалось и дрожало, точно миллионы дряблых маленьких пружин начинали свое действие под неровной поверхностью кожи.
Увидев мамашу Паулс, она воскликнула:
– Ай, ай, Чарли только сейчас сказал мне. Ай, и не стыдно вам? Мне так жаль, Паулс.
– Dankie. Спасибо, Нзуба, – мягко ответила мать. – Я рада, что вы можете мне здесь немного помочь.
– Мы должны помогать друг другу. И не стыдно вам... – говорила женщина, вытирая рукавом пальто слезу. – Было очень плохо, Паулс?
– Нет, – ответила мать, ворочая кочергой угли. – Он отошел спокойно. Я сидела там рядом с ним, он как раз поел немного супа, со вчера у меня осталось. Он вдруг посмотрел на меня и говорит: "Рейчи, – он меня всегда так звал, знаете ли, – Рейчи, как дети?", и я сказала: "Отец, с ними все в порядке. Чего ты беспокоишься?" И он сказал еще: "Я бы хотел, чтобы они жили в другом доме. Вроде тех домов с черепичной крышей". Я говорю: "Зря ты беспокоишься насчет дома", – и он посмотрел на меня и закрыл глаза. Потом он как-то вроде вздохнул, и сразу у него заклокотало в горле, и вот так все и кончилось. – Мать минуту помолчала, вспоминая, как все это было, а миссис Нзуба утирала слезы.
– Ну, Паулс, – сказала она, хлюпая носом, будто у нее был насморк. – С тобой твои дети.
– Да, дети, – вздохнула мать. – Дети. Но я не знаю, Нзуба. С семьей как будто что-то происходит. Да, наверно, это во всех семьях. Младший, Йорни, не хочет больше ходить в школу, слоняется без дела, прогуливает. Целый день с другими детьми роется на свалках. Ронни совсем от рук отбился, и с каждым днем с ним все труднее. Да и что думает Чарли, я тоже не знаю.
– Верно, – сказала миссис Нзуба сочувственно. – Современные дети.
– Я послала Йорни за водой, – сказала мать. – Ты поможешь мне обмыть старика и по дому? Надеюсь, что Йорни не задержится.
– Немного воды есть у меня дома, – сказала Нзуба. – Она уже согрета. И ждать тогда не надо будет. Есть кого послать?
– Я потом верну тебе, – сказала мать. – Можно послать Алфи.
– Ничего не надо возвращать, – сказала женщина. – Мне приятно, что я могу помочь тебе. Мы живем здесь рядом столько времени.
– Dankbaar, большое спасибо, Нзуба, – ответила мать. – Я так тебе благодарна.
– Не надо меня благодарить. Мы должны поддерживать друг друга. Где Альфред? Я пошлю его ко мне за водой.
17
Вода, вода, вода. И в грязно нависшем небе, и в отяжелевшей земле, в медных кранах, и в железных цистернах. Вода, чтобы сварить кофе, чтобы выстирать лохмотья. Вода, чтобы обмыть покойника. Вода – это драгоценность, и во дворах у тех, в чьи дома проложены водопроводные трубы, выстраивались очереди маленьких оборванцев с ведрами, с банками и кастрюльками. Те, у кого из кранов бежала вода, продавали ее остальным, у кого таких благ не было. Потому что жить-то надо, верно?
– Мистер, мать просит ведро воды до пятницы.
– До пятницы? Ждать двух пенсов до пятницы? Твоя мать, должно быть, рехнулась. Два пенса ведро, плата наличными.
– У матери нет сейчас двух пенсов, поверьте, мистер.
– А я, что ли, в этом виноват? Проваливай, да побыстрее, некогда мне с тобой болтать.
– Эй ты, гад, я первый сюда пришел! Слышишь?
– Пошел ты. Я здесь все время, очередь моя.
– Ах ты!.. Я здесь стою. Спроси ее. Ведь я стою здесь?
– Слушайте вы, маленькие черти, если не умеете вести себя как следует, никто ничего не получит, ясно?
– Миссис, мать просит ведро воды до пятницы.
– Как бы не так! Нет денег, не будет воды. До пятницы ей...
– Эй, послушай! Ты что, за два пенса хочешь получить целую ванну воды? У нас здесь не распродажа, самим не хватает.
– А что? Два пенса – и наливай доверху свою посудину. Разве не так?
– Ах ты, сопляк! Ты еще поговори у меня, нахал ты этакий! Да я тебе сейчас спущу штаны и так всыплю!
– Банка есть банка. О размерах уговору не было.
– Ишь, ловкач какой. Притащил целую ванну и наливай ему до краев?
– Мистер, банка не полная. Долейте, чтоб полная была.
– Ладно, ладно, не ори! Давай сюда!
Вода с шумом, бульканьем, плеском бежит в ведра, банки, кувшины, горшки. Вода, чтобы варить по утрам кофе, вода, чтобы выстирать отцу выходную рубашку. А иной раз даже – чтобы умыться. Вода, чтобы обмыть новорожденного или покойника.
Вода – это прибыль. Чтобы извлечь эту прибыль, тот, кто торгует водой, должен дочиста отмыть в ней свою душу от сострадания. Он должен выполоскать из сердца всякую жалость, до крошки выскрести из себя жесткой щеткой корысти следы сочувствия к ближнему. Надо иметь водопроводный кран вместо сердца, цистерну вместо головы, свинцовые трубы вместо внутренностей.
– Полведра, мистер. У нас только одно пенни.
– Полведра? Полведра. О господи Иисусе, на что мне сдалось одно пенни?
– Ма просит банку воды до завтра, мистер. Ей-богу, мистер, до завтра.
– Скажи своей матери, что до завтра еще дожить надо. Завтра. Что я, по-вашему, миллионер, что ли?
– Боже правый, ну и сквалыга этот человек!
– Сквалыга? Сквалыга. Ты с кем разговариваешь, а? Сквалыга.
– Слушай, будь человеком, дай мальчику воды до пятницы.
– Какое твое дело? Ты, что ли, здесь хозяин? "До пятницы". "До завтра". Да ведь если они сразу не заплатят, от них гроша не дождешься.
– Черт возьми. Нельзя же быть таким, мистер!
– Ну ладно, проваливай. Хозяин нашелся.
– Эй ты, отойди, сейчас моя очередь. Думаешь, если сильный, так тебе все позволено?
– Ну-ка, не драться здесь! Ишь ты.
– У-у! Образина!
– Мы все бедные люди, мистер.
– Я тоже не богач. Что вы думаете я ем? Камни? Траву?
– Мистер, ведро воды.
– Жестянку воды, мистер.
– Скажи: "пожалуйста". Их еще вежливости учи.
18
В доме набилось полно народу, а те, кто не смог протиснуться внутрь, толпились во дворе вокруг старой шелковицы и слушали, как в доме поют молитвы. Мужчины почти все были в своих лучших выходных костюмах, черных или темно-синих, извлеченных из сундуков и тщательно вычищенных. И при черных галстуках. Женщины стояли в шляпах – как и костюмы мужчин, эти шляпы хранились для торжественных случаев, таких, как свадьбы или похороны. Рядом с черными и синими костюмами люди в обычной рабочей одежде чувствовали себя неловко и скромно прятались в толпе. Здесь собрались родственники и соседи, смуглые лица мулатов и черные лица африканцев, все глядели строго и торжественно, потому что перед лицом смерти все едины.
Чарли стоял во дворе и пожимал руки гостям. Его темный костюм, купленный бог весть когда, был тесен в плечах и брюки коротковаты, и он втайне мечтал, чтобы все это поскорее кончилось и можно было переодеться. Рядом с ним стоял Рональд, он выглядел скорее угрюмым, чем печальным, и тоже принимал соболезнования от посетителей.
– Глубоко сочувствую, мой мальчик.
– Бог располагает, на все Его воля.
– Смотри за матерью.
– Не унывай, мальчик.
Чарли улыбался и кивал головой в ответ и провожал гостей к дому.
Возле покойника сидели главным образом женщины. Мужчины курили и тихо разговаривали во дворе в пасмурном свете утра. По временам в дверях кухни возникала давка – кто-нибудь расталкивал стоящих, пробирался внутрь, чтобы выразить свои чувства вдове. Женщины в доме пели скрипуче и нестройно. Другие женщины во дворе цыкали на ребятишек, сновавших вокруг, как щенки.
Ветер лениво завывал в листве, и лица настороженно обращались к свинцово-серому небу.
Чарли увидел Фриду, и его лицо расплылось в улыбке. Мрачная торжественность обстановки сделала всех чужими, как будто смерть, стирая радость с лиц, прятала друзей за незнакомой маской печали. Но увидев эту женщину, он почувствовал тепло, тепло возвращения к жизни, и он сказал, идя ей навстречу:
– Фрида, я думал, что ты сегодня работаешь.
– Я отпросилась у мадам на полдня.
– Ты хочешь пройти в дом?
– Не беспокойся, милый. Я увижу мать после.
Темное, красивое лицо мягко смотрело на него из-под шляпы, которая уже три сезона как вышла из моды и поэтому была выброшена хозяйкой. Она улыбнулась всем вокруг.
– Добрый день, сестрица, – сказал дядя Бен и попытался отвесить ей церемонный поклон, хотя это было и нелегко в жилетке, перетянувшей ему живот. – Печальный час, печальный час.
Он уже выпил стаканчик-другой перед тем, как прийти сюда, и его обычно горестные глаза, казалось, утонули в море отчаяния.
– Я бы хотел, чтобы все это уже кончилось, – сказал Чарли спокойно. Он посмотрел на небо и нахмурился.
– Чарли, – мягко упрекнула его Фрида, – ведь это твой отец.
– Я ничего не могу поделать, – ответил Чарли. Он лукаво улыбнулся Фриде, при ней ему было уже не так тошно. – Я приду сегодня вечером снова, хорошо?
– Фу, Чарли. Ты не должен сейчас говорить об этом.
– Ах, Фрида, Фрида.
– Смотри, люди выходят.
Из дома на двор высыпала толпа людей.
– Подожди здесь, не уходи, – сказал Чарли Фриде.
Он кивнул Ронни и Альфреду, и они вошли в дом. Он, Ронни, Альфред и дядя Бен должны были нести гроб. Протащить гроб в тесные двери им помогли еще двое мужчин. В соответствии с выплаченной папашей Паулсом страховкой похороны, как объяснил агент похоронного бюро мистер Сэмпи, устраивались на двадцать фунтов: катафалк, автомобиль для членов семьи и потом, конечно, гроб.
– Чтоб на нем было его имя, – сказала тихонько мать. – Отец хотел хороший гроб с серебряными ручками и чтобы имя было на серебряной пластинке.
И вот был гроб со сверкающей отделкой, а позади засуетилась, задвигалась толпа. Многие несли венки и букеты цветов. Некоторые женщины плакали, но глаза матери были сухие, суровые под черной накидкой и черной вдовьей повязкой. Толпа заполнила переулок, ступали прямо в залитые водой колеи, и хмурый серый балдахин неба навис над процессией. Гроб установили на катафалк и усыпали цветами. Шофер большого черного автомобиля открыл дверцы.
– Садись сзади, ма, – сказал Чарли. – Каролина и Йорни сядут с тобой. Миссис Нзуба тоже поедет?
– Нет, – ответила мать, влезая в машину. – Она сказала, что останется присмотреть за домом.
– Вот удача, – почти про себя пробормотал Чарли. – Одной этой женщине потребовался бы целый автомобиль. А из тяжеловесов у нас уже есть Каролина.
– Ш-ш, – сказала мать. – Нашел время шутить.
Каролина и Йорни уселись рядом с матерью. Оба плакали, Каролина выглядела уродливой, какой-то нелепой.
– Пусть дядя Бен сядет впереди, – сказала мать. – А ты сядешь?
– Я пойду пешком, с остальными, – ответил Чарли.
– Я тоже пойду, – сказал дядя Бен. – Мужчины могут пойти пешком, я так полагаю.
– Ведь есть еще место, – сказала мать. – Тогда пусть впереди сядет Фрида. Позови ее.
Слова матери обдали Чарли теплом, это значило, что Фрида принята. Он улыбнулся ей, помогая влезть в машину, и тихонько подмигнул, но она мрачно смотрела прямо перед собой, как того требовала торжественная минута.
– Осторожно, пальцы, – сказал шофер и захлопнул дверцы.
Катафалк двинулся, медленно переваливаясь с кочки на кочку по глинистой дороге, а позади громыхала машина. Чарли и другие члены семьи шли за автомобилем, а еще дальше следом за ними потянулась остальная процессия. Все небо от края до края было одна лохматая тяжелая туча.
Кортеж медленно пробирался среди ветхих хижин, мимо молчаливых зрителей по сторонам и выехал наконец на разбитую улицу, которая вела в городское предместье. Шаги зашаркали по разбитой, но твердой мостовой.
Возглавлял шествие, шагая впереди катафалка, мистер Сэмпи, агент похоронного бюро. Это был маленький, коричневый, с шишковатым черепом человечек, похожий на земляной орех. Сам по себе он был веселым и жизнерадостным, однако сейчас, при исполнении служебных обязанностей, он медленно шел, как подобает служителю смерти, с видом скорбным, профессиональным жестом заложив руки за спину; и, видно, гордился своими мешковатыми брюками в полоску и старым, выутюженным фраком, составлявшим всю его униформу.
Рядом с ним шел брат Бомбата. Мелкокурчавый и черный, как жук, он шествовал с важностью, приличествующей его профессии, прижимая под мышкой растрепанную Библию, ноздри его раздувались, лицо было вытянутое, хмурое, ни дать ни взять престарелая лошадь в белом целлулоидном воротничке.
Процессия вступила на улицы предместья.
Через стены и заборы садов чьи-то лица смотрели на похороны. На углу какой-то человек снял шляпу и стоял вытянувшись, словно отдавая честь, пока катафалк проезжал мимо него. Небо было сумрачным, как сама смерть, упали первые капли начинающегося дождя. Когда кортеж достиг кладбища, снова заморосил мелкий дождь.