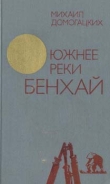Текст книги "Южнее главного удара"
Автор книги: Григорий Бакланов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
ГЛАВА IV
ОШИБКА
К полудню, когда стихло немного, старшина Пономарёв отправился на НП. В другое время он бы послал с обедом повозочного. Но сегодня, после того обстрела, которому подвергся командир батареи на наблюдательном пункте, неудобно было ему, старшине, отсиживаться на огневых позициях рядом с кухней. И вместе с обедом он отправился сам. В своей длинной шинели, взятой на рост больше из тех соображений, что ею теплей укрываться, со строгим, голым и как бы помятым лицом, на котором и в сорок три года почти ничего не росло, он шёл впереди, недоступный никаким посторонним чувствам, кроме чувства долга. Сзади тащился с термосом на спине и котелками в обеих руках повозочный Долговушин, молодой унылый парень, назначенный нести обед на НП в целях воспитания. За год службы в батарее Долговушин переменил множество должностей, нигде не проявив способностей. Попал он в полк случайно, на марше. Дело было ночью. К фронту двигалась артиллерия, обочиной, в пыли, подымая пыль множеством ног, топала пехота. И, как всегда, несколько пехотинцев попросились на пушки, подъехать немного. Среди них был Долговушин. Остальные потом соскочили, а Долговушин уснул. Когда проснулся, пехоты на дороге уже не было. Куда шла его рота, какой её номер – ничего этого он не знал, потому что всего два дня как попал в неё. Так Долговушин и прижился в артиллерийском полку. Вначале его определили к Богачёву во взвод управления катушечным телефонистом. За Днестром, под Яссами, Богачёв всего один раз взял его с собой на передовой наблюдательный пункт, где все простреливалось из пулемётов и где не то что днём, но и ночью-то головы не поднять. Тут Долговушин по глупости постирал с себя все и остался в одной шинели, а под ней – в чем мать родила. Так он и сидел у телефона, запахнувшись, а напарник и бегал и ползал с катушкой по линии, пока его не ранило. На следующий день Богачёв выгнал Долговушина к себе во взвод он подбирал людей, на которых мог положиться в бою, как на себя. И Долговушин попал к огневикам. Безропотный, молчаливо-старательный, все бы хорошо, только уж больно бестолков оказался. Когда выпадало опасное задание, о нем говорили: «Этот не справится». А раз не справится, зачем посылать? И посылали другого. Так Долговушин откочевал в повозочные. Он не просил, его перевели. Может быть, теперь, к концу войны, за неспособностью воевал бы он уже где-нибудь на складе ПФС, но в повозочных суждено было ему попасть под начало старшины Пономарёва. Этот не верил в бестолковость и сразу объяснил свои установки:
– В армии так: не знаешь – научат, не хочешь – заставят. – И ещё сказал:
– Отсюда тебе путь один: в пехоту. Так и запомни.
– Что ж пехота? И в пехоте люди живут, – уныло отвечал Долговушин, больше всего на свете боявшийся снова попасть в пехоту. С тем старшина и начал его воспитывать. Долговушину не стало житья. Вот и сейчас он тащился на НП, под самый обстрел, все ради того же воспитания. Два километра – не велик путь, но к фронту, да ещё под обстрелом… Опасливо косясь на дальние разрывы, он старался не отстать от старшины. Не прошли и полдороги, а Долговушин упарился под термосом: по временам он начинал бежать, спотыкаясь огромными сапогами о мёрзлые кочки при этом суп взбалтывался. Снег все шёл, хотя и редкий уже. На правом фланге догорали два танка. Издали нельзя было разобрать чьи. Мазутно-чёрные, тонкие у земли дымы, разрастаясь кверху и сливаясь вместе, подпирали небо. Где овражком, где перебегая от воронки к воронке, Пономарёв и Долговушин добрались наконец до наблюдательного пункта батареи. Вся высота была взрыхлена снарядами, засыпана выброшенной взрывами землёй. В одном месте ход сообщения обрушило прямым попаданием, пришлось перелезать завал. Здесь же, в первой щели, лежал убитый. Лежал он неудобно, не как лёг бы сам, а как втащили его сюда. Шинель со спины горбом наползла на голову, так что хлястик оказался выше лопаток, толстые икры ног судорожно напряжены. При зимнем рассеянном свете тускло блестели стёртые подковки ботинок. Не видя лица, по одному тому, как ловко, невысоко, щеголевато были намотаны обмотки, старшина определил в убитом бывалого солдата. Дальше наткнулись на раненых. По всему проходу они сидели на земле, курили, мирно разговаривали. От близких разрывов и посвистывания пуль, при виде убитого, раненых и крови на бинтах Долговушину, пришедшему сюда из тыла, представилось, что вот тут и есть передний край. Но для раненых пехотинцев, которые шли сюда с передовой, эта высота с глубокими, не такими, как у них там, траншеями была тылом. Они пережидали здесь артналёт, и оттого, что никого не убило, не задело, место это казалось им безопасным, и уже не хотелось уходить отсюда до темноты. Завидев артиллерийского старшину, они стали поспешно подбирать ноги. Пономарёв шёл хозяйски, со строгим, замкнутым лицом – начальник. В душе он всегда чувствовал, что вот люди воюют, а он в тепле, при кухне, с портянками, тряпками, ботинками – тихое тыловое житьё на фронте. Сегодня, когда начали наступать немцы и в батарее уже были убитые, это чувство было в нем особенно сильно и он был особенно уязвим. Ему казалось, что эти раненые, пережившие и страх и боль, потерявшие кровь, именно это должны видеть и думать, глядя на него, идущего из тыла, от кухни, конвоиром при термосе с супом. Потому-то и шёл он со строгим лицом. Hо пехотинцы опасались главным образом, как бы их не погнали отсюда, с чужого НП, и услужливо подбирали ноги. Только молодой, рыжеватый, красивый пехотинец, нянчивший на коленях свою толсто забинтованную руку, не посторонился и ног не убрал, предоставляя шагать через них. И пока Пономарёв перешагивал, он снизу вверх вызывающе глядел на него. Послышался вой мины. Удивительно проворно Долговушин присел, а Пономарёв под взглядами пехотинцев (может быть, они и не смотрели вовсе, но он это всей спиной чувствовал) с ненавистью пережил его трусость. Они свернули за поворот. Из дыма показалась Тоня, ведя опиравшегося на неё разведчика. Он ладонью зажимал глаза, она что-то говорила ему и пыталась отнять руку, разведчик тряс головой, мычал. Пономарёв пропустил их и увидел Беличенко, быстро шагавшего по траншее навстречу.
– Ага, старшина! Давай корми людей быстро, скоро он опять начнёт. И Богачёву отошли. Вон на ту высоту, видишь? Он теперь там с пехотой сидит. В белой, испачканной землёй кубанке, сдвинутой на потный лоб, о мрачно блестевшими из-под неё глазами, большой, разгорячённый, комбат подошёл к ним. Телогрейка его, перетянутая широким ремнём, была разорвана на плече, оттуда торчала грязная вата глянцевая, тёмная от времени кобура пистолета исцарапана о стенки окопов. Он первый, сутулясь, шагнул в блиндаж. Старшина задержался пошептаться с Горошко: там, где касалось обеспечения комбата, он политично действовал через ординарца. Когда вошла Тоня, Пономарёв скромно сидел у двери на уголке нар, свесив ноги в крепких яловых сапогах с яловыми голенищами до колен. Другие старшины щеголяли в хромовых сапожках, шили себе офицерские шинели. Пономарёв ничего неположенного себе не позволял. Он ходил в солдатской шинели, но хорошего качества, и сапоги у него были довоенные, неизносные. Теперь ставили кирзовые голенища, а таких, как у него, яловых, таких теперь не найти. Понимающие люди знали: им цены нет. Небольшой, жилистый, с ничего не выражавшим лицом, какое бывает у людей осторожного ума, он походил сейчас на гостя, приехавшего из деревни проведать родню и привёзшего с собой гостинцы и многочисленные поклоны. Такой, если и не одобряет чего-либо, разумно умалчивает об этом. Старшина не одобрял Тониного присутствия здесь. Однако своё неодобрение выказывал только тем, что в разговоре обходил Тоню взглядом, словно её тут не было вовсе. Все время, пока Беличенко ел, он продолжал сидеть у дверей на тот случай, если бы, например, комбат захотел справиться о батарейном хозяйстве или отдать какие-либо хозяйственные распоряжения. Такие распоряжения Пономарёв всегда уважительно выслушивал, зная, что начальство не любит, когда ему возражают, а дальше поступал по своему разумению.
– Целы у Афонина глаза, – сказала Тоня, – землёй запорошило. – Взглядом хозяйки она быстро оглядела стол. – А что же ты комбату водки не нальёшь? Горошко молча налил водки, после этого отошёл в угол и оттуда презрительно наблюдал, как она хозяйничает. Обычно Беличенко посмеивался над ним: «Никак две хозяйки не уживутся под одной крышей». Сейчас он ел рассеянно, прислушиваясь к звукам снаружи. Даже водку выпил без охоты, медленно и прикрыв глаза, как пьют усталые люди. Он рано положил ложку, встал, зализывая цигарку. Наверху разорвался снаряд, все подняли головы. Горошко вскинул на плечо ремень автомата, готовый сопровождать, не спрашивая. У Беличенко глаза ожили. Хлопая себя по карманам, он искал зажигалку. Он не помнил, что уронил её около стереотрубы.
– Вот ваша зажигалка, – сказал Ваня, подав. Разве ж мог он допустить, чтобы у комбата пропала такая нужная вещь? Когда шли танки, было не до неё, но после Ваня зажигалку нашёл и спрятал. Беличенко закуривал, прислушиваясь. Наверху уже все дрожало от взрывов. Дверь землянки сама медленно растворялась, край неба, видный над бруствером траншеи, от поднявшейся пыли был весь как в дыму. Беличенко пыхнул цигаркой, блестя сузившимися, недобро повеселевшими глазами, сказал:
– Мотай-ка на огневые, старшина, делать тебе здесь нечего: немец опять пошёл. За дверью давно уже томился Долговушин с пустым термосом, оборачиваясь на каждый выстрел. Раненых в проходе не было. Они все куда-то убрались. Едва Пономарёв и Долговушин покинули НП, как попали под обстрел. Они перележали его в неглубокой воронке. Первым поднялся старшина, отряхнулся и вкось строго глянул на повозочного. Но тут сбоку откуда-то ударил пулемёт, и они побежали не той дорогой, которой шли раньше, а влево, к видневшейся вдали рыжей полоске кукурузы: там, казалось, безопасно. Сапоги скользили, спотыкались по комковатой зяби, пули высвистывали над ухом, рвали комочки земли из-под ног. Когда наконец достигли кукурузы, у Пономарёва по груди и под мышками текли струйки пота, Долговушин дышал с хрипом. Пули и здесь летали, но не так густо: они щёлкали по мёртвым стеблям, сбивая их на землю. Отсюда Пономарёв оглянулся. Ещё не вечерело, но свету убавилось, и даль стала синей. На фоне её хорошо были видны обе высоты, белые от недавно выпавшего снега. Над той, которую оборонял Богачёв, таял дымок разрыва, точно облачко, севшее на вершину сопки. А в развилке между высотами горела самоходка, и несколько немецких танков, открыто стоя на поле, вели по ней сосредоточенный огонь. Теперь впереди, горбясь, шагал Долговушин, сзади – старшина. Неширокая полоса кукурузы кончилась, и они шли наизволок, отдыхая на ходу: здесь было безопасно. И чем выше взбирались они, тем видней было им оставшееся позади поле боя оно как бы опускалось и становилось плоским по мере того, как они поднимались вверх. Пономарёв оглянулся ещё раз. Немецкие танки расползлись в стороны друг от друга и по-прежнему вели огонь. Плоские разрывы вставали по всему полю, а между ними ползли пехотинцы вcякий раз, когда они подымались перебегать, яростней начинали строчить пулемёты. Чем дальше в тыл, тем несуетливей, уверенней делался Долговушин. Им оставалось миновать открытое пространство, а дальше на гребне опять начиналась кукуруза. Сквозь её реденькую стенку проглядывал засыпанный снегом рыжий отвал траншеи, там перебегали какие-то люди, изредка над бруствером показывалась голова и раздавался выстрел. Ветер был встречный, и пелена слез, застилавшая глаза, мешала рассмотреть хорошенько, что там делается. Но они настолько уже отошли от передовой, так оба сейчас были уверены в своей безопасности, что продолжали идти не тревожась. «Здесь, значит, вторую линию обороны строят», – решил Пономарёв с удовлетворением. А Долговушин поднял вверх сжатые кулаки и, потрясая ими, закричал тем, кто стрелял из траншеи.
– Э-ей! Слышь, не балуй! И голос у него был в этот момент не робкий: он знал, что в тылу «баловать» не положено, и в сознании своей правоты, в случае чего, мог и прикрикнуть. Действительно, стрельба прекратилась. Долговушин отвернул на ходу полу шинели, достал кисет и, придерживая его безымянным пальцем и мизинцем, принялся свёртывать папироску. Даже движения у него теперь были степенные. Скрутив папироску, Долговушин повернулся спиной на ветер и, прикуривая, продолжал идти так. До кукурузы оставалось метров пятьдесят, когда на гребень окопа вспрыгнул человек в каске. Расставив короткие ноги, чётко видный на фоне неба, он поднял над головой винтовку, потряс ею и что-то крикнул.
– Немцы! – обмер Долговушин.
– Я те дам «немцы»! – прикрикнул старшина и погрозил пальцем. Он всю дорогу не столько за противником наблюдал, как за Долговушиным, которого твёрдо решил перевоспитать. И когда тот закричал «немцы», старшина, относившийся к нему подозрительно, не только усмотрел в этом трусость, но ещё и неверие в порядок и разумность, существующие в армии. Однако Долговушин, обычно робевший начальства, на этот раз, не обращая внимания, кинулся бежать назад и влево.
– Я те побегу! – кричал ему вслед Пономарёв и пытался расстегнуть кобуру нагана. Долговушин упал, быстро-быстро загребая руками, мелькая подошвами сапог, пополз с термосом на спине. Пули уже вскидывали снег около него. Ничего не понимая, старшина смотрел на эти вскипавшие снежные фонтанчики. Внезапно за Долговушиным, в открывшейся под скатом низине, он увидел санный обоз. На ровном, как замёрзшая река, снежном поле около саней стояли лошади. Другие лошади валялись тут же. От саней веером расходились следы ног и глубокие борозды, оставленные ползшими людьми. Они обрывались внезапно, и в конце каждой из них, где догнала его пуля, лежал ездовой. Только один, уйдя уже далеко, продолжал ползти с кнутом в руке, а по нему сверху безостановочно бил пулемёт. «Немцы в тылу!» – понял Пономарёв. Теперь, если надавят с фронта и пехота начнёт отходить, отсюда, из тыла, из укрытия, немцы встретят её пулемётным огнём. На ровном месте это – уничтожение.
– Правей, правей ползи! – закричал он Долговушину. Но тут старшину толкнуло в плечо, он упал и уже нe видел, что произошло с повозочным. Только каблуки Долговушина мелькали впереди, удаляясь. Пономарёв тяжело полз за ним следом и, подымая голову от снега, кричал: – Правей бери, правей! Там скат! Каблуки вильнули влево. «Услышал!» – радостно подумал Пономарёв. Ему наконец удалось вытащить наган. Он обернулся и, целясь, давая Долговушину уйти, выпустил в немцев все семь патронов. Но в раненой руке нe было упора. Потом он опять пополз. Метров шесть ему осталось до кукурузы, не больше, и он уже подумал про себя: «Теперь – жив». Тут кто-то палкой ударил его по голове, по кости. Пономарёв дрогнул, ткнулся лицом в снег, и свет померк. А Долговушин тем временем благополучно спустился под скат. Здесь пули шли поверху. Долговушин отдышался, вынул из-за отворота ушанки «бычок» и, согнувшись, искурил его. Он глотал дым, давясь и обжигаясь, и озирался по сторонам. Наверху уже не стреляли. Там все было кончено. «Правей ползи», – вспомнил Долговушин и усмехнулся с превосходством живого над мёртвым.
– Вот те и вышло правей… Он высвободил плечи от лямок, и термос упал в снег. Долговушин отпихнул его ногой. Где ползком, где сгибаясь и перебежками, выбрался он из-под огня, и тот, кто считал, что Долговушин «богом ушибленный», поразился бы сейчас, как толково, применяясь к местности, действует он. Вечером Долговушин пришёл на огневые позиции. Он рассказал, как они отстреливались, как старшину убило на его глазах и он пытался тащить, его мёртвого. Он показал пустой диск автомата. Сидя на земле рядом с кухней, он жадно ел, а повар ложкой вылавливал из черпака мясо и подкладывал ему в котелок. И все сочувственно смотрели на Долговушина. «Вот как нельзя с первого взгляда составлять мнение о людях, – подумал Назаров, которому Долговушин не понравился. – Я его считал человеком себе на уме, а он вот какой, оказывается. Просто я ещё не умею разбираться в людях…» И поскольку в этот день ранило каптёра, Назаров, чувствуя себя виноватым перед Долговушиным, позвонил командиру батареи, и Долговушин занял тихую, хлебную должность каптёра.
ГЛАВА V
О ТЕХ, КОГО УЖЕ НЕ ЖДУТ
Неопределённый красноватый свет стоял над горизонтом, и небо на юге вздрагивала от вспышек. В той стороне, ближе к Балатону, по-прежнему гремел бой. А перед городам Секешфехерваром установилась тишина. Местами пехота отошла, и высота, которую оборонял Богачёв, уступом выдавалась теперь в сторону немцев. Отсюда был виден силуэт города, чёрным на красном зареве, с острыми, как наконечники копий, крышами домов. Богачёв не мог хорошо знать обстановку: связи с батареей давно уже не было. В темноте немцы продвигались ощупью, то там, то здесь внезапно вспыхивал яростный ночной бой, искрами летали трассирующие нули. Так на залитом пожарище вдруг вырвется пламя из груды обугленных головнёй, спадёт и снова вырвется в другом месте. Цельной обороны не существовало, держались отдельные высоты, отдельные укрепления. Богачёву известно было лукавое чувство, которое всякий раз смущает в бою, если тебе самому приходится решать: отойти или остаться? Но он провоевал войну, не раз отступал, наступал, был в окружении, он не мог не понимать: пока держится его высота, другая такая же, третья – у немцев руки связаны. И он держал высоту. К ночи из бойцов осталось в живых четверо, пятый – Ратнер, Богачёв – шестой. Все было разрушено артиллерийским обстрелом, все переломано, траншеи местами засыпаны. Последний телефонист сидел, охватив колени, опершись на них лбом. Рукав шинели натянулся, обнажив толстые круглые часы с мутноватым стеклом, сделанным из координатной мерки. Он потряс связиста за плечо:
– Эй, солдат, войну проспишь! Тот, мягко качнувшись, повалился на бок. И тогда только Богачёв увидел на бруствере неглубокую воронку от мины. «Так… Этот отвоевался». И по часам убитого сверил свои часы. Днём, когда выбивали немцев с высоты, его собственные часы стали от удара, и теперь он не доверял им. В половине первого за немецкими окoпами возник пожар. Пожар все светлел, ширился: всходила луна. Стало видно теперь косо торчащее из земли чёрное крыло самопета. Это был немецкий истребитель, сбитый неделю назад. Он упал на «ничьей» земле. Рядом с ним лежал на снегу обгоревший лётчик, почти голый, сжавшийся от огня. Только головки меховых сапог уцелели у него на ногах. Он сначала обгорел, а потом замёрз. Разведчики, лазавшие к самолёту за прозрачным стеклом для мундштуков, видели его и рассказывали после. И самолёт, и обгоревший лётчик, и «ничья» земля – все это было сейчас у немцев. Луна уже оторвалась от земли и, перерезанная пополам, повисла на конце крыла, осеребрив его своим светом. К Богачёву бесшумно подошёл Ратнер, стал рядом.
– Связного нет? – спросил Богачёв.
– Не вернулся.
– А ты где был? За немецкими окопами взлетела ракета. Белки глаз Ратнера заблестели сначала зелёным, потом красным светом и погасли. Ракета, шипя, догорала на снегу. Несколько трассирующих очередей беззвучно оторвались от земли и ушли в низкое облако. Позже донесло стрельбу.
– В овраге, где вчера наши «тридцатьчетверки» стояли, немцы ползают, – сказал Ратнер негромко. – Я лазал – напоролся на одного. Он достал из шинельного кармана маленький никелевый пистолет с перламутровой ручкой, подкинул на ладони. Жёсткие мясистые ладони его были в глине.
– И запасная обойма к нему есть. Оба они понимали, что означало: немцы в овраге. Это означало, что высота окружена и уже вряд ли уйти отсюда. Потому-то связи не было, потому из двух связных, посланных к Беличенко, ни один не вернулся.
– Настоящий дамский пистолет, – сказал Ратнер. – За всю войну ни разу такой не попадался. Можно было б Тоне отдать. Он выщелкнул на ладонь патроны из обоймы, вынул затвор и все это далеко раскидал в разные стороны. В бою этот пистолетик все равно не годился.
– Ребятам говорил? – спросил Богачёв.
– Нет ещё.
– Будем держать высоту. Все это время он ждал связного от Беличенко, он все-таки ждал приказа отойти и надеялся. Теперь он понял: приказа не будет. И оттого, что неопределённость кончилась, решение принято, Богачёв, как всегда в моменты риска, повеселел. Надвинув сильней ушанку, он пошёл по траншее проверять посты. Из разведчиков, которых он взял с собой, ни одного не осталось в живых. Высоту обороняли пехотинцы, те самые, которые прежде бежали с неё. Богачёв не очень надеялся на них. За первым поворотом он увидел двух бойцов: они трудились над чем-то. Богачёв подошёл ближе. Кряхтя и переругиваясь шёпотом, они выкидывали наверх труп немца, оставшийся здесь после атаки. Завидев лейтенанта, бросили своё занятие и, потеснясь, давая пройти, стояли у стeнки в шинелях с пристёгнутыми к поясу полами, чем-то похожие друг на друга.
– Для новых место очищаете? – спросил Богачёв нарочно громким голосом, весело глядя на них. Солдаты заулыбались, как и полагается солдатам, когда начальство спрашивает: «Не робеете ли?» За несколько ночных часов от постоянного ощущения, что немцы рядом и могут услышать, они отвыкли говорить громко.
– А ну, дай помогу. – Богачёв взял немца за сапоги у щиколоток. – Берись! Приладившись в тесноте, они выкинули его за бруствер. Тело глухо стукнуло, перекатилось вниз.
– Тяжёл был немец, – сказал Богачёв.
– Он как гусь по осени, – отозвался солдат охрипшим от натуги голосом, – откормился на чужих полях, чужим зерном. Другой стеснительно стоял рядом. Но все же общая работа разогрела и развеселила их.
– Так вы раньше времени огня не открывайте, – предупредил Богачёв уходя. Метрах в двадцати от них стоял пожилой пехотинец. Автомат лежал наверху, а сам он внимательно и осторожно грыз сухарь, каждый раз оглядывая его со всех сторон, выбирая край помягче. Богачёв не знал ни фамилии пехотинца, ни имени. Они столкнулись с ним, когда в густом снегопаде выбивали с высоты немцев. Лицо его ничем не выделялось из множества солдатских лиц: круглое, с широкими скулами, с морщинами у глаз. Лицо терпеливого человека.
– Вот какое дело, отец, – сказал Богачёв. – Немцы в овраге позади нас, так что скоро они полезут. Пехотинец в это время, зажмурив один глаз, пытался боковыми зубами откусить сухарь, но сухарь был крепок и только скрипел. Тогда он пососал его, отчего сильней обозначились морщины у рта, и, перевернув, откусил с другого края, где сухарь уже размяк.
– Да я уж замечаю, – сказал он, быстро прожёвывая. – Все они там друг дружке сигналы подают, уткой крякают. А какая может быть утка в эту пору? Он опять оглядел сухарь, примериваясь.
– Ты бы размочил сначала, – посоветовал Богачёв, невольно следя глазами и участвуя мысленно. – Размочить – кипяток нужен, а где он, кипяток? А от холодной воды только в животе остынет, – со знанием дела и даже с некоторым превосходством сказал тот, как человек, который все это уже хорошо обдумал. И вдруг спросил: – Дети есть, лейтенант? – И снизу вверх глянул на Богачёва.
– Не успел обзавестись.
– Да, дети…– Пехотинец вздохнул. – Они по-другому к жизни привязывают. Пока детей нет, ты налегке по жизни идёшь. А тут уж не о себе думать надо… Он говорил это и жевал сухарь, потому что он был солдат и ему нужно было воевать. А пахло от него на морозе ржаным кислым хлебом – по-домашнему, по-мирному пахло. И Богачёв почувствовал, что все то, что он хотел сказать этому пехотинцу, все это говорить не надо, потому что воюет он не по его, Богачёва, приказу, а по другим, гораздо более глубоким и личным причинам. Где-то недалеко железо скребло мёрзлую землю. Богачёв пошёл туда. Молодой солдат, в растоптанных валенках на толстых ногах, с бурым от ветра лицом, на котором выделялись белые брови, углублял стрелковую ячейку, обрушенную снарядом. Он каской отгребал землю, сыпал её на бруствер и прислушивался.
– Огонька нет, лейтенант? – быстро спросил он, боясь, что тот пройдёт мимо, и взял с полочки, вырытой в стене, педокуренную цигарку. Богачёв щёлкнул зажигалкой, боец потянулся прикуривать, но вдруг схватил его за руку своей горячей, вспотевшей от работы рукой:
– Слышишь? Внизу, в лощине, негромко и неуверенно крякнула утка. Немного погодя другая ответила ей.
– Эта уже с час времени крячет. Погодит, погодит, и опять. С обветренного, грубого лица тоскливо глянули на Богачёва детские глаза.
– Немцы, – жёстко сказал Богаче», испытывая неприязнь к этому здоровому и робкому парню. Тот почувствовал, вздохнул и опять нагнулся прикуривать. Близко от себя Богачёв увидел его заросшую белым волосом красную, крепкую шею, полную сил и жизни, и внезапно подумал, что, может быть, это последние люди, которых он видит. Что произойдёт здесь – об этом будут знать только он и они, и уже никто в целом мире. Под луной синевато мерцавшее поле вокруг казалось пустынным, ни живой души в нем. Ночь. Тишина… Только ветер метёт с бруствера пылью и снежком и качаются стебли сухих трав, торчащих из-под снега. И всюду отрезан путь, и в тишине, в лощине, одна сторона которой все больше освещалась, накапливались немцы. В прежней жизни Богачёв всегда чувствовал, что впереди у него – тысяча лет. Он не очень задумывался, так ли, не так день прожил – впереди их бессчётно. И люди встречались и исчезали из памяти: их множество было вокруг. Но сейчас впереди у него были не годы, а часы, оставшиеся до немецкой атаки. И вся его жизнь должна вместиться в них. Сколько за войну было таких высот, где люди держались до последнего! Они здесь не лучшие и не худшие из всех. Но жизнь у каждого одна. Он почувствовал, что происходит теперь в этом парне, как ему одиноко и страшно и как он старается одолеть этот страх, чтоб не увидели.
– Ты не томись, – сказал он парню, – выберемся. – И усмехнулся уверенно. – Похуже бывало и выбирались. Главное – до утра продержаться. И к слову рассказал, в каких переделках бывал с разведчиками, а вот жив. Богачёв и сам верил в этот момент, что как-нибудь они выберутся. Вся война позади, не может так не повезти под конец. Богачёв шёл по траншее, вдыхая морозный воздух. Может быть, считанные часы остались ему. Но все равно в эти часы он жил в полную силу. Он отбил у немцев высоту, сколько времени ужe держит её и .вот теперь идёт по ней хозяином. Когда Богачёв вернулся, Ратнер стоял на том же месте, в окопе, до плеч освещённый луной, смуглое лицо его казалось при этом свете бледным, а глаза тёмными. Большими, тёмными и печальными. Перед ним на подсошках стоял ручной пулемёт, отбрасывая на снег вытянутую тень. Богачёв положил рядом свой автомат.
– Тихо?
– Тихо, – сказал Ратнер. – Скоро, видимо, начнут. Богачёв достал из кармана белую с чёрным орлом и свастикой пачку немецких сигарет. Там ещё оставалась несколько штук.
– Кури, – предложил он. – Как раз по одной успеем. Ратнеру попалась порванная сигарета. Он хотел было заклеить её по солдатской бережливой привычке и облизнул языком, но Богачёв сказал:
– Брось ты её! – и выбрал ему сам. Они сели на дно окопа, упираясь коленями в противоположную стенку, закурили. Метрах в десяти от них лежал на боку мёртвый связист, его никелевые часы блестели под луной. Богачёву хотелось душевного разговора.
– Вот в это самое время, Давид, – сказал он, – наверное, говорят про наш фронт в последних известиях: «На Третьем Украинском фронте никаких существенных изменений не произошло». – Он усмехнулся, подул на пепел, сплюнул под ноги. – Репродуктор у нас дома на буфете стоит. Как откроют дверцу, так он падает оттуда. Бумажный такой, черный, проткнут в нескольких местах. Мать перед ним как перед господом богом. Сегодня послушает сводку и успокоится… Он говорил по привычке насмешливо, стесняясь того, что было на душе. И сам он, и его довоенные друзья, и разведчики, с которыми он прошел войну, – все не любили вслух проявлять чувства. А может быть, именно этого всегда не хватало матери, одиноко жившей с ним без отца. Никогда Богачeв не задумывался об этом и вот только теперь понял. А Ратнер в это время думал о своих стариках. Он оставил их в сорок первом году в Рогачеве, когда немцы были уже близко. Ночью с проходившим через город полком он ушел на фронт, а старики остались. Они уже были очень пожилые и больны и без него не могли эвакуироваться. Сколько раз вспомнит он это, столько раз будет винить себя. И все-таки он не мог тогда поступить иначе. Только два года спустя из госпиталя удалось ему попасть в Рогачев. Соседи рассказали, как погибли его старики. Была уже поздняя осень, и лед шел по реке. И вот всех евреев согнали в Днепр. Ожидалось какое-то начальство, их долго держали в воде, а по берегу ходили эсэсовцы с автоматами, и стояли на песке пулеметы. Всю жизнь мать говорила, что у отца больные почки, берегла его от простуды и, чтоб он соблюдал диету, сама вместе с ним не ела соленого. А вот как умирать пришлось. Что думали они в тот страшный миг, когда по людям, стоящим в воде, среди льдин, начали с берега стрелять из пулеметов и все заметались? Два старых, беспомощных человека. Они вырастили шестерых детей, сильных, молодых, здоровых, и все же в этот страшный час были одни. Да еще на руках у них – трехлетняя внучка Оленька, которую с границы привез погостить на лето старший сын. И уже ничего не изменишь, не исправишь, потому что непоправимей смерти ничего нет. Нельзя даже сказать: «Родные мои, простите меня за все, за все ваши муки!» За то, что он, сын, здоровый человек, не мог защитить их. Ничего уже нельзя сделать. Можно только мстить. И со всевозраставшим нетерпением Ратнер ждал немцев. Они выкурили с Богачевым по сигарете и еще по одной, но тишина стояла по-прежнему. Недалеко от траншеи из бомбовой воронки торчала нога немца в сером шерстяном носке. Луна поднялась уже высоко, и тень от ноги переместилась, стала короткой. Внезапно позади них, в стороне города, заскрежетал, завыл шестиствольный немецкий миномет, прозванный «ишаком» за этот звук, похожий на повторяющийся крик осла. Шесть огненных комет возникли в воздухе, и земля затряслась. И тут же высота заполнилась бегущими вверх, орущими, стреляющими немцами. Из-за ноги в сером носке поднялась каска и кричащий разинутый рот. Припав к пулемету, Богачев бил длинными очередями, вспышки пламени слепили его. Рядом из автомата стрелял Ратнер. И вдруг все опустело. Они успели перезарядить диск, когда сзади снова раздались крики, и опять высота заполнилась бегущими немцами. Богачев кинул гранату, присел, пережидая разрыв. Справа все время короткими очередями, экономя патроны, стрелял пожилой пехотинец. Потом сразу, один за другим, – несколько взрывов. Их заглушил близкий взрыв гранаты, над головой пронесло комья земли. Справа уже не стреляли. Богачев ладонью вбил новый диск, и тут шорох отвлек его. По траншее, озираясь, шел немец в белом маскхалате и коротких сапогах. Богачев стал в тени за выступом. Незаметно вытер о штаны сразу вспотевшие длинные ладони: по привычке разведчика, он в первый момент хотел взять немца живьем. Но еще раньше кинулся к нему Ратнер. В тесноте траншеи, коротко перехватив автомат, он ударил немца по каске, ударил окованным прикладом в лицо, сбил на землю. Когда поднял автомат, близко увидел глаза немца. Они мгновенно раскрылись, в них – крик. Ратнер выстрелил. И ни Богачев, ни Ратнер не видели, как в этот момент за поворотом траншеи, в том месте, где стоял пожилой пехотинец, поднялась немецкая каска и скрылась тут же. Граната с длинной деревянной рукояткой упала поблизости на землю. Она была новая, и деревянная рукоятка свежая, но захватанная пальцами. Ратнер отпихнул ее носком сапога. Граната ударилась о стенку траншеи и откатилась к нему обратно. Он ударил изо всей силы. Но спешил, попал по рукоятке. Граната юлой завертелась на мосте. Оба смотрели на нее и глаз не могли оторвать, и жутко было нагнуться. Длинная деревянная рукоятка, точно стрелка часов, обходила круг тише, тише, медленней. В последний момент Ратнер нагнулся, поймал ее и уже кинул, но граната взорвалась в воздухе перед его лицом. Он медленно сел, обтирая спиной стенку окопа, зажав ладонью глаза. Когда отнял руку, ладонь была вся в крови и лицо залито кровью. Ратнер ощупал землю, на которой сидел, ощупал перед собой стенку и по ней начал подниматься. С трудом вылез он из окопа, встал с лицом, залитым кровью, и, спотыкаясь, пошел навстречу зареву, навстречу бегущим немцам. Богачев успел выстрелить в переднего немца, который уже подымал автомат, но тут на спину ему, так что хрустнул позвоночник, свалилось тело и придавило его. В тесноте окопа, хрипя и обдавая друг друга горячим дыханием, они боролись молча, с искаженными лицами. Немец заламывал Богачеву руки, пытался перевернуть лицом вниз, но мускулистый Богачев гнулся под ним, как стальная пружина, и, напрягшись, вырвался. Он ударил немца первым, что попалось под руку: это был автоматный диск. Выхватив пистолет, выстрелил в него. Когда поднялся, немцы бежали на него со стороны луны и против света казались черными. Ратнера уже не было. Богачев успел выстрелить два раза и, понимая, что уже не остановит их, тоже вылез и с пистолетом пошел навстречу им. И тут красный огонь, внезапно вспыхнувший, ослепил его. Когда Богачев очнулся, во рту была кровь и земля. Он не пошевелился, не застонал. Разведчик, он прежде всего прислушался. На всей высоте уже никто не стрелял. Где-то недалеко разговаривали. Голоса были немецкие и приближались. По траншее, повторяя все ее изгибы, двигались две глубокие немецкие каски. Они прошли так близко, что до Богачева допахнуло дым их сигарет. Он переждал время и пошевелился – ноги прожгла боль. Но он пересилил боль и пополз среди убитых немцев, оставшихся лежать по всему скату высоты. Он полз на руках, волоча раненые ноги. Пальцы его натыкались на вывернутую взрывами рыхлую землю, на края свежих воронок. Видимо, одним из этих снарядов он был оглушен и ранен. Богачев полз тем же путем, каким уползали отсюда связные. Взлетала ракета, он замирал, прижимаясь щекой к земле. Лицо его все было мокро от пота и растаявшего снега. При свете одной из ракет Богачев увидел впереди себя подошвы сапог убитого немца. Под каблуками и между шипов намерз снег. Он подполз ближе. Немец лежал, поджав одно колено к животу, словно все еще полз, но открытый глаз его был белый, заиндевевший, и мокрые ресницы смерзлись. Богачев взял у убитого автомат, снял с пояса гранаты и с оружием почувствовал себя уверенней. В овражке он наткнулся на своего связного. Этот уже возвращался, когда пуля догнала его. Укрыв голову полой его шинели, Богачев закурил. Нужно было сообразить, как действовать дальше. Он один живым ушел с высоты, но в памяти его были живы и старик пехотинец, осторожно откусывавший сухарь, и парень с крепкой, заросшей белыми волосами шеей, нагнувшийся к нему прикурить, и те двое, что выкидывали из траншеи труп немца. Стоило закрыть глаза, и он видел Ратнера, слепого, с залитым кровью лицом, идущего навстречу зареву и немцам. Богачев курил и изредка выглядывал наружу. Он решил ползти на батарейный НП. Он догадывался, что наших там уже нет, и все-таки оставалась надежда: а вдруг Беличенко там еще? У подножия высоты он долго высматривал часового. Он определил его по слабому свечению, возникавшему временами над бруствером: забравшись в окоп, часовой тайно грелся табаком. Каска часового, смутно освещавшаяся от папиросы, была немецкая. Богачев подполз с другой стороны и долго и трудно взбирался наверх, отдыхая в воронках. Вот насыпь наконец, глухие голоса под землей. Ветром донесло дым из трубы. От него пахло кофе. В той самой землянке, где вчера они обмывали орден, сидели теперь немцы, и Богачев слышал их смех. Дверь землянки раскрылась, полоса света встала по стене траншеи, переломилась на бруствере. Высокий немец в шинели внапашку вышел покачиваясь. Он что-то сказал часовому со строгостью пьяного, кивнул на далекое зарево и стал нетвердо вылезать наружу, часовой услужливо подсаживал его. Вылез, поймал на плече соскользнувшую шинель и стал спиной к ветру. С земли хорошо был виден его силуэт на озаренном небе: высокий, темный, в развевавшейся шинели, он покачивался, расставив ноги. А может быть, это только в глазах Богачева качалось все? Оттого что он полз, остановившаяся было кровь опять пошла из ран он чувствовал, как она течёт, и голова у него была слабая, и все плыло в глазах. Он прижал лоб к снегу. Земля притягивала. Это испугало Богачёва. Ему стало страшно, что он потеряет сознание и немцы найдут eго здесь. Высокий немец все ещё стоял, делая своё дело, ради которого из тепла вышел на мороз. Наконец он подхватил полы шинели, слез в окоп, и дверь землянки захлопнулась. Богачёв ближе подполз к трубе, жмурясь от дыма. Он не очень сейчас доверял себе и потому несколько раз пальцами проверил, как вставлены запалы. Потом одну за другой кинул в трубу гранаты и, прижав автомат к себе, покатился вниз. Два подземных взрыва тряхнули высоту, искры взвились над ней. Поднялась суматошная стрельба, немцы выскочили из другой землянки, несколько солдат, стреляя, пробежали мимо Богачёва. Его бы нашли, если бы он не лежал так близко они же все бежали догонять. Переждав, он осторожно пополз, ориентируясь по выстрелам и ракетам. В нем сейчас обострились все чувства, только в ушах стоял усиливающийся комариный звон: он потерял много крови. Кровь все текла в сапоги, но жизнь по-прежнему цепко держалась в его жилистом теле. Перед утром Богачёв руками задушил придремавшего немецкого часового и взял его документы: он верил, что выберется к своим. А когда отполз порядочно, вспомнил вдруг, что оставил там автомат. Богачёв вернулся за автоматом, долго искал его на снегу немевшими пальцами. Он уже плохо соображал, и сознание все время ускользало. Один раз, очнувшись, он увидел, что луна светит ему в глаза. Он повернулся и пополз в другую сторону, а когда вновь пришёл в себя, луна все так же светила в глаза ему. Только она уже склонилась низко и была большая, жёлтая, потом начала раздваиваться, две луны закачались и поплыли от него в разные стороны.