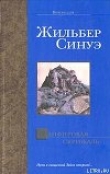Текст книги "О природе сакрального"
Автор книги: Григорий Луговский
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Еще в раннеисторических обществах возникло деление магии на белую – социально одобряемую, и черную (ведовство) – направленную на достижение личных целей внутри общества. В процессе истории белая магия в значительной степени превращается в науку (следует сказать, что сегодня и наука часто поставлена на службу ведовству, достижению чьих-то узких выгод «здесь и сейчас»), а черная, индивидуалистическая, заполняет собой социальную жизнь. Существование и торжество черной магии следствие не только чрезмерной обособленности личности от общества, но и наличия скрытых или явных устойчивых противоречий между миром и человеком как биологическим (а потому – слабым и ограниченным во времени-пространстве) существом. Такая магия стоит на службе сиюминутных стремлений и страстей, поэтому магические акты выражают те преходящие стремления человека или группы, которые вытекают из природы и нужд людей, а не продиктованы социальными интересами. Как писал Плотин: «Только погруженный в себя неподвластен магии… вся жизнь практического человека является одним сплошным колдовством. Мы движемся к тому, что нас пленяет»(94). Если сакральное способствует устойчивости социума и космоса, то магия предполагает получение выгод «здесь и сейчас» – «и пусть пока весь мир подождет». Совокупность магических актов составляет подавляющую часть современной социальной и экономической жизни, и чем меньше в обществе сакрального, тем больше магического, тем более в таком обществе господствует индивидуализм и корысть.
Если сакральным в принципе нельзя владеть, т.к. оно трансцендентно по отношению ко всему частному, всеобще, то магическое – сугубо человеческий набор инструметов и практик, выработанный в процессе коммуникации с сакральным (а значит – и с колективным бессознательным). Если исследованием магического занимается социология и психология (не случаен интерес к этим наукам в десакрализованном обществе, где на первое место вышло индивидуалистическое начало), то сакральным занимается философия. Увеличение роли магии связано и с феноменом индивидуализации проявлений сакрального (см. «Индивидуальное сакральное»). Можно говорить о совпадении силовых линий магии и Эроса, где магия – средство, а Эрос – цель, хотя и сакрализованная, но являющаяся лишь овеществлением индивидуальных желаний.
Магическое подражает сакральному. Но если сакральность произведения, акта определяется его долговременностью и полисемантизмом, магическое как правило однозначно. Так, ремесло – лишь магично, а подлинное творчество – сакрально. Обыватель, упомянутый Плотином «практический человек», как правило не способен видеть разницы, то есть легко пленяется эрзацами, штамповками – продуктом магического ремесла.
Магическая сила слишком преходяща, как все частное. К ее проявлениям следует отнести богатство, умению владеть языками, силу, животную/эротическую красоту, различные таланты и способности на продажу (которые при должном развитии могут быть направлены к сакральному, но рынку этого не надо, т.к. здесь важно достичь только магического уровня мастерства). Магическое есть то ценное (как имеющее определенную цену) для другого, что есть у меня. Но всякое магическое так же легко потерять, как кошелек или лицо. Если сакральное жертвенно и ориентирует на эволюционно перспективное, на вневременное, то магическое – это ориентация на близкие цели, «средняя линия», торжество количества над качеством. Поэтому красота в широком смысле только магична (см. «Сакральное и эволюция»), ведь магия, как и красота – признак удачного приспособления и желание лучше адаптироваться к миру.
САКРАЛЬНОЕ ВРЕМЯ И МЕСТО. «Все сакральное пространство, несколько смещенное по сравнению с тем как оно есть в реальности, символически мыслится как точка отсчета, „центр мира“, который организует пространство и наделяет его смыслом»(95). Как сакральное время обладает нелинейностью и отражает идею вечного возвращения (по М. Элиаде), а по сути – вечности, так и сакральное пространство является символом бесконечности, абсолютности, внетерриториальности. Сакральное нигде и везде, никогда и всегда. Собственно, как бессознательное не знает отрицательного утверждения, так и мифологическому сознанию не ведомо ничто, небытие. Там, где рациональное восприятие видит пустоту, мифологическое мышление наблюдает возможность всего, изобилие. Поэтому любые отрицательные коннотации и такие эпитеты как «нигде» и «никогда» к сакральному не применимы.
История для современного человека, как и миф для первобытного, играет роль духовного стержня, определяющего реальность и питающего ее. «Бытие определяет сознание»: эта формула воспринимается иначе, если учитывать, что бытие – не только продукт истории как реальных событий, но и истории как наших о ней знаний, истории как мифа (тогда бытие=сознанию; сознание определяет сознание, если не говорить о бессознательном, которое – определенно часть бытия, но и важный источник духа), в значительной степени дающей нам программы мирореагирования в типических ситуациях (а миф и история повествуют о типических необыденных ситуациях встреч хаоса и космоса).
Мы не только ощущаем духовную (символическую) связь себя с деяниями предков, ставшими историей, но и способны чувствовать реальную историю, которая творится здесь и сейчас. Человек, находящийся в месте свершения события, осознает себя щепкой в бушующем море. Мишле, описывая события французской революции, выразил впечатление стоящего вне схватки наблюдателя: «В тот день все было возможно… Будущее стало настоящим. Иначе говоря, времени больше не было, была вспышка вечности»(96). Участники события теряют восприятие времени, характерное размеренному бытию. Здесь уместно заметить, что история имеет два времени. Одно – реальное, привязанное к существующей системе исчисления временных координат, а второе – время собственно историческое, определяемое насыщенностью событиями того или иного отрезка реального времени. Историк не может не замечать, что определенные периоды времени более «насыщены историей», а другие – менее (в последнем случае история, событийность как правило перемещается в культуру – искусство, религию, игровые элементы быта, – а также в экономику). Это позволяет говорить о почти физически осязаемой плотности истории, о периодах, когда хаос прорывается сквозь мерно текущее, окультуренное время, что происходит, как нетрудно понять, благодаря внутренним человеческим, социальным резервам неудовлетворенности бытием, способным вследствие общественных противоречий накапливаться, достигать критической массы и взрывать реальность (97).
Итак, историей можно считать цепь необыденных, сакральных событий, определяющих порядок дальнейшего межисторического существования. Встреча с историей, подобно прикосновению ко всякому сакральному феномену, вводит человека в особое состояние одержимости нуминозным, роль которого играет сверхценная идея, какие-то святыни и сакральные символы, воодушевляющие людей на борьбу. Последнее кажется важным и для определения скрытых мотивов профориентации историков. Вероятно, историк – человек не только склонный к образному восприятию мира, что сближает его с творческой личностью и приводит к почти неизбежному увлечению мифотворчеством, то есть стремлению переписывать историю; он – индивид, остро ощущающий недостаток сакрального в окружающей действительности и связанных с ним переживаний (98). История переживается всякий раз, когда она вспоминается. Точно также и миф возрождается в каждом акте озвучивания, или разыгрывания его сюжета.
Человек, будучи отражением социума в миниатюре (общество – макрокосм, человек – микрокосм), обладает собственной историей. Каждый может отметить в своей жизни моменты, когда решалась его судьба, когда он оказывался на распутье, на переломе (личная воля в таких ситуациях не всегда играет первую роль). В такие моменты мы ощущаем себя игрушками слепой судьбы, в большей или меньшей степени обладающими возможностью что-то изменить. Автобиография, как нетрудно заметить, отражает течение исторического времени, отмечая основные этапы жизненного пути, то есть переходы и переломы индивидуальной истории, определяющие качественные изменения судьбы человека, основные вехи его путешествия не только во времени и пространстве, но и в культуре и истории всего общества.
История оставляет след не только во времени, но и в пространстве, в памяти материальных объектов, соприкоснувшихся с событиями. Прикасаясь к историческим реликвиям, символам истории, находясь в месте, несущем память о переломном событии, определившем нынешнюю действительность, современный человек подобен дикарю, припадающему к своим фетишам, имеющим символический смысл, уходящий в мифологию. Действие объектов истории на психику ничем не отличимо от действий объектов мифа – всевозможных святынь и реликвий. В нынешний век, когда на смену доминанте религиозной пришла национальная, история своей страны и народа рассматривается как важный источник патриотических – сакральных – чувств, а исторические места именуются не иначе как национальными святынями; происходит замена мифа историей. Исторические памятники способны возбуждать катарсические чувства и вызывать прилив энтузиазма, способствующий осознанию родства со своей общностью, растворению «Я» в «Мы», порождать определенный ход мыслей, связанных с нашим знанием об этом месте, как о необычном, ключевом для нашей общей судьбы (рода, народа, страны, всего человечества). Для первобытного человека такими сакральными местами, индуцирующими в присутствующих особое состояние сознания, служили «места силы» – внешне необычная местность, возбуждающая интерес или тревогу, либо связанное с реальными или мифическими событиями (что одно и то же для мифологического сознания), здесь произошедшими. Так, по свидетельству А. Хюльткранца, « некоторые объекты, например, национальный парк Йелоустоун в штате Вайоминг, вызывают у индейцев «священный ужас». Горячие источники и гейзеры в нем одновременно и отвращают, и привлекают. Индейцы рассматривают его как некое убежище сверхъестественных существ, место религиозных действий, которого в обыденной жизни надлежит избгать»(99).
К месту вспомнить о магической притягательности столиц для провинциалов, а для творческих людей – «крупных» издательств и СМИ, театров, кинокомпаний, зрительных и выставочных залов (впрочем, сегодня это всё могут успешно замещать сайты и «прокачанные» аккаунты в соцсетях). Важнейшее свойство сакрального места – открытость всему миру. Отсюда самый слабый голос слышен далеко, здесь пересекаются энергетические нити со всех сторон света (а для первобытного человека – со всех трех уровней вселенной). Поэтому столицы, как и важные исторические места, являются сакральными центрами. Как сакральное время предполагает уничтожение «нормально текущего» времени (100), так и сакральное пространство как бы не замечает профанной периферии (не случайно слово «глубинка» семантично близко низу, миру безсобытийности), существуя независимо, причем часто не только в идеальном плане, но даже в обыденном, т.к. из Москвы в Париж добраться в принципе легче, чем в какой-нибудь географически более близкий Тамбов. Открытость сакрального пространства миру может рассматриваться как пересечение путей. «Следует также напомнить о значении перекрестков. Они связаны с именем Гекаты, известной у римлян под именем Тривии. У них она проявила себя как наводящее ужас ночное существо, осуществляющее также связь с подземным царством. Перекрестки считались опасными, потому что там пересекались нуминозные сферы влияния. Там можно было сбиться с пути и свернуть на ложный путь и там могли брать начало несчастья, как это случилось с Эдипом»(101).Примечателен и процесс образования новых сакральных центров, возникающих посредством реализации важных событий, вырывающих вдруг из тьмы профанного прозябания тот или иной город, превращая его не только в «то, что на слуху у всех», но и делая его имя новым символом, понятным каждому (примеры последних лет: Чернобыль, Вуковар, Буденновск).
Древние греки рассматривали священные места – теменосы – как строительные элементы космоса . « Они представляют собой не просто элементы пространства, в которых содержится нечто, что позволяет им иметь любое меняющееся содержание, они организованы при посредстве этого содержания и находятся с ним в неразрывном единстве. Теменос есть то, что оно есть, представляя собой атрибут одной или нескольких нуминозных сущностей » (102).
На примере сакрального времени и места подтверждается важный принцип сакрального – его нескончаемая творимость, сравнимая с неутихающим вулканом, извергающим потенции нового. Сакральные места осознаются такими лишь потому, что события, здесь произошедшие, всё еще влияют на нас, продолжая созидать ту реальность, к которой мы принадлежим. Поэтому творческая энергия, исходящая от исторических объектов, позволяет ощущать контакт не только с прошлым, но и с будущим; в сакральном месте ощущается принадлежность к сакральному времени – вечности.
Если исторические сакральные места несут печать событий, здесь произошедших, память о многое изменившем хаосе, то «действующие» сакральные места, или «центры», ежечасно порождают хаос. В эпохи исторической стабильности именно в центрах скапливается и свершается вся история («кишение бытия»: много людей – много возникающих между ними ситуаций взаимодействия, заставляющих ощущать вызовы и отвечать постоянно). Характерной чертой таких сакральных мест является инверсия своего и чужого. Если в профанных местах, где мы среди своих на своей, познанной территории, чужаки вызывают пристальное внимание как носители нового, то в сакральном месте мы не только безразличны к чужим (пока они нас не затрагивают), но рады встрече со своим. В хаосе причиной радости и внимания является родное, узнаваемое. В сакральном месте время ускоряется, требуя скорости принятия решений, получения свежей информации. Отсюда постоянное увеличение количества и совершенствование СМИ, убыстрение темпа жизни, требующего все больших скоростей передвижения и передачи сообщений. Современный крупный город, а также мировая сеть отвечают модели такого сакрального места, во многих деталях воспроизводящего архетип средневекового карнавала, или первобытного ритуала.
САКРАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. Потребность переживаний сакрального принуждает к поискам встречи с ним, что ведет к странствиям различного рода. В одних случаях странником движет осознанное желание прикоснуться к святыне – таковы путешествия паломников. В других – полуосознаваемые, либо построенные на фантазиях предания о сказочных странах становятся двигателем для искателей загадочных мест (из этой жажды диковинного исходили едва ли не все первопроходцы эпохи Великих географических открытий: ими двигала то страсть найти царство пресвитера Иоанна, то жажда сокровищ Эльдорадо, то очередная легенда о местонахождении чаши Грааля, то преувеличенные слухи о богатствах и чудесах Индии). К особому типу сакральных странствий можно отнести крестовые походы. В широком смысле крестовый поход – это путешествие во имя сакрального, несущее священную благодать прозябающим в невежестве. В этом типе странствия кроется первичный смысл полюдья – объезда священным царем своих владений; что же касается собственно крестовых походов ко гробу Господнему, то они резко отличны от остальных, не имевших достижение святыни конечной целью.
Важным элементом эпических сказаний является путешествие героя, приводящее его к обретению удачи, богатства, любви после преодоления определенных испытаний (103). Именно такой сюжет, опирающийся на волшебные сказки и находящий истоки в шаманских рассказах о запредельных странствиях во время камланий, выступил архетипом для священного путешествия вообще, предполагающего уход от мира, аскетизм, преодоление лишений и опасностей, что служит залогом обретения мистической цели. Не удивительно, что мифический образец, повествующий о злоключениях души шамана или больного (утратившего гармонию; но точно также человек без сакрального выглядит как больной, утративший важную часть души) в ее путешествии по лабиринтам иных миров, трансформировался в историческую эпоху в реальные путешествия.
Образ одинокого странника – рыцаря, ремеслом которого есть война и поиск приключений, в новое время был сменен бесстрашным офицером, берущим крепости и женщин, но в основе всех этих столь реальных образов, воплощавших идеал эпохи, лежит слишком рационалистически понятый сюжет о трикстере (мифическом герое-плуте, вроде греческого Геракла, скандинавского Локи, палеоазиатского Ворона, западноафриканского Паука), или камлающем шамане. Ищущий приключений или смерти герой в мифе более явственно нацелен к сакральному объекту, а герои-сорвиголовы, чьими образами кишит приключенческая литература, лишь бессознательно стремятся к сакральному, оно приобретает для них магическое воплощение: деньги, слава, власть. Можно сказать, что они просто бесятся, не находя гармонии внутри себя именно из-за отсутствия сакрального начала и вся их борьба (или менее авантюрные мучения, как у многих героев буржуазного века, помещенных в сдавливающую атмосферу городов) есть бессознательной попыткой обретения гармонии, нахождения того идеала, того сакрального объекта, который смог бы уравновесить внутреннее чувство ущербности, сопутствующее человеку с высокой потребностью в сакральном (104).
Тяга к сакральному переполняет не только личность, призванную священнодействовать, но и подростков, (известно подростковое стремление к уходам из дома, бродяжничеству и асоциальному поведению) поэтому именно к этому возрасту в первобытности приурочивали обряд инициации, имеющий многие черты сакрального путешествия (105). Вероятно, торжество духа истории многим обязано утрате ритуальных форм посвящение, что привело к трансформации культурных механизмов поиска идеального в исторические. История – это инобытие мифа и ритуала.
Сакральные странствия, выливающиеся в деструктивные действия, говорят о том, что в историческом обществе пути к основным тайникам священного забыты, и потому тяга к неизведанной святыне ставит на путь разрушения. Даже если сакрального не существует вне веры в него и знания о нем (если о тайном может быть знание в привычном смысле), то тяга к сакральному объективно существует в самом человеке, требуя выхода и внешних объектов для приложения. Тяга эта, которая у раннего Юнга названа либидо, выступает одновременно творческой энергией, которую нужно понимать не в духе психоанализа – как сублимация вытесненных желаний, а как болезненное ощущение неполноценности обыденной жизни и устремленность к поиску великого. Это влечение вовсе не похоже на Эрос – тягу к конкретным вещам «мира сего» (приземленной тягой «заведует» магия). Эрос является изначальной потенцией хаоса, а стремление к сакральному является таковой, пока ищущий не находит объекта почитания; таким образом, обретение сакрального способствует обузданию хаоса. Парадокс же в том, что сакральное побеждает хаос не методом его расчленения (хотя миф иллюстрирует творение мира как разъятие хаоса), но синтезом противоположных начал, «снятием» хаоса, то есть возвышением над ним. Сакральное выявляется в «единстве и борьбе противоположностей»: расчленении и соединении (см. «Сакральное слово», где разделение и соединение выявлены как важнейшие принципы священного; хотя мифы о творении утверждают, что разъятие первозданного хаоса победило хаос, но регулярные обряды и жертвы, направленные на поддержание космоса, убеждают, что наш мир – лишь остров в океане хаоса), Танатосе и Эросе, выдохе и вдохе, аскетизме и дионисийстве, одержимости и экстазе, вызове и ответе. Расчленение же необходимо, чтобы новое сочленение было другим; смерть нужна, чтобы было возможно рождение нового.
История, являясь цепью сакральных событий, есть путешествие к сакральному, совершаемым во времени, ведь каждое историческое событие представляется как шаг к истинному бытию, священному и идеальному. Ни одно творение, в том числе и историческое, не начинается без идеализации, сакрализации результата. Богоборчество истории при таком рассмотрении видится как нескончаемая череда попыток восстановления порядка, а не разрушения его, как стремление к разрушению тех преград, за которыми скрывается великая сакральная цель, принимающая формы то «Царства Божия», то «коммунизма», то «торжества Рейха» и т.п. Таким образом, история, ставшая отходом от мифа, имеет результатом и священной целью конец истории и возврат к «золотому веку» мифа. История – это в том числе и война альтернативных взглядов на сакральное, война между различными традициями. Активные творцы истории сами не принимают исторических ценностей, но всегда ищут и свергают «ложных богов», предлагая им замену.
Вспомним, что стартом истории стало начало материального неравенства, разделения людей предметами, приведшее к усилению и обособлению «Я». Современность же с ее рационализмом и культом вещей превратила сакральное путешествие в сизифов труд безудержного движения к материально воплощенному счастью. Гедонистическая цивилизация ХХ века предложила своим адептам многочисленный набор квазисакральных ценностей, приобретаемых за деньги. К таким священным предметам современности относятся модные туалеты, престижные гаджеты и прочие «фишки», делающие их обладателя представителем некой «элиты» (мы уже говорили, что сакральное есть главный инспиратор иерархичности бытия). Человеческие потребности, вставшие во главу угла, откровенно подстегиваются в развитии. А так как сакральное – вечная потребность, к которой можно лишь прикоснуться, но которой нельзя обладать, то современный потребитель скоро обнаруживает, что сакрализуемый им автомобиль, вызывавший после приобретения прилив радости и кратковременное растворение «Я» в экстазе, вдруг перестал волновать, превратился в обыденный объект, лишь пожирающий средства и время. Если первобытному предку фетиш мог служить на протяжении поколений, то ныне сама система производства и потребления заботится о десакрализации всего, чему уже готова замена. Борьба конкурентов на рынке есть борьба первобытных колдунов, каждый из которых должен наиболее удивить публику чудесами и осмеять достоинства соперника, десакрализируя их.
Если потребитель «путешествует» от вещи к вещи, то для творца его путешествие – это путь к вдохновению, а также с полученным даром обратно. В архаических культурах продукт творчества считался прямым итогом мистических путешествий: «Нередко создателями новых произведений, «полученных» во сне, являлись мужчины-знахари, иногда женщины, сведущие в любовной магии. Так, Хоуит сообщает, что в племени тувбал новые песни часто создавали знахари; считалось, что они приобретают песни во время своих мистических путешествий под землю или перелетов по воздуху»(106). Не случайно творчество часто метафоризируется как полет, как и шаманское запредельное путешествие, а в таких известных помощниках творцов как Музы и Пегас актуализирована идея полета (107). Движение можно рассматривать как попытку преодоления ограниченности времени/пространства, приближения к всеобщности, абсолютному (108).
Вероятно, для творческих людей путешествия (тяга творческих личностей к странствиям отмечена Ч.Ломброзо) плюс творчество – тоже в определенном роде путь к сакральному – играли ту же роль, что и шаманские камлания. В этом случае само путешествие (не коммерческий тур или отдых на морях, а странствие ради самого странствия) играет роль не только пути к сакральному, но и самого сакрального, способствуя растворению «Я» в окружающем, обретению новых впечатлений и опыта. Не так уж метафорично прозвучит мысль о том, что сама жизнь есть путь к сакральному, вечный поиск и мимолетные встречи с чем-то удивительным и Настоящим. Потому не удивительно, что при отсутствии убедительных (авторитетных) персонификаций сакрального, сакральным становится сама идея Пути (Дао).
Путешествие имеет ту позитивную ценность, что, преодолевая всяческие границы, позволяет «Я» приблизиться к всеобщему через физическое приближение ко многому, к различным сакральным точкам мира, в которых концентрируется его сила и многообразие. Несомненно, сегодня телевидение способно в определенной степени заменить собой и само путешествие, и то, что оно символизирует – камлание. Отбирая для показа наиболее впечатляющее, устраняя физические неудобства реального путешествия, привлекая яркие краски, звуки, телевидение позволяет прикоснуться к миру, никуда не двигаясь. Проблема лишь в том, в чьих руках находится эфир, какие цели преследуют силы, владеющие электронными СМИ. Только сознательное желание использовать телевидение как средство приобщения к сакральному будет способствовать действительному одухотворению социума. Необходимо не очеловечивание, а одухотворение; идеальный строй не может иметь человеческого лица, поскольку на деле оно оказывается личиной. Человек сам по себе – еще никто. Его делает кем-то определенный дух.
САКРАЛЬНОЕ СЛОВО. В феномене сакрального слова наиболее отчетливо отразились свойство священного порождать ощущение двойственности: угадывания, догадывания, намека, но не знания. В мифологии творение мира часто начинается со Слова – изречения, дающего начало пониманию = расчленению хаоса. Тогда всякое слово является повторением творения в масштабах микрокосма, каждое изреченное чувство становится сакральным актом.
Интересна мысль В.Н. Топорова о возникновении языка из ритуала, это делает еще более очевидной сакральную природу генезиса речи (которую мы не зря называем членораздельной – такой, в которой можно вычленить отдельные элементы как признаки меры, порядка). Слово, обретая коллективную значимость, ставшее понятным не только произносящему, но и слушающим, является чудесным орудием не только познания мира, но и его преобразования. Не удивительно, что по мере совершенствования языка именно сакральные речи сохраняет свойства первослова. В сущности, всякое сакральное слово является первым, поскольку выражает новое чувство своего творца, предлагая слушателям ощутить сходные новые чувства. Творение языка – удел тех, кто произносит сакральные слова, которые способны вызывать эффект первооткрытия, прикосновения к новому, неведомому. Но по мере того, как слово обживается в обиходе, оно профанизируется, утрачивает творческую силу (поэтому, в частности, дети не ищут сакрального: для них еще все ново, все непонятно, а потому сакрально).
С другой стороны, восприятие сакрального слова страдает субъективностью (особенно в наше время), поэтому, чтобы Говорить, необходимо, чтобы Слушали. Это достигается в таких случаях: если Говорящий авторитетен, если Говорящий сообщает необыденное, если Говорящий говорит необыденно. Эти три условия могут быть совмещены в речи пророка, шамана – людей несомненно авторитетных как раз в силу своих способностей Говорить. Более того, дабы стать авторитетным, нужно умение Говорить, то есть изрекать ценные слова. Автор сакрального слова сам становится сакральным, и наоборот – все слова, исходящие от него, начинают нести печать сакральности. Творцами Слова выступают либо поэты, либо шаманы – священные лица (М. Элиаде утверждал, что лексический багаж шамана в три раза превышал словарь профанного соплеменника, см. 109).
Сакральное слово чаще всего реализуется в сакральном тексте, обладающем теми же свойствами. Любой пишущий, сознательно или нет, занимается созданием сакрального текста, поскольку, доверяя свои мысли бумаге, автор тем свидетельствует о ценности изрекаемого. То, что раньше провещалось на площадях и в храмах, в ритуалах и шаманских камланиях, ныне доносится до общества через интернет и СМИ.
Поэзию называют праздником языка. Событие текста – поэзия, как событие бытия – война, катастрофа, конфликт, либо брак, встреча, слияние, поглощение. Миф – это всегда повествование о событии (утрата или приобретение, нарушение гармонии, меры), он дает деальные примеры поведения в событии. Любая встреча двух предметов/образов, которые не могли бы сойтись в обыденной действительности, творит поэзию. Ритуал – поэзия в действии; поэзия – ритуальный творческий хаос в оболочке слов. Встреча невстречаемого преодолевает обыденность, знаменуя прорыв к потенциям первотворения, когда явилось Первослово, когда мир только начинался (примером поэзии может быть совершенно произвольно составленное словосочетание, которое способно породить целый пучок смыслов, ассоциаций и образов).
Поэзия не существует без мифа, который является ее смыслопорождающим плодородным грунтом. По сути, любой литературный метод имеет в основе свой миф, философию – будь то символизм, сюрреализм, или соцреализм. Всё это те мифы, которые питают поэзию своим содержанием, наполняют внутреннюю форму сакральных текстов. Если поэзия моделирует хаос, создает атмосферу ритуала, то миф организует этот ритуал, дает ему цель и смысл, позволяя преодолеть, изжить хаос. Поэзия – внешняя форма, миф – содержание и философия сакрального текста. Поэзия сама по себе не имеет ценности и только мифопоэзия является социально значимым сакральным словом. Но как миф не был только формой выражения мировосприятия, не только языком, но целой философией бытия, программой мирореагирования (110), так и поэзия пронизывала не одно Слово, но все сакральное, выражая его многогранную суть. Магия есть овеществленная поэзия, но чаще всего лишь ее элемент – метонимия. А квинтэссенцией сакрального можно считать метафору, сводящая в одну точку разные вещи, аннигилируя обыденное восприятие. Сакральное представляет собой символ культуры и метафору хаоса, ведь суть сакрального – соединение сил разрушающих и созидающих. Миф, по К. Леви-Стросу, тоже метафора; музыка, математика – чистейшие метафоры в их неязыковом бытии. Всё в мире, в конечном итоге, можно рассматривать как метафоры (одухотворяющие акты вознесения/перенесения), или эманации (нисхождения) творящих первоначал, смыслопорождающих потенций Эроса и Танатоса.
Основными признаками сакрального текста выступают те поэтические средства, которое разрушают обыденность (111), позволяют представить невообразимое, моделируют атмосферу творения, а значит – отсутствия четких границ предметов и явлений, их перетекание из одного в другое (полисемантизм: одно есть многое; не в этом ли суть философского восприятия действительности – видение в одном многого?). Магизм поэзии, ее способность вызывать особое состояние сознания происходит из этих особых средств – тропов. И.Бродский назвал иронию нисходящей метафорой. А Х.Ортега-и-Гассет указывал, что современная поэзия часто прибегает к метафоре как средству снижения ценности вещи (112). По сути, существует две модели сакрального текста: трагической – обращенной к верху (метафора), и комической, снижающей ценность – обращенной к нижнему миру (инверсия). В первобытных культах инверсия была важнейшим элементом погребальных ритуалов. Захорорение с умершим разбитых, поврежденных, то есть «умервщленных» вещей, является примером инверсии – переворачивания. Возвышающая метафора призвана смоделировать такую атмосферу, которая способствует подъему, облагораживает ситуацию, придавая ей пафос сакрального (113). Ирония же, обращенная к миру смерти, предполагает снятие напряжения, ощущения опасности, снижение накала ситуации посредством смеха. Снижающий или повышающий эффект рождается благодаря использованию слов и символов различной ценности в иерархии языка. Так, некоторые слова слишком обыденны, поэтому редко появляются в сакральных текстах, представляя собой фон бытия мира сего. Другие слова обладают повышенной ценностью, приближены к верху и символизируют позитивные свойства (солнце, небо, гора, цветок, птица, дерево). Третьи же наделены негативным смыслом и относятся к сфере «низа» (муха, навоз, нора, жаба). Манипулируя словами разных уровней, творец добивается эффекта повышения или снижения. Замечу, что сакральный текст и призван установить связь либо с верхом, либо с низом, повысить нечто, или понизить. Это либо гимн, либо поношение, восходящая метафора, чрезмерно драматизирующая ситуацию, или ирония, снижающая суть происходящего. По тому, как поэту или пророку удается моделировать ситуацию, они могут делиться на жрецов низа и служителей верха (черных и белых шаманов; знахарей и ведунов). Характерно, что многим современным творцам гораздо легче даются критические, или очернительные тексты с изобилием «инфернальной» лексики. Похоже, в наше время (да и в любые кризисные эпохи) усиление именно низшей сферы в речи людей свидетельствует об удалении срединного мира от верха, эманирующего сакральную благодать, и приближение к «инферно» – миру смерти, гротеска, иронии и хаоса. Сакральный текст, обращенный к нижней сфере, вернее будет назвать антисакральным, если с ним рядом не сосуществует текст возвышающий; слово, обозначающее ситуацию исторжения сил низа в наш мир, перестает «работать», выполнять позитивную роль («средневековый гротеск не противопоставляется сакральному… пожалуй, наоборот, он представляет собой одну из форм приближения к сакральному. Он одновременно и профанирует сакральное и утверждает его», см. 114; также о сути квазисакрального текста см.: 115). Непрерывный смех, если он, в конце концов, не приводит к установлению нормального состояния эмоционального равновесия, становится болезнью, а не лекарством. Если вся наша жизнь пронизана иронией, если в ней нет ничего подлинно возвышающего, это свидетельство скрытой тоски по сакральному. Кто же не способен иронизировать, кто не видит гротескности собственной жизни, тот, вероятно, не обладает должным чувством и тягой к высокому. «Если Христос никогда не смеялся, то дьявол никогда не плачет»(116) и современный человек готов походить скорее на дьявола. И смех, и плачь суть инверсии обыденности, ритуализация ситуации, но сегодня человек подобно дьяволу, как силе, не признающей сакрального, страшится более всего показать свою слабость, низость пред верхом, мня себя самой вершиной. Нам почти недоступна катарсическая сила плача. Смех же, обращенный к низу и говорящий о силе, о победе над негативным, мы привлекаем в союзники достаточно часто – даже тогда, когда в пору заплакать. Низкое всегда доступнее высокого, особенно для профанного человека.