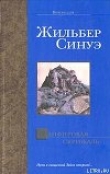Текст книги "О природе сакрального"
Автор книги: Григорий Луговский
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
4. Экстатичность. Сакральное потому и впечатляет, что не ограничивается пределами вещи, но входит и в его созерцающих, вводя их в особое состояние сознания, делая их другими, новыми. Оно избыточно как по форме, так и по содержанию (полисемантизм сакрального обычно диктуется его полиморфизмом), энергично и экстатично. В этом смысле понятным становится, например, почему эвенки-орочоны называют лося и оленя в период гона божественным (67): отличие божественного от мирского состоит в избыточности, способности творить, порождать. Всякое творческое состояние по сути экстатично и сакрально. Полисемантизм сакрального позволяет ему разрушать обыденный мир, описываемый человеческим языком, быть одновременно одним и многим, находиться в вещи и быть «духом», выходящим за границы себя, то есть сущностью не материальной. Не случайно, поэтому, например, «у кетов слово кайгусь означало и духа-хозяина животного, и охотничий трофей, и удачу («фарт»)»(68), то есть то, что можно было бы назвать духовным стержнем самой идеи охотничьего промысла (животное + удача = трофей; сакральность ситуации здесь определена ее непредсказуемостью и напряженностью, что роднит ее с ритуалом, игрой). Интересно сопоставить слова «великое», «большое» и «боль». Встреча с великим, переживание величия может быть связано с болью; у индейцев Калифорнии, находившихся на очень ранней стадии развития, духи так и именовались – «боль» (69). Характерно, что именно экстатические практики являются стержнем шаманского комплекса, который в той или иной степени присущ всем архаическим культурам (см. Человек священнодействующий).
Итак, первобытное сознание выделяло в природе все то, что было более сложно организовано, чем всё привычное, обыденно, полагая это за послания сверхбытия, требующее расшифровки. Все формы архаических верований выступали языком для «разговора» с сакральным и доминирование у различных племен культа предков, тотемизма, культа предков, промысловой магии и т.п. следует выводить из индивидуальных условий, той цепи вызовов-ответов, которые формировали облик данной культуры. Сакральное не существует вне восприятия, вне оппозиции «вызов-ответ», оно рождается как удачное прочтение ответа в вызове; ответ вытекает из вызова, диктуется им, а единство вызова и ответа и составляет суть сакрального, здесь и сейчас проявившегося.
Хотя вызов-бытие и определяет ответ-сознание, но сознание, культура выживает, лишь оказываясь сложнее, выше, чем вызов. Поэтому ответ можно считать удачным только тогда, когда он выше уровня, на котором действует вызов; ответ есть сублимация вызова (70), он рождает нечто новое, опираясь на благодать сакрального. Только в этом случае возможно развитие, расширяющее границы свободы, победа над косностью бытия как символом циклизма повседневности. Не случайно прагматизм первобытного человека был «ориентирован на ценности знакового порядка в гораздо большей степени, чем на материальные ценности, хотя бы в силу того, что последние определяются первыми, а не наоборот»(71). Как сакральное творит культуру, так воспринятые знаки и образы формируют сознание. Для мифологического сознания очевидным выглядел факт, что сакральное лежит не только в основе культуры, но и всего бытия, мифопоэтическому сознанию очень близка семиотическая идея бога из библейской формулы «вначале было Слово» (72).
Нужно отметить, что может быть две концепции того как сакральное проявляет себя, отмечая объекты действительности. 1. Сакральное есть эманация сверхбытия, трансцендентного. 2. Сакральное имманентно вещам мира со времен его творения и лишь проявляет себя в них при особых обстоятельствах. Первая концепция, которую можно назвать эманационной, характерна для философски развитых, а потому абстрактных духовных систем, выделяющих сверхбытие как трансцендентный мир. Вторая концепция более архаична; назовем ее сублимативной, поскольку здесь сакральное возвышается (позднелат. sublimatio – возвышение, вознесение, от лат. sublimo – высоко поднимаю, возношу) – сублимируется из самих вещей. Она связана с мифологической идеей творящего хаоса, к которой, по сути, обратилась современная наука в учениях об эволюции, самоорганизации и саморазвитии материи и жизни. Первобытная троичная модель мира не знает подлинного трансцендентного исторических религий, здесь любая вещь и явление может одновременно обладать качествами всех трех уровней космоса (врожденным, актуальным и нарождающимся; см. Сакральное и эволюция). Такая структура Вселенной уподобляет мир матрёшке, в которой микро-, мезо– и макроуровни, будучи сами низом, серединой и верхом, имеют в себе свои низ, середину и верх (ср. семь небес, семь кругов ада и т.п.). В трехчленной модели мира сакральному, вероятнее всего, отводится роль верха, который, по логике вещей абсолютен, то есть одновременно объемлет все лежащие ниже уровни бытия. Тогда, прошлое/природное/бессознательное соответствует здесь «низу», настоящее/человеческое/сознание – «средине», а «верх» символизирует будущее (возможное)/божественное (сакральное)/ сверх-я. «Верх» в гегелевском смысле отрицает человеческую «средину», а «средина» отрицает «низ». Впрочем, любая из этих моделей будет спекулятивной, поскольку мифологическое мышление мало интересовала непротиворечивость схем. Здесь одно запросто может оказаться одновременно другим. Например, дух – бесплотная субстанция, может одновременно представляться бабочкой, или птицей, любым животным и явлением.
САКРАЛЬНОЕ И ЭВОЛЮЦИЯ. В понимании древних, сакральное есть то, что творит как природу, так и культуру. В основе любого развития лежит встреча с сакральным, воспринимаемая как вызов и ответ на него.
Как пишет М.Элиаде, «если священному камню поклоняются, то это потому, что он священный, а не потому, что он камень; именно священность, проявившаяся через образ бытия камня, открывает его истинную сущность»(73). Тем самым, сакральное может выступать чем-то родственным платоновскому эйдосу: камень содержит в себе потенцию первокамня, является мимесисом «каменности», как стол – создан по подобию «стольности» и т.п. Это сближает сакральное не только с понятием символа, о чем уже говорилось, но и указывает на его эволюционную сущность. Наше сознание здесь не делает разницы между природными и культурными явлениями. Мы способны видеть символы повсюду. Более того: смысл творчества или открывания нового заключается в способности видеть символы там, где ранее их не замечали, это непрерывный процесс открывания нового сакрального опыта там, где ранее он не мог быть воспринят.
Если сакральное есть ценное, то сущность всякого явления и вещи мира есть ценное в нем. «Тенденция, превращающая жизненно важные предметы или явления в фетиши и объекты культа, избирательна, механизм этой избирательности еще не изучен и должен стать предметом особого исследования… Но сама тенденция бесспорна и часто наблюдаема; она была отмечена, например, автором рукописи 17 в. «Сад спасения», где говорится о лопарях: «Аще иногда камнем зверя убиет – камень почитает, и аще палицею поразит ловимое – палицу боготворит»(74). Но сакральной, ценной сутью обладают все объекты и явления бытия. Утрачивая эту суть, они теряют свою особенность, отличие. Если попытаться любой объект действительности описать максимально подробно, то ясность образа будет утрачена, целостность восприятия разрушена, поскольку выявит в нем множество деталей, свойственных другим объектам и, тем самым, такое описание будет размыванием границ предметов и воссозданием хаоса, возрождением времени творения. Метафоры и метонимии являются языковым инструментом подобного разрушения, при котором образы становятся кирпичами творения новой знаковой реальности (см. Сакральное слово). Не случайно творение действительности в мифах часто представляется как называние, произношение Слов – дача Имен. Вне языка объекты теряют свою самостоятельность, сливаются в бессмысленные пятна, как на картинах абстракционистов. Мы узнаем действительность лишь по тому, как отличаем особенности каждого ее факта (само наше восприятие изначально индуктивно, или метонимично, – по части мы узнаем целое). Так, камень вообще, понятие камня, его смысл и будут его сакральной сущностью. Но родовые свойства явления – это только первый этап узнавания. Мы видим «камень», или «человека», а дальнейшее познание его означает постоянное развивание скрытой сути, выявляющей индивидуальные черты каждого «камня» или «человека». Так, рак может выступать символом «хождения вспять» и метафорой красноты. Но если первое отмечает его характерное свойство, то второе сближает с целым рядом других объектов (поэтому метафора является основным поэтическим инструментом моделирования хаоса). Эйдосом слона для мифопоэтического мышления может быть, например, его большой рост и наличие хобота, бивней – в этом заключается «слонность», как «медведность» – в «бурости», когтистых лапах и т.п. Магические действия, использующие метонимический принцип «часть вместо целого», предполагали замещение животного актуальной его частью: птицы – крылом или пером, щуки – челюстями; «от крупных животных брали их части: от медведя – клыки, от собаки – лапы, от лисы – челюсти и т.д…. им приписывали те-же способности и функции, какими обладали эти животные»(75). Эвенки считали, что «душа животного – оми – помещается в наиболее развитых и жизненно важных для него органах»(76). Известны архаические представления о необходимости съесть сердце медведя/волка/вражеского воина, чтобы обрести храбрость. Идея сакрального утверждает первичность знака и восприятия, информации и коммуникации, что свойственно вцелом мифопоэтическому мышлению. Для первобытного сознания сакральная суть – «вещь в себе» – заключена в единстве первознака вещи и ее предметной сущности, вещи, слова и понятия (предмет – знак – образ), это единение, слитость отчасти передает понятие «символ». Тогда профанные вещи – только проекции реальных, бледные копии в духе платоновского учения об эйдосах. Сакральное обращено к существованию, его ближайшими синонимами могли бы стать «бытие», или «экзистенция». Очевидно, что первобытный человек не владел известной нам способностью к абстрагированию, поэтому не знал идей бытия, существования как такового, зато мог обратить внимание на «актуальные аспекты бытия», которые воспринимаются как послания, или знаки.
Мифы обнаруживают постоянное обращение к сюжетам, где появление объектов действительности происходит путем выделения у «праобразов» их особых черт и свойств. Так объясняется полосатость тигра, плодовитость свиньи, дневная и ночная природа Солнца и Луны, то есть отличительные свойства явлений и предметов, о которых идет речь. Не будь этих особых отличий, мир бы уподобился первозданному хаосу – безвидному, без-образному и непрерывному. Творение представляется мифологическому сознанию процессом обнаружения/проявления выявлением отличительных признаков, обретением формы в результате сакральных актов, без которых не происходит ни одно изменение в мире. Сакрально то, что находится на острие эволюционного процесса, что ценно в этом виде, наиболее очевидно (с точки зрения данной культуры) характеризуя его как дифференцирующий признак (это же касается и особи, общества, этноса, популяции; а в основе возникновения прозвищ у людей всегда лежит некое нуминозное, впечатляющее событие). Сакрально то, без чего носитель свойства перестает быть собой, теряет лицо, превращаясь в «кирпич творения», т.е. элемент для большей конструкции.
И как лицо общества, этноса, личности составляет их набор сакрализованного (культура, традиция), так особенные проявления бытия могут говорить и о биологических сущностях. Эволюция в этом случае есть процесс «нанизывания» удачных приобретений (а мифы изображают генезис новых сущностей именно через удачные ответы на вызовы; приобретенные качества представляются как дар за разрешение некой конфликтной ситуации) на условный общебиологический стержень, исходящий из гипотетической начальной точки зарождения жизни и направленный к некой «точке Омега». К такой же гипотетической точке можно свести и все многообразие человеческих культур, рас, языков, расхождением обязанных множеству влияний внешних вызовов и удачных изменений-ответов на давление среды. Биологическая и социокультурная эволюция имеют слишком много общего, хотя протекают с разной скоростью. В. Тэрнер справедливо рассматривает человека как вид, «чья эволюция происходит главным образом посредством его культурных инноваций»(77).
Конечно, не каждый ответ (инновация, «волшебный дар»), как природный, так и культурный, может считаться успешным, но поскольку эволюция совершается, то «новое приобретение – которое нельзя вывести из предыдущей ступени, откуда оно берет свое начало – в подавляющем большинстве случаев бывает чем-то высшим в сравнении с тем, что было»(78). «Многие ученые… видят в эволюции целенаправленные потоки особой энергии, ведущие к усовершенствованию»(79). Реагирование соматического жизненного начала (тела) происходит по каким-то законам, которые вряд ли абсолютно случайны, а должны следовать внутренней потребности той популяции, что приняла вызов среды. Потребности эти соответствуют «интересам» и принципам жизни вообще, а потому, вероятно, механизм реагирования в чем-то сходен как в биологической, так и в культурной эволюции. И если удачный ответ культуры приносит «волшебные дары» в виде новой сакрализации, то и эволюционное приобретение – удачный ответ жизни – имеет сходную сакральную сущность.
В идее сакрального освящается сама эволюция. Последнее подтверждается определенным сходством эволюции и обряда инициации: в обоих случаях происходит приближение к смерти и/или ритуальное умирание – жертвоприношение прошлых свойств индивида ради обретения новых качеств, перерождения («Все что не убивает, делает нас сильнее»). И здесь, и там индивид пересекает границу тревожного нового опыта и проходит через небытие, в обоих случаях он испытывает страдания и чувство отчуждения. В еще большей степени эволюция сближается с посвящением, если верна теория скачкообразного её протекания, когда длительные периоды размеренного, «нормального» бытия сменяются краткими скачками (сальтациями). Если в природе, вследствие изменений среды, нарастает число мутаций (= возможностей), в культуре этому соответствуют ритуалы прохождения через бесстатусность, бесформенность (см. В.Тэрнер. Символ и ритуал).
Здесь перед нами встает вопрос: сакральное есть наиболее общее, или наиболее особенное? Но всякое общее когда-то было особенным, как и всякое прекрасное – безобразным. Сакральное требует определенных уступок Танатосу ради дальнейшего утверждения жизни; принесения в жертву части жизненной силы для обретения новых качеств. И если красота – торжество черт наиболее общих, итог банального повторения оптимальных форм, благославенного Эросом, то уродство, без-образность в силу напряженности в нем конфликта Эроса и Танатоса, в силу близости столь взаимоотрицающих начал, чревато творением нового, неподражательного. Красота/Эрос цикличны и являются частью Закона, космического (а космос – это «красивый мир») порядка, а значит, относится к сакрализованному (вспомним, что критерии красоты изменчивы в разные эпохи и в разных традициях). Безобразное же ближе к танатическому началу. Красивое (=эротичное), по Платону – то, что взывает к творчеству, чревато творением, порождением. Красота – признак наибольшей удаленности от смерти, максимальной жизненности, силы, слишком приспособленности к бытию в этом мире. Не случайно и в природе мы находим наиболее прекрасным то, что готово порождать, что наименее заражено смертью – цветы, плоды, зелень, пение птиц (как правило, связанное с периодом размножения). Но красота лишь до известной степени выдерживает давление. За гранью ее выносливости лежит либо гибель, либо уродство – мутация, несущая новые свойства, которые при определенных обстоятельствах становятся оптимальными, то есть прекрасными (не случайны отличия канонов красоты в культурах, формировавшихся в непохожих природных условиях).
САКРАЛЬНОЕ, МИСТИЧЕСКОЕ И МАГИЧЕСКОЕ. Тема красоты приближает нас к таким категориям как мистическое и магическое. Мистика подразумевает веру в возможность непосредственного контакта со сверхъестественными силами, либо возможность сверхъестественного контакта с естественными объектами. То есть, чтобы говорить о мистике, необходимо наличие сверхъестественного как особого полюса бытия. Пока остановимся на том тезисе, что культура и все ее факты сверхъестественны. А с точки зрения мифологического сознания, культура (сакрализованное) берет свое начало в абсолютном сверхъестественном источнике – собственно сакральном.
Мистика позволяет самоотождествлять индивида с неким внешним объектом, чувственно с ним сливаясь, что может принимать две формы: экстаз – отождествление с сохранением своей воли, и одержимость – слияние с подчинением воле внешней. Впрочем, вполне вероятно экстаз и одержимость – лишь две необходимые фазы единого процесса общения с иным, как вызов и ответ, вдох и выдох; по мнению Н.А.Бердяева, мистическое погружение в себя одновременно есть и выход из себя.
Коммуникация с сакральным сводятся к двум формам: «вслушивание» в вызов, и сам ответ; одержимость (принятие вызова) и экстаз (исход из границ себя в ответе). Первому, как считал К.Леви-Строса, соответствует анимизм – антропоморфизация природы, а второму – магия, или физиоморфизация человека. Принято также, вслед за Дж. Фрэзером, противопоставлять магию и религию, соотнося первую с современной наукой. Если мистика (которую иначе можно называть панпсихизмом, или анимизмом) – это идеология сакрального, то магия – его практика; мистика – идея, а магия – акты, эту идею утверждающие. Но все-таки между магией и сакральным есть определенная граница: как не все сакральное магично, так и не все магичное сакрально. Магия – это готовый язык, набор техник, выработанных отношениями с сакральным, но могущий начать самостоятельную жизнь. То есть магия может быть как частью сакральных обрядов, так и принимать профанные, индивидуалистические формы.
В определенном смысле вся культурная деятельность магична и мистична. Так, ремесленник, изготавливающий нечто, углубляясь в процесс труда, подчиняет себе материал и «становится духом» той формы, которую нужно придать материалу (экстаз). А ученый, желая познать некую сущность, пытается «вслушаться» в нее (одержимость). Мистическое первого рода присуще магии, а мистика второго рода – мифологии как идеологии прочтения вызовов сакрального. Миф знаменует вдох (одержимость), а магия – выдох (экстаз). Согласно У.Джеймсу, мистический опыт характеризуется неизреченностью, интуитивностью, кратковременностью и бездеятельностью воли (80), что указывает на одержимость, «вслушивание в вызов». Мистик как бы прозревает действительность, «видит единство там, где обычный взгляд усматривает лишь многообразие и разобщенность»(81). По словам Л.Витгенштейна, «мистическое – не то, как мир есть, а что он есть»(82), то есть предполагает постижение глубинной сути вещей в их целостности. Мистическое восприятие позволяет переживать мир как органическое целое (83), в хаосе бытия видеть сакральную основу сущего. Мистические переживания фактически тождественны нуминозному «священному трепету», который может считаться особым измененным состоянием восприятия наряду с другими, такими как сон, радость, страх и т.п. (84).
«Священный трепет» можно не только переживать, но и индуцировать (наводить), что является уже «выдохом», то есть деятельностью магической. Как правило, это достигается совершением определенных актов (ритуалов), или произнесением магических текстов (см. Сакральное слово). Хотя порой этого бывает недостаточно, поэтому может быть сопряжено с употреблением особых опьяняющих, или психоактивных веществ. Наряду с первобытным шаманом, сделавшим своей профессией введение себя и окружающих в сакральные состояния, их способны индуцировать сакральные объекты, способные впечатлять, делать одержимыми. Не случайно многие народы почитали среди камней – кристаллы, из металлов – золото, из животных – змей (85), т.е. «пестрые вещи», производящее впечатление, родственное мистическому (86). Отсюда и устойчивая вера в «магические кристаллы», дающие мистическое видение, распространенная у самых разных народов – от Европы до Австралии. Вообще, многие явления культуры обладают практически общечеловеческой значимостью, поскольку их нуминозная, сакральная суть опирается на универсальные, архетипические символы. Но чем сложнее культура, тем больше она содержит исторически сложившихся символов, создающих особенный облик традиции. Если в палеолите обитатели отдаленных тысячелетиями и тысячекилометриями Костенок, Мальты и Дольни-Вестонице создавали очень схожие скульптурки «палеолитических венер», то с усложнением культурных кодов, видоизменяются и взаимоотношения с сакральным. Поэтому мы вряд ли способны воспринимать как нуминозное «Черный квадрат» Малевича, но искусство палеолита, или африканские маски, скульптура Греции остаются «понятными» (то есть впечатляющими) любому жителю земли в любую историческую эпоху.
Экстаз и одержимость предполагают потерю «я», слияние с внешним, временное умирание, жертвоприношение части себя с дальнейшим обретением новых качеств, знаний, впечатлений. В этом смысл мистического опыта как «общения» с сакральным. Интересно, что в видениях, вызываемых естественными галлюциногенами, часто присутствуют полисемантические образы: цветы, орнаменты, яркие камни, все то, что часто используется мистиками для медитации, что имеет признаки мандалы – сакрального изображения, символизирующего космос. Вероятно, мандала является символом универсума как сверхсложного, «пестрого» и непознанного совершенства; к образам подобной семантики следует отнести также мировое дерево, меандры, спиральные и цветочные орнаменты, свастики, кресты. Все эти образы несут идею незавершенности, движения и открытости во вне, в духе «гротескного тела», то есть символизируют экстаз.
Сакральное должно вызывать сродные чувства у носителей общей традиции, поэтому любая культура вырабатывает механизм отбора мистического опыта и перевода его в сакральные символы. Мистик, шаман, поэт, художник, исходя из собственных впечатлений, озарений, интуиций, предлагает обществу то или иное новшество в качестве сакрализованного, а традиция принимает или отвергает его. Поэтому не каждая встреча с сакральным, не каждый мистический акт приводит к сакрализации полученного опыта (если только речь не идет об индивидуальном сакральном, см. Индивидуальное сакральное). Сакральной личностью становится тот мистик (знаток, творец), который наиболее удачно сумел отразить некую грань абсолютного и сумел донести свой опыт обществу. По большей части мистическое (как многообразие вариантов прочтения смысла посланий сакрального) остается вне культуры, как и сам мистик – творец культуры – лишь отчасти ей имманентен, но частью всегда остается трансцендентным, чужим (87).
Не удивительно, что количество озарений, видений и прочих проявлений мистического в любом обществе нарастает в эпохи дестабилизации. Обществу же, если оно жизнеспособно, т.е. имеет здоровый аппарат чувствования вызовов, остается отобрать наиболее оптимальный вариант ответа из ряда, предложенного мистиками.
Сферой, в которой почти не изменившись продолжает играть свою синкретическую роль мистический опыт, является искусство. Отличительная черта этой формы отражения действительности – многозначность, «уникальность всякого произведения подлинного искусства ведет к практической невозможности постановки задачи статистического определения количества информации в нём…»(88). Характерно, что традиционное искусство всегда полисемантично, гротескно, способно даже современного десакрализованного человека поражать «причудливой и вольной игрой растительными, животными и человеческими формами, которые переходят друг в дуга, как бы порождают друг друга… Нет здесь и привычной статики в изображении действительности: движение перестает[1] быть движением готовых форм… в готовом же и устойчивом мире, а превращается во внутреннее движение самого бытия, выражающееся в переходе одних форм в другие, в вечной неготовности бытия»(89). Такое искусство, как и культово-религиозная деятельность, моделирует состояние творческого хаоса, характеризующегося преобладанием количества информации над возможностью ее прочтения сознанием. А избыточность индуцирует нуминозные переживания.
Жизнеспособность искусства убеждает, что мистический опыт нужен социуму. Никакой «культ разума» не способен успешно исполнять основную социальную роль священного – интегративную, поскольку важно, чтобы сакральное открывалось сверхчувственно. А для этого сакральное должно быть полиинформативным – таким, которое в силу закона «шеррингтоновской воронки» вместо точного кодирования полученной эмоции создает «некоторый образ, индуцирующий эмоцию аналогичную и таким способом отражающую эмоцию начальную»(90). Сакральные акты и факты способны постоянно порождать новые смыслы, давая целые ряды ответов, предлагая различные варианты интуитивных решений.
В этом смысле и философский текст часто имеет признаки сакрального. Философия отдельного философа есть его метод преодоления хаоса бытия, снимаемого в гармонии построенной им системы (91). Но для других мыслителей чужая философия редко может быть приемлема целиком, поэтому, если говорить о некой «философии вообще», то она отбирает и абсорбирует из цельных систем разных авторов отдельные куски (термины, идеи) – то, в чем, по мнению философии как особой формы культуры, содержится ценный, сакральный для нее опыт. Можно сказать, что каждый мистик (поэт, философ) обладает своей развитой религией (культурой), но религия общества состоит из наиболее ценных (часто отобранных в виду их эстетической привлекательности, которая понимается как «сила» и «нуминозность») элементов этих индивидуальных систем.
Как правило, и сам философ, мистик, шаман осознает, что системность его теории – продукт рационализации, ценными же в его системе являются лишь плоды отдельных мгновенных озарений. Любая духовная система, будь то культура, религия, философия состоит из корпуса независимых друг от друга мистически постигнутых сакральных «столпов», часто сшитых воедино довольно условными «духовными скрепами». Ведь «нескованное» сакральное, не связанное нитями с рацио, способно порождать больше вопросов, чем давать ответов. Все подлинно сакральное – не однозначный ответ, а вечный вопрос, вызов, выдающий его хаотическую природу. Предназначение же сакрализованного, этого культурного ответа нуминозному, – сковывать этот хаос, но если мы вдруг усомнимся в ответе, то сакрализованное утратит силу и хаос тут же снова обнаружит себя. Здесь можно сослаться на философа беспочвенности Льва Шестова: философия является лишь попыткой защититься от нагромождения вопросов, от ситуации абсурда и сети парадоксов, в которой оказывается философ – борец с хаосом. Мыслитель не только видит систему в кажущемся хаосе, но и способен узреть хаос, проблему познания там, где обыденный взгляд видит устойчивый порядок.
Если мистический акт всегда диалогичен, то магия может направлять свое острие на третью сторону, часто даже не знающую о происходящем. Сакральное прежде всего социально, а магия может служить и частным интересам. На этом строится противопоставление магии «белой» и «черной». Первая входит составной частью в освященную обществом обрядность, а вторая выступает подражанием такой общественной коммуникации с сакральным на индивидуальном уровне. «Черная» магия преследует корыстные интересы участника обряда, не взирая на то, является ли конечной целью магического акта чей-то вред, или благо. Приворот – такая же черная магия, как и порча, ведь третий участник обряда выступает как пассивная сторона, чьей волей пренебрегают.
Непременными участниками магического акта являются инициатор (маг, или его заказчик), источник силы, которой хочет воспользоваться инициатор ритуала, и адресат, на которого направлен данный обряд (этим адресатом может быть заказчик, или третья, пассивная сторона). Сакральная, нуминозная сущность всегда подразумевается в магии как эксплуатируемая сила, с которой «вступают в договор» (92). В случае с наукой и техникой как наследницей магии такая сверхъестественная сущность подменяется естественной.
Для того, чтобы магия была действенной, она постоянно должна преодолевать себя, вырабатывая все новые методы и технологии. Ведь, становясь всеобщим достоянием, магическое теряет свою нуминозную силу. Ведь человек есть мера всех вещей, а сакральное есть социальное (по Дюркгейму, который, как мы помним, рассматривает, прежде всего, сакрализованное). Нечто является сакральным потому, что таковым его признает какое-то общество. Магическое, особенно в тех своих проявлениях, которые направлены на «заклинание толпы», т.е. техники управления обществом (пиар, реклама, НЛП и т.п.), будучи наукой, должно оставаться еще и искусством (а значит, сферой, где личный иррациональный творческий аспект не менее важен, чем знание). Конечно, впечатление от Сфинкса, или Эйфелевой башни может быть одинаковым и для индуса, и для араба, или европейца. И змеи могут гипнотически воздействовать как на современного человека, так и на первобытного. То есть нуминозность имеет в себе определенные природные, биологические основы, которые можно выявить и эксплуатировать. Мы впечатляемся благодаря работе определенных природных законов, как, например, не видевший никогда ястреба цыпленок будет убегать в ужасе от тени, мелькнувшей вверху. Это естественная защитная реакция, вшитая природой, тысячами поколений предков вырабатывавшей опыт. Так современная наука естественно объясняет то, что раньше объяснялось как сверхъестественное. Но это в принципе не снимает вопроса о сверхъестественном, поскольку мы уже знаем одно сверхъестественное – культуру, т.е. сакрализованное. Ученый, «знающий природу», сам находится по ту сторону границы, отделяющей его от социального. Он, как и всякий творец, более культурен, чем культура, а значит более сверхъестественнен, выступая источником инноваций для культуры. Ученый, как и первобытный шаман – это специалист по контактам с сакральным. И для него, как и шамана, сверхъестественное есть естественное (93). Но для обычного человека, который находится «по эту сторону», в социальном космосе, ученые, шаманы, художники, политики и т.д. – таинственные, нуминозные личности. Творцы культуры – сверхъестественного – сами сверхъестественны. Мы можем кивать головами, соглашаясь с какими-то рационалистическим объяснениями ученых, но это будет лишь актом склонения перед авторитетом нуминозного – непостижимого нами, открытого чьим-то, но не нашим умом. Чем лучше человек понимает какой-то предмет, чем глубже он в него внедрился, тем меньше нуминозного он там находит. Вернее – для него уже существует совершенно иная граница сверхъестественного, он очаровывается другими вопросами и проблемами. Ведь без чувства нуминозного нет ученого, т.к. отсутствует эмоциональный интерес к предмету исследования.