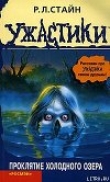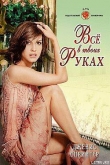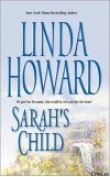Текст книги "Дом образцового содержания"
Автор книги: Григорий Ряжский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Дальше было сложней, но и проще. Сложней – потому что хотелось тепла и жрать. Проще – потому что пути к этому нашлись быстро и не требовали затрат головы на обдумывание и примерку. Одним словом, первый срок был по-любому детским: и в силу самого преступного деяния, и по незлому и недолгому сроку приговора.
В итоге вторая по счету воля образовалась лишь в пятнадцать. Точнее, волей это не назовешь, скорей, дурная получилась и неласковая свобода изнутри второго по счету детдомовского забора. Воспитанники таких домов к его возрасту уже вполне тянули на зрелых волчат, если не были перекуплены или запуганы детдомовской властью. Но это – они. Он же, Стефан Томский, в волчата никак уже не годился – это был хотя и молодой, но уже вполне зрелый, крепкий волк с сильным глазом, острым нюхом и неутомимой жильной тягой.
Второй забор рухнул через год, когда Стефан, только-только обретший паспорт, прихватив с собой все, что было в детдомовской кассе, связал ближе к утру дежурную воспитательницу, запихнув ей в рот низ ее же халата, затем он спустил ей трусы ниже лодыжек, обнажив мохнатку, и так и оставил ее, обездвиженную, примотанную полотенцем к стулу, на утреннее обозрение ненавистным начальникам его свободы.
Тетка та дежурная перепугалась насмерть и, мыча, все косила бешеным от страха глазом на свой оголенный передок, мол, возьми, пацан, попользуйся лучше, набалуйся до икоты, только живой оставь, не убивай, Богом прошу… А он лишь усмехнулся презрительно, сплюнул рядом с поверженной теткой, задрал ей халат повыше, так чтоб еще позорней получился вид, и двинул вон из подневольной жизни, сохраняя неспешное достоинство победителя.
С этой точки он поставил себя в сознательное и непримиримое неподчинение к любой власти. При этом отчетливо понимал: не к народу, именно к власти, состоящей из милиционеров, начальников и не открытых глазу богатеев.
Денег из надломанной кассы хватило на билет до Москвы и на первое пропитание. Сдача от понесенных затрат полагалась на освоение начального этапа будущей беззаботной жизни.
Получившаяся далее самостоятельность особой оригинальностью не отличалась. В тот же год – зачисление в банду с московской окраины. Еще через год – групповое вооруженное ограбление в составе четырех участников. К сожалению, по малолетке уже отправиться не пришлось – как раз стукнуло восемнадцать.
Семь доамнистийных лет из восьми полученных легли на магаданский лагерь, где уму-разуму Стефан начал обучаться уже без случайных выбросов судьбы, строго на системной основе под руководством опытных наставников-рецидивистов, главным из которых стал для его недозрелого возраста почти интеллигентный по жизни бандит с кличкой Джокер. Он-то и оценил сообразительность Стефана и объяснил ему, кто в этом мире прислоняется к кому, а что – к чему.
Вышел в двадцать пять – грамотеем, с явным опережением накопительного цикла знаний и связей. И это стало первой школой молодого вора Томского по уразумению жизненных ценностей в истинном, качественном и стоимостном смысле слова. Понял, что ствол – последнее дело, если мозги на месте и варят согласно серому наполнителю. Да и любое другое насилие есть путь вынужденный, а далеко не единственно нужный.
Это был шестьдесят второй год – самый разгон новой свободы после сталинских холодных колодок. По сути, время исключительно подходило для оживления картинки из известного труда о вкусной и здоровой пище. Отсюда Стефаном Томским был сделан суровый вывод – он не должен воровать, он должен думать. Воровать будут другие специально обученные люди. Им же обученные или с его помощью. И не мельтешить. Никаких форточек, карманов, гоп-стопов и прочих сумочек с носовым платком вместо портмоне. Масштаб – вот наша сильная сторона, утвердился в своем решении Стефан. Масштаб, влияние, связи и замах на серьезность поставленной задачи. Его не интересуют деньги, подумал он в какой-то отчаянный момент, находясь на распутье собственных перемен, его интересует миллион.
Тогда еще он не помышлял о других денежных единицах, иностранных; это отстояло от самых смелых его мыслей так далеко, как Магадан от Альфы Центавры, даже если одно приблизить к другому с помощью подзорного микроскопа. Все это пришло потом, в начале семидесятых, с первой волной еврейской эмиграции, ровно как еще не проснулись тогда от спячки цеховики и не протрубили клич воры помасштабней – чиновное братство, не отпущенное еще собственным селезеночным страхом после всех этих Гитлеров, Сталиных, погромов и кампаний.
А пока Стефан Томский, натурально записавшись в Ленинскую библиотеку, принял решение сосредоточить внимание на вечном – на нетленных предметах искусства, до которого еще по недомыслию либо в силу странной прихоти не добралась глуповатая власть.
Для начала он обложился справочниками по искусству и внимательнейшим образом прочитал от корки до корки с десяток учебников по искусствоведению для слушателей филфака МГУ. Там он слегка поплыл – мифы и легенды Древней Греции, ссылки на рукописи и прочие первоисточники, общий вклад в культуру, человечества. И так далее… При этом отсутствовало главное – что сколько стоит, кому это потребно и где это самое взять, если действовать по короткой схеме с минимальным охранением от грабителей и воров и последующей надежной реализацией.
Такие целевые визиты в Ленинку стали первыми в деле системного образования по неформальному признаку. Более того, предмет увлек Стефана настолько, что время от времени он ловил себя на том, что начинает искренне интересоваться и самой историей искусств, а не только лишь ее материальным эквивалентом. Он читал, слюнявя пальцы, переворачивал одну за другой страницы и заинтересованно покачивал головой, словно сочувствуя невидимому излагателю:
– Толково… Очень толково…
К концу сезона «студент» Томский освоил полный курс искусствоведческой терапии на уровне почти аспирантского знания предмета. Оставалось главное – систематизировать порок, приведя его в норму с отвратительным задуманным.
Без консультанта не обойтись, решил новодельный аспирант и резво перешел к новой теме – подбор достойной кандидатуры для нужных ему толкований отдельных разделов потребляемого искусства.
Долгим выбор не стал, поскольку из списка авторской группы учебника единственной женской кандидаткой в неведомые подельники оказалась некая Чапайкина А. С. Баба эта возникла сама собой. Ясно – отчего: риску меньше и вони, а возможностей для обольщения по части прекрасного куда как больше. А там видно будет…
На другой день визитер Томский, воспользовавшись замешательством выдавальщицы, сдернул с ее стола свой библиотечный формуляр, развернулся и скорой поступью выбрался на свежий воздух, вынеся под курткой ставший родным учебник. Заодно прихватил и пару справочных материалов по искусству там-сям: Греция, Италия, русская живопись XVII–XIX веков, русский авангард начала века, ну и всякое такое. На улице он первым делом уничтожил читательский билет, изорвав его на мелкие кусочки. Кусочки рассыпал по трем помойным урнам, фотку же, отодрав от картона, подпалил от спички и долго смотрел, как пожираемая пламенем собственная физиономия корчится и чернеет, исчезая и рассыпаясь в бумажном пепле.
Тем самым новый, накопительный, этап жизни был открыт, ровно как и закрыт был другой – ученический. В то же время Стефан отчетливо понимал, что для исполнения задуманного без людей никак не обойтись, понадобится народ лихой и бесстрашный. И тогда он снова объявился в старой банде, откуда его и взяли в Магадан, но на этот раз, учитывая рекомендации Джокера, вернулся уже одним из лидеров, по существу, возглавил преступную группу воров, отделив от основного состава наиболее развитых, понятливых и нетрепливых.
Свой первый визит к доценту истфака МГУ А. С. Чапайкиной Стефан Томский нанес, тщательно продумав легенду и версию предстоящего разговора. Свой внешний вид он привел в тщательное соответствие с образом выпускника Тартуского университета, собирающегося писать монографию о частных коллекционерах Москвы. Присущее ему мужское обаяние Стефан подкрепил букетом гладиолусов в сочетании с одеколоном «Шипр». Над тем, что выйдет в финале встречи, он пытался не задумываться, но на всякий случай прикинул варианты развития в зависимости от возраста объекта, его внешних данных и степени приветливости.
Тетка оказалась подходящей – эдакой крашеной в блондинку пышкой лет сорока пяти-сорока шести, вполне улыбчивой и без особых затей. Единственно, что смущало Томского, – любопытное обстоятельство, как эта самая простомордая Алевтина Степановна заделалась доцентом подобной кафедры в таком высоконаучном месте. Однако с того самого момента, когда он дождался ее в коридоре здания университета на проспекте Маркса и, скромно улыбнувшись, вручил дурацкие гладиолусы, поимев в ответ быстрый и заинтересованный взгляд, он знал уже, что и какого вида имеется у этой тетки под юбкой и как он с ней будет спать. Более того, Томский уже отчетливо представлял себе, как она будет кряхтеть, в какой момент дернется и облапит его, страстно притянув к пышным грудям, и как отвалится потом в изнеможении, чтобы переварить неизвестно откуда свалившуюся на нее радость.
Причины карьерного Алевтининого успеха, как и присущие ей поначалу опасения нырнуть в романтическую связь с молодым ученым из Тарту, стали проясняться для Стефана приблизительно через год после их знакомства. Сперва обнаружился факт крайне неприятный, но, в общем, преодолимый: Алевтина Чапайкина оказалась дочерью исключительно серьезного пердуна из ЦК по фамилии Званцев. К моменту обнаружения этого факта Стефан не только не успел натворить чего-либо негодяйского, но даже еще не подобрался как следует к реализации программы соблазнения Алевтины. Все и так пока шло неплохо.
Томский то появлялся на кафедре, обычно с цветами, то исчезал, когда требовала ситуация, ссылаясь на отъездные нужды, но за время общения с доцентом Чапайкиной он постепенно начал систематизировать и укладывать в нужные ячейки отдельные сведения по интересующей его тематике. Первое и самое неожиданное из того, что удалось нарыть, поразило его настолько, что в какой-то момент он почти готов был растерзать эту пухлую тетку без скидки на возраст и общую противность. А получилось-то узнать почти впроброс, так, слово выскочило от Алевтины, когда заговорили про древний Китай, и осталось висеть на ушах. А потом свалилось ниже, зацепилось и соединилось с чем надо.
Вазы, вазы, вазы! XVII, XIX века! Фарфор! Китай! Сама древность! И что бы вы думали? Все – напоказ, задаром, в примитивных неохраняемых витринах! Филипповская булочная на 25-го Октября. «Чай-кофе» на Кирова. Елисеевский. Ну, а дальше – больше, по гостиницам: «Европейская» в Ленинграде, «Советская» на Ленинградском проспекте в Москве. А живопись! Подлинники: Репин, Маковский, Айвазовский, Филонов, Фальк! И все по каким-то избам-читальням вроде районных библиотек, по заброшенным мастерским, по остаткам ничтожной родни. О боже!
Тогда же, между делом, про коллекцию Мирских вызнал, ее-то Алевтина наизусть знала, по-соседски. Это сначала только была она юной дурочкой, когда привел ее Глеб Чапайкин с Семеном Львовичем и Розой Марковной знакомить, а заодно в кустодиевскую купчиху пальцем тыкнуть да совет получить про будущую жизнь. Лишь потом, через годы, сумела Алевтина Чапайкина в полной мере оценить бесценную коллекцию соседей снизу и разобраться в истинной стоимости шедевров русской живописи. Это если отдельно не помнить про Пикассо.
И туда же легла информация эта, на нужной полочке место свое заняла в числе прочих интересных вещей, для каждой из которых уготовлена была своя роль в делах Стефана Томского.
Потом были рестораны, тоже с цветами, которые обычно, избегая лишних объяснений с мужем, Алевтина бросала на асфальт где-то в районе песьего лужка, не дойдя до Дома в Трехпрудном.
К концу первого года знакомства как-то незаметно для себя они перешли на «ты». Стефан звал ее Аля, что чрезвычайно возбуждало искусствоведческое воображение Алевтины Степановны, и в ответ она называла Томского «Стефанчик», продолжая мысленно рисовать картинки, изображавшие самою себя в различных видах рядом с соискателем на ее знания.
Нельзя сказать, что брак Алевтины с Глебом ко времени начала шестидесятых расстроился, завершился по неформальным признакам или что-то в этом роде. Да это и не было возможным никак, учитывая весомость ответственной должности генерал-майора Чапайкина на месте заместителя начальника московского УКГБ. Об этом нельзя было и помышлять. Другое дело, что некий надлом все же имел место в семье.
А возник он сразу после ареста Берии, когда муж Алевтины занимал пост начальника 4-го Управления МВД, боровшегося с антисоветчиками, и чуть не потерял место, а возможно, и свободу, но был вовремя спасен всемогущим тестем из ЦК, вовремя перетянувшим его в УКГБ на другую должность, подальше от прошлого бериевского наследия.
Это был март пятьдесят четвертого, и Чапайкина в тот год обуял нечеловеческой силы страх. Незадолго до этого ему исполнилось пятьдесят – самый, казалось бы, мужской расцвет. Но в тот же год и иссякла в нем мужская сила, лопнуло что-то одновременно в голове и в паху, разом перестав откуда надо сигналить, а там, где надо, тянуть, дергать, беспокоить и отвлекать. Он немного еще подождал, затем обреченно выдохнул и подписал себе свой собственный неотменный приговор, с головой уйдя в новую должность.
Тогда-то впервые и ощутила Алевтина всю зыбкость Глебова устройства, которым, как мужем, долгое время гордилась и которого до поры до времени любила преданно и честно. Жалок оказался муж, хоть и генерал, в ножки отцовы рухнул, словно не был орденоносец и герой, словно не он, а другой возглавил в страшном сорок первом Можайскую линию обороны, подписывая мужественной чекистской рукой приказы о расстреле бегущих с фронта бойцов, вплоть до сорок второго. Как будто не Глеб Чапайкин, за которого она выходила замуж, а некто доселе ей неизвестный работал после вражеского отката от Москвы в секретно-политическом Управлении НКВД, тяжело и результативно. И разве не ее Глебушка в сорок третьем стал комиссаром госбезопасности и тут же, будучи оценен руководством, сразу почти был переведен в заместители начальника 2-го Управления НКГБ, где трудился по сорок шестой послевоенный год? И не его разве двинули на борьбу со шпионами в качестве заместителя начальника 2-го Главного управления – контрразведки МГБ, в котором прошел он славный путь вплоть до марта пятьдесят третьего, откуда и был направлен по линии бериевского ведомства в 4-е Управление МВД? Разве все это был не он?
Дочке Чапайкиных, Маше, к началу шестидесятых исполнилось семнадцать, и к этому времени она успешно начала мучить виолончель в консерваторских классах. Отца девчонка недолюбливала и боялась, мать – терпела, но разрешала той при этом себя любить. То, что дома не все ладно, видела прекрасно, но предпочитала не вмешиваться, а наблюдать за домашними со стороны.
В общем, все было в жизни Алевтины Чапайкиной разложено по понятным этажеркам, со зримым центром тяжести, наглухо запертыми ящичками и открытыми к обозрению полками. Однако иного требовала душа ее, тайного, недоступного и опасного – чувственной мужской ласки в обмен на необманный женский порыв. Что и явилось к ней на кафедру в один день в лице миловидного с интеллигентными замашками и влажными глазами недавнего выпускника Тартуского университета. То еще немаловажное обстоятельство, что место основной жизни Стефанчика не так близко примыкало к столице, также устраивало Алевтину Степановну, отдаляя вероятность быть разоблаченной в своем намерении пасть куда не следует. Короче говоря, кожей чуяла: еще немного и вот-вот…
Подобное назревание ситуации отслеживал и Стефан, но гораздо внимательней, чем его научная матрона, – так заплетал и подтравливал, чтобы дотянуть положение вещей до естественного и ненатужного разрешения. Слишком велика получалась ставка в его игре, тщательно приготовляемой для запуска в будущую жизнь.
Это и случилось, наконец, между ними в одной из бандитских отсидочных квартир, выдаваемых Стефаном Томским за университетское аспирантское жилье для приезжих. Алевтина Степановна выдала ровно столько волнительных вскряхтываний, сколько он и предполагал, пока пылко заваливал на «аспирантский» диван. Точно так, как и нарисовало при первой встрече его воображение, гранд-дама притянула его к своим пышно разваленным грудям, сдавив дыхание и на время перекрыв путь спасительному кислороду, и именно с тем самым счастливым отдохновением отвалилась она от молодого любовника после того, как выбрала до капельки все, что удалось ей в ту первую памятную встречу от него отобрать…
Потом она лежала, мелко вздрагивая, прикрыв глаза и прислушиваясь к утекающим биениям своего еще крепкого и вполне привлекательного тела, позабыв о том, что давно пора стянуть ноги ближе и, возможно, слегка прикрыть тело, чтобы не выглядеть в глазах этого милого влюбленного мальчика толстозадой распутной теткой, и не желала думать, что совершенное ею есть грех, а в глазах начальственного мужа-чекиста – страшный грех, и в прямом самом смысле страшный, и в переносном заодно.
Отправив партнершу восвояси, Стефан с удивлением отметил, что ужаса не вышло, все прошло не настолько отвратно, насколько рисовал ему план. Оргазм его был вполне честным и даже весьма продолжительным, так что особенно кривляться и не пришлось, и сытость получилась вполне удовлетворительной.
Похожим образом произошло между ними и очередное и последующее любовное соединение, все по тому же тайному адресу, после чего Стефан окончательно понял, что, возможно, и не она, добровольная научная руководительница его проекта, является частью зловещего плана, а, наоборот, сам он, криминальный изобретатель и хитрожопый мудрила, сделался натуральным заложником похотливой и дальновидной искусствоведши. Такой расклад его не устраивал никак, и потому Стефан решил слегка сбавить обороты, с тем чтобы разобраться во встречных намерениях. Сбавить – не дай бог порвать. Предстоял еще немалый путь, и место в нем доценту Чапайкиной отводилось самое первостепенное.
Однако проверочные мероприятия не понадобились, поскольку то, что ему удалось случайно вызнать при следующей их встрече, снимало с Алевтининых плеч всякий груз подозрений в оккупационном расчете на его возможную несвободу. А выяснить удалось следующее: не кто иной, как законный супруг Алевтины Степановны, Глеб Иванович Чапайкин, являлся не кем иным, как генерал-майором госбезопасности, заместителем начальника московского УКГБ. Во как!
Что это было: шок, удар ниже пояса или то и другое вместе, Стефан сразу не смог сообразить. Слишком велика была неожиданность от услышанного, слишком сильна оказалась новость по удельному страху, слишком непредсказуема проистекающими из нее последствиями. Это их свидание стало пустым: не потому, что Томского перекосило от ужаса и ничего у него с Алей не вышло. Просто потому, что в этот раз он не предпринял и попытки приласкать любовницу от искусства – мозги не разрешили, зажали тело наперекосяк, тут же воткнули в работу механизм на выживание. Так было не раз и в самом Магадане, и до него. Случалось и потом.
После того дня Стефан исчез из поля зрения Алевтины Степановны на два месяца. Сказал, едет в Тарту, есть неотложная работа. Сам же стал думать. Пока думал, организовал пару пробных хищений из библиотеки Тургенева. Причем одно за другим, с интервалом в два дня. Убедился, что ничего радикально не изменилось. Потом, правда, выяснилось, что первое хищение, когда хлопцы по его наводке взяли четыре фолианта, так и осталось незамеченным. Второе – было обнаружено, но без последствий для системы примитивнейшей охраны. Это тоже было важно знать – это являлось частью системы, с которой Стефан планировал затеять длительное единоборство. И на это тоже сделана была ставка. А в том, что он останется в противостоянии этом победителем, сомнений у него оставалось все меньше и меньше.
В то же время, мысленно касаясь возможной будущей неприятности по линии Чапайкиных, хорошенько проанализировав ситуацию, Томский пришел к неожиданному для себя выводу: такая родственная связка Алевтины с чекистским генералом ему, Стефану, только на руку. Это, прежде всего, собственная защита при крайнем из условий – шантаж мужа при помощи падшей жены. Для этого требовалось всего лишь качественное доказательство подлой измены, и об этом следовало подумать всерьез.
Но было и другое соображение – гораздо более интересное, хотя и дикое, если брать в расчет исходящую от самой идеи опасность. Алевтина Чапайкина – не только любовница и разрушительница семейного очага. Алевтина Чапайкина, жена генерал-майора КГБ, – преступница, одна из организаторов дерзких похищений государственного имущества в сфере искусства, наводчик и мозговой центр преступной банды, специализирующейся на изъятии ценностей, имеющих особо важное значение в деле культурного наследия советского народа. А может, и всего человечества – кто измерял?
Как ни странно, первое условие могло стать даже более сложным в реализации и неудобным, нежели второе. Если для создания гипотетической версии о преступнице и наводчице Стефану в трудный момент требовалось лишь включить фантазию, рассказать о многочисленных встречах с подозреваемой, сравнить изъятые у народа предметы старины и искусства с соответствующими разделами учебника, а далее сопоставить отдельные факты, выложив их в стройную систему, подкрепив честным и нечестным свидетельством заранее подготовленных лжесвидетелей, то для организации самой лжедоказательной базы касательно супружеской неверности, требовался как минимум фотоснимок известного момента, и по возможности в крайне неприглядном виде.
Оставив второе про запас, Стефан тем не менее с легкостью преодолел и первое, заранее усадив самого мелкого из бандитской братии в шифоньер, вручив ему тихую камеру и наказав вжать «эту вот» кнопку через дыру от шкафной ручки в момент наивысшего оханья голой тетки. И не ржать – не то всем шиндец!
Кадр вышел отменным, как Стефан и планировал. От самого соискателя осталась лишь поджарая жопа и сухая спина, зато Алевтину Степановну в силу удачной неопытности затаившийся фотограф выдал всю как есть, целиком: с разваленными сиськами, заведенной в потолок мордой и задранной в том же направлении правой ногой. Негатив и фотку Стефан схоронил в укромном месте, благородно надеясь, что применить изображение на деле ему не придется никогда. Впоследствии он не ошибся, поскольку второе из уготовленного на всякий случай оказалось гораздо нужней и судьбоносней первого. Так что мелкому бандиту теткин вид достался считай даром, без отработки и последующего напряга для банды.
После того как вид из шифоньера был экспонирован бесстыжим крупным планом, это любовническое сотрудничество между вором и женой чекиста тянулось с переменными интервалами ни много ни мало, а почти три полновесных года, окончательно оборвавшись к середине шестьдесят шестого. Такому своему долготерпению Стефан порой удивлялся сам. И не только в том было дело, что все эти годы не легли пустым балластом на его молодую жизнь, – за это время Томский успел обстоятельно сформировать с помощью Алевтины или при косвенном ее посредстве полную картину того, что и где плохо лежит на склонах щедрого отечества, и приступить в итоге к началу первого этапа грандиозного и далеко идущего замысла, знать о котором позволено было всего одному на свете, кроме него, человеку – наиавторитетнейшему из воров в законе, Джокеру.
В том еще заключалась суть получившегося марафона, что к тетке этой пышнотелой Стефан, как ни странно, привык к запаху топленых сливок из подмышек, к теплому бархату неувядающей кожи, к ласковым шустрым пальчикам, игриво щекотавшим его младшего дружка. Позднее он понял, что явилось причиной тому – бессознательная тяга к матери, которой сызмальства был лишен, желание заботы о себе, пускай даже таким непрямым путем, плюс стремление тихо понежиться на чьей-то неравнодушной груди. Осознал такое и подивился, что сентиментальное начало, оказывается, не чуждо и ему, – не чуждо и не противно. И вновь констатировал, подтвердив свой же прошлый ВЫВОД:
– Толково… Очень толково…
Финальная точка в отношениях с Алевтиной была поставлена по двум причинам, и обе были решающими. Во-первых, выпотрошена искусствоведка была до самого дна, включая знания, связи и все прочие имеющиеся в ее распоряжении источники научной и практической информации. Но это же было и второстепенным моментом, который полностью поглотился последующим событием, тем, что разыгралось в семье Чапайкиных. И это было во-вторых.
А произошло то, что не могло когда-нибудь не произойти. Произошло и потащило вслед за собой неотрывным прицепом и Стефана Томского, оказавшегося, как выяснилось, не молодым ученым из эстонского университета города Тарту, а преступным нигде не работающим элементом с двумя судимостями, последняя из которых явилась следствием доказанного разбоя с последующим семилетним отбыванием в колонии строгого режима города Магадана. Эти сведения в течение сорока минут собрали и положили на стол Глебу Иванычу Чапайкину, который за день до этого анонимным доброжелателем был поставлен в известность об имеющемся между его супругой и неким гр. Томским С. С. факте любовной связи, регулярно происходящей на некой окраинной московской квартире по адресу… Относительно квартиры также был доподлинно установлен факт принадлежности ее к воровскому образованию одного из районов столицы.
Отпираться Алевтина не стала. Пошла к отцу в ЦК и со слезами на глазах доложилась о том, о чем столько лет умалчивала:
– Глеб мой не мужик, у него не стоит с пятьдесят четвертого года, с тех пор, папа, как ты спас его от ареста и перетащил в руководство московского УКГБ. А я, получается, с тех же самых пор не женщина, потому что без мужчины женщина не может считаться полноценным человеком. Так вот и жили, отец, столько лет, и делай теперь со мной что хочешь, только я к тебе перееду. Тем более тебе самому вот-вот на пенсию, семьдесят седьмой годок – не шутка. Как один-то управишься?
От отца вернулась на Трехпрудный, собрала вещи, дождалась, пока вернется дочь-виолончелистка, и выложила ей всю нелицеприятную правду. Та прикинула и тоже решила перебираться к цековскому дедушке вместе с матерью…
Чапайкин узнал о решении домашних тем же днем, но шумного скандала решил избежать. Неизвестно, во-первых, чего она там суровому деду насочиняла, а во-вторых, не дай бог, докатится по службе до наивысшего начальства – последствий не может знать никто, очень уж херово с прогнозами по линии этого ведомства. Ну а Алька никуда не денется, отсидится какое-то время, придет в себя, обдумает, что вышло, да вернется повиниться. И Машка вместе с ней, с виолончелью своей здоровенной, грелкой деревянной.
Анонимку Чапайкин уничтожил, ходу ей не дал, в том смысле, что не отдал приказ заняться выявлением источника. Это означало, что дело хоронится, тем более что все правдой оказалось, хоть и сучьей. И так ясно, что аноним с Алевтининой работы, кто-нибудь из них, из культурных, из искусства: места себе не находит, не может простить Альке мужа и отца. Да и хер с ним, с козлиной завистливой…
Выявленного любовника прощать, однако, не собирался. На другой день подле Стефана тормознула черная «Волга» с хитрыми номерами, откуда вышли двое безликих в штатском и вежливо предложили проехать. Сопротивляться Томский и не подумал, причинно-следственная связь выстроилась в голове в долю секунды. Пока добирались до управления, лихорадочно соображал, где его можно зацепить, на чем. В кабинет входил уже почти успокоившись, потому что понял – брать не за что. Самое устрашающее, что можно припаять, – обман доцентши Чапайкиной относительно собственной научной биографии, да и то всего лишь с минимальной целью – добиться ее женского расположения.
Это же самое не хуже пройдошистого любовника понимал и генерал-майор. Одно не складывалось – зачем этому пижонистому хлыщу Алевтина его занадобилась, девок, что ли, мало моложе да свободней. Не сходилось что-то, а недопонимать Глеб Иваныч ненавидел, в академии понимать учили до крайней внутренней молекулы.
– Садитесь, Томский, – он кивнул Стефану на стул, другим кивком отпустил сопровождавшего, одного из безликих. Стефан сел и вопросительно посмотрел на генерала.
«Странно, – подумал Чапайкин, – а ведь он не вор и не грабитель, как следовало из биографии, лежавшей на столе. Он нечто другое, поинтересней, пожалуй, чем случайный любовник…»
Кто бы знал, сколько за эти годы прошло через Глеба народа. Были среди них отморозки и предатели, лазутчики и диверсанты, перебежчики и дезертиры, шпионы дутые и подлинные, встречались антисоветчики, маньяки, душегубы, бывал и просто честный люд, и пугливый, и бесстрашный. Нередко в гэбистские сети заносило отъявленных негодяев, законченных лгунов и прочую мразь, пару раз объявлялся натуральный людоед и тоже не избежал своей участи после разговора с чекистом.
Но попадались и люди истинно благородные, бескомпромиссные, готовые к самопожертвованию. Этих он тайно уважал. Всякое, всякое бывало в длинной его службе и давнем генеральстве. Тысячи лиц, сотни судеб и приговоров, десятки тихушных ликвидаций без суда и следствия в силу особого чекистского чутья, согласно велению отдельной от остального совести, по равнодушному намеку, по одному короткому движению глазами чуть вбок.
Этот, что теперь сидел перед ним, прямой, спокойный и холодный, как водосточная труба, не походил ни на кого из тех, что в разные годы прошли через руки особиста Чапайкина. Этот не был испуган, но – Глеб Иванович знал точно – не по причине незапятнанности, принципиального благородства или наигранной бравады. Этот был ровно таким, каким решил предстать перед начальственным генералом, а каким он являлся на самом деле, делиться, судя по всему, ни с кем не собирался. Тем более с чином из органов. Страха в глазах его не было, но не потому, догадался Чапайкин, что человек этот бояться не умел, а оттого, что сам решил – так ему сейчас будет правильней.
– Говорить будем? – спросил Глеб Иваныч и закурил, не сводя с Томского глаз.
– Конечно, товарищ генерал, – спокойно ответил Стефан и, поморщившись, отмахнул от себя папиросный дым. – Говорите.
Сам же подумал о том, какой из заготовленных в прошлом вариантов придется запускать. Первый вполне уже мог работать, а вот что касалось второго, то с сожалением отпустил от себя мысль, что время ему еще не настало, не успел начать даже гадить Стефан Томский, чтоб образовалась минимальная тема для будущего шантажа с участием замаранной супруги.