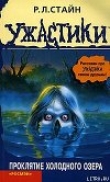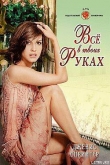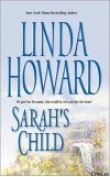Текст книги "Дом образцового содержания"
Автор книги: Григорий Ряжский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Борис Мирский, узнав про отца, сначала тому, что стряслось, не поверил: думал, ошибка какая-то, нелепица, ерунда на постном масле, к тому же перевернутая запуганной Зинаидой. И когда мама, оставив его в Фирсановке одного, унеслась в город, он продолжал именно так эту неожиданность и воспринимать.
Однако мама не вернулась к вечеру и не дала о себе знать к середине другого дня. Тогда он сел на пригородный поезд и вернулся домой сам, решив прервать возникшую неопределенность.
Дома была только Зина. Лицо ее, и так непривлекательное, сделалось вовсе некрасивым после вылитых слез и открытых и затаенных переживаний из-за всего, что сама натворила. Борька уже открыл было рот, чтобы задать вопрос, где мама, но тут до него внезапно дошло, что все, чего не должно было случиться с ними, с их семьей – все это настоящая правда, самая неошибочная. Он посмотрел на Зинку и понял, что та еле держится на ногах, что глаза ее покраснели от несчастья и полны слез, а под самими глазами темные круги, утекающие в глубь лица. А еще он обнаружил во взгляде домработницы такую жалость и тоску, какую никогда не мог от нее ждать, выросши у нее же на руках.
– Что? – спросил он ее. – Говори, Зин, – что?
– Папку забра-а-а-а-ли-и-и… – взвыла Зинаида, перестав крепиться. – Пришли ночью и забрали насовсе-е-ем. – Почему провыла «насовсем», не знала в тот момент, но поняла уже потом, почти через двадцать лет, в конце пятидесятых, когда все открылось про прошлую жизнь, расчистилось и улеглось. А в этот момент она именно так сердцем чуяла, так знала. Чуяла и не ошибалась.
Борис сел на пол. Так он просидел ровно одну минуту, после чего поднялся и пошел к телефону. Там он нашел книжку, отлистал нужный номер и набрал шесть цифр. Это был выходной, и потому звонок застал Глеба Иваныча дома. Тот выслушал первые слова, затем резко оборвал разговор словами:
– Сейчас зайду, – и положил трубку на рычаг.
Первое, что сделал особист, переступив порог Мирских, – нашел глазами Зину. Та невольно сжалась под его взглядом, и это Чапайкину очень не понравилось. Не только из-за того, что он сразу предположил, а еще потому, что усмотрел вместе с этим и другое, очень лично для себя нехорошее.
Прогноз его был таким, и он был в нем почти уверен, раскинув колоду, пока спускался на один лестничный марш вниз: Мирского сдала Зинаида, стукнула в органы и, скорей всего, письмом, – он мысленно прикинул сроки: почтовое прохождение, плюс моментальный пролет по кабинетам в связи с громким именем фигуранта, плюс постановление в кратчайший срок, плюс факт самого ареста. Минус получался единственным, и на месте отрицательного знака получался он сам, именно он, и никто другой, старший майор НКВД, особист Глеб Чапайкин. Минус этот мог отчетливо образоваться в единственном и губительном для него случае – если домработница в своей подметной бумаге указала, что, являясь осведомителем, поставила непосредственного начальника в известность о преступном замысле, а он, Глеб Иваныч, чекист с безукоризненным послужным списком, не отреагировал должным образом на патриотический сигнал источника, а, напротив, велел заткнуться и сопеть в дырочку дальше, пока от него не последует высоких распоряжений.
Их и не последовало. Тогда осведомитель, руководствуясь высшими соображениями, не согласился с такой постановкой вопроса и решил действовать самостоятельно, в обход прямого начальника, на свой страх и риск. И стал действовать. И есть крепкий результат, как видно из материалов расследования…
В том, что результат будет, и немалый, Чапайкин, основательно зная дело, которому служил, не сомневался. В тот самый момент, пока звонил в дверь арестованного академика, он уже не думал о Мирских, то есть думал, конечно, но мысленно уже списал: распрощался как минимум, с милейшим и благороднейшим Семеном Львовичем. Не мог больше Глеб позволить себе дать слабину, выпустить из себя жалость к приятным ему людям, пострадавшим из-за глупой коровы житомирской породы. Пора было думать и о себе – только бы эта дрянь не напорола лишнего в своем сочинении.
Войдя, кивнул приветственно Борису и, не давая ему раскрыть рот, махнул рукой Зине, призывая с собой на кухню:
– Туда пройдем, расскажешь. – А мальчику сказал только: – С тобой, Боря, потом.
Они зашли, и Чапайкин прикрыл за собой дверь.
– Сядь, – указал он Зине на табуретку, сам же продолжал стоять, чтобы получилось разговаривать сверху вниз.
Как бы хотелось Глебу, чтобы это был допрос, а не разговор, как бы проще все было, спокойней и понятней. Спросил резко, без подготовки, уперши глаза в глаза, тоже, как учили и к чему давно привык:
– Что писала? Слово в слово говори, все как было, сука!
Зина хлопнула глазами, затем лицо ее сморщилось, круги еще больше почернели и еще глубже впали под глаза, и она, чувствуя, что вот-вот грохнется на пол, завыла длинными переменными волнами, словно нарисованной от руки синусоидой, но только не на бумаге, а в воздухе кухни семейства Мирских.
Начало было положено, и Глеб, боясь упустить момент, тут же решил вызнать вдогонку главное:
– Про меня что нарисовала? Указала про нашу встречу?
Зинка, продолжая выть и раскачиваться, отчаянно замотала головой, отрицая то, чего больше всего опасался Глеб, что нет, мол, не указывала, не упоминала про это вовсе, совсем про другое писала, про самого только, про хозяина и все…
Внутри немного отпустило, потому что он сразу ей поверил. Тут он не мог обмануться, опыт не давал такого шанса быть обойденным по ерунде, по мелочевке, по слюнявой ничтожности, такой, как эта. В том, что теперь рассосется, в смысле для него не будет последствий практически никаких, он уже был уверен, так же как лишний раз и в том, что для Мирских будут они страшными и уже, скорее всего, начинаются.
– Значит так, гражданка Чепик, – все еще жестко, но уже не так, обратился он к Зине, продолжающей подвывать, хотя и с меньшей амплитудой, – про встречу ту нашу забудешь до конца жизни, ясно? – Зина, на секунду выйдя из качки, кивнула с несчастным видом и с надеждой в глазах посмотрела на чекиста. – Второе, – с заданной суровостью в голосе продолжил Глеб, – спросят если, почему со мной не связалась, скажешь, не нашла, искала, но найти не сумела быстро, а ждать, думала, нельзя, думала, уйдет враг, схоронится. Ясно? – Зина снова кивнула, ей снова было ясней не бывает.
Сейчас она готова была кивнуть любому, чтоб только все это закончилось, весь этот страшный день, вся эта ужасная прошлая ночь, все то, что она сделала с Семеном Львовичем, с Розой Марковной, со всей их интеллигентской семьей и с собой тоже сделала…
– И последнее, – чуть смягчив интонацию, выдал старший майор, – на будущее учти: будешь послушной, не будешь допускать больше глупых ошибок – прощу. Но знай: время пройдет, уляжется это дело, так или иначе, а груз твой на тебе останется, – он кивнул в сторону гостиной, туда, где ждал его Борис, – вся вина твоя и подлость вся – все останется при тебе, и это все только мы с тобой знаем, больше никто: мы да Лубянка. И еще совет: уезжай подальше, пока суд да дело, на родину езжай, на Украину, и чтоб никто тебя не нашел, если чего. Так оно для всех лучше будет, а главное, для тебя самой, ясно?
Зина снова согласно мотнула головой, думая, что никакой родины теперь у нее нет, как нет никого и ничего на этом свете, кроме этой обиженной ею семьи и каморки при кухне.
В этот момент откуда-то снизу, начавшись от самого верха табурета и упершись в самое горло, накатила тупая соленая волна; по пути она успела резким спазмом пережать живот, затем так же быстро перекатиться в желудок и, вывернув его наизнанку, вылететь вон вместе с его содержимым за два сильных толчка. Ни приготовиться к этому, ни отвести голову Зина не успела. Глеб успел, однако, отпрянуть в сторону и потому остался незамаранным. Он посмотрел на домработницу, и в нем шевельнулась жалость:
– Ты чего, беременная, что ли? – спросил он наобум, не рассчитывая на положительный ответ, а больше с издевкой победителя.
Зина кивнула, не оборачиваясь с колен, чтобы не показывать лица, продолжая подтирать за собой рвоту, тем самым подтвердив случайную догадку Чапайкина.
Глеб присвистнул:
– Ну-у-у девка, тогда многое понятно. – Он нахмурил лоб и задумался. – А плод Мирского, да? – Она снова сделала короткий жест согласия и снова не повернулась.
Это было еще более кстати – то, о чем только что узнал Глеб. Это означало прикрытие по всем направлениям: домработница обвиняет академика в отместку за беременность и это сильнейший мотив, а он, ответственный сотрудник НКВД Чапайкин, пробует пресечь клевету, если развернется пущенная версия. Далее, для Зины уже обязательное, а не просто желательное в этом случае исчезновение, лучше всего невозвратное, дабы не возбуждать у Розы вопросов про живот, когда время придет и хоть как-то частично искупить свою вину перед семьей. Да и для него самого отъезд ее будет гарантией непричастности к делу Мирского, отсутствия свидетельства об имевшейся дружеской связи с ними и даст возможность свободного маневра в действиях и объяснительных мотивах.
Все это Глеб просчитал за пару секунд и удовлетворился состоянием собственных ответов на текущий момент. Оставалась чисто человеческая составляющая: реальное сочувствие и натуральное сострадание.
И то и другое, кстати, на самом деле в арсенале Чапайкина по отношению к Мирским имелось, и поэтому эту сострадательную часть он оставил для Бориса – теперь же и для Розы Марковны – ближе к вечеру. В оба адреса Глеб Иваныч произнес, согласно последней разработке, нужные слова, оставив невнятную долю надежды и произведя на свет два-три неконкретных обещания оказать содействие в получении правдивой информации.
Поднявшись к себе после нервического визита к Мирским, он обнаружил дома свою милую студентку, жену Алечку. Глеб подсел к ней на купеческий диванчик, что остался от Зеленских, приобнял за талию, поцеловал в надушенный завиток над шеей и с искренней досадой в голосе подвел печальный итог:
– Какая ж она дура все же, Зинаида эта… – затем он нанес Алевтине вторичный поцелуй в то же место и пробормотал, заводя руку под юбку к жене. – Нет на свете ничего страшнее глупости, Альчик, ничего… – Глеб явственно ощущал, как снизу подбирается желание и начинает точить его, упершись в кадык, и тогда он мягким движением притянул супругу к себе и потянул вниз, к диванным подушкам, нашептывая ей на ухо: – Даже подлость не так страшна, как глупость, даже предательство…
Потом уже, когда Глеб Чапайкин оторвался от Алевтины и выдохнул вместе с последним толчком остатки накатившего не ко времени приступа страсти, понял он, что весь этот непростой день получился для него честным и удачным, несмотря на изначальный страх и сменившую страх досаду. Но досада его из-за Мирских была искренней, сочувствие к ним – настоящим, раздражение от собственных ошибок оказалось не слишком серьезным, самочувствие – вполне, не хуже обычного, усталости не ощущалось никакой и поэтому настроение, если подвести черту, – удовлетворительным.
Ну а страх, что подступил в первый момент, в самый лишь первый миг, продлившийся секунды, не более того, оказался фальшивым, вымышленным, чужим, поскольку главным в Чапайкине по-прежнему оставались мужская выдержка, чекистское самообладание и сопутствующая должности уверенность в правоте дела. Дела, какому был всецело предан, которое чувствовал, словно бабу, любил, понимал, служил верой, правдой и собственным, если надо, животом. В общем, все покуда шло нормально, в смысле более или менее…
После ареста Семена Львовича Зинаида Чепик пробыла в доме Мирских один месяц. Этот срок и так превышал отпущенное ей Чапайкиным время для того, чтобы собрать манатки и убраться в направлении давно забытых родных мест. За этот период она собиралась с силами трижды, заготавливая отъезды, два из которых были мысленными, а один, последний, почти настоящим, с упаковкой и увязкой нажитого скарба. Но за полчаса до прихода Розы Марковны она, испугавшись и самой себя, и хозяйкиных вопросов, раскидала тюк обратно и разместила собранное по прежним отдельным местам.
Ехать было не к кому, денег хватало только на дорогу и немного на потом. И тогда вместо отъезда Зина опустилась на край кровати, еще раз в мыслях представила себе свой уход в неизвестность, словно бегство брошенной собаки, покусавшей и предавшей хозяина, знающей, что прощения за такое не бывает, и дала волю неплановым слезам.
Если не считать малых слезопусков, кратковременных, а учитывать лишь большие, продолжительные слезы, то таковые изливались обычно дважды в течение суток и обязательно ежедневно, без потерянных дней.
Первый заход, ночной, начинался сразу после того, как Зина натягивала одеяло до самого подбородка, зная, что край пока еще сухого пододеяльника понадобится через совсем короткий промежуток, как только она протянет руку, погасит свет и останется в темноте один на один с тем, что натворила. Этот ее плач был не навзрыд, но зато он был долгим, тяжелым и горьким – по причинной основе и повышенно соленым – по обильно выделяемой влаге.
Второй по счету, утренний, обычно имел место перед завтраком, когда они сталкивались на кухне с хозяйкой, тоже невыспавшейся и тоже выглядевшей дурно, если сравнивать с привычным прошлым видом. В эту минуту срабатывал механизм слезоотделения чуть другой, и мокрое, недовыработанное ночной железой, начинало сочиться по щекам, не дожидаясь включения сигнального светофора от головы. И ничего с этим Зина поделать не могла.
Кончалось все утешением со стороны сердобольной Розы Марковны, которой, в отличие от домработницы, удавалось держать себя в руках, не давая слабости и горю овладеть ею больше, чем сама она могла себе разрешить.
Борис, у которого все валилось из рук, несмотря на летние каникулы и накатившую на город жару, целые дни проводил дома в неясной надежде на возвращение отца. Всякий раз, когда звонил телефон, он срывался с места и первым хватал трубку. Зине, видящей, как страдает мальчик, в том числе и от своего собственного бессилия, не раз за последние дни приходила в голову дикая по своей неразумности мысль. Мысль была о том, что ей следует пойти куда положено и признаться в клевете на академика, несмотря, что все правда, и сказать кому надо, что она же собственноручно эту клевету замыслила и произвела по глупости, по необразованности и по дурацкой обиде.
Но в последний момент хватало все же ума отказаться от такой неразумной идеи, прикидывая, исходя из накопленного уже опыта, куда такое неразумие может привести и саму ее.
В тот же день, как подумала про отказ от глупого поступка, она ощутила первый легкий толчок изнутри живота, слабенький, почти незаметный, еле уловимый, но поняла, что неслучайный. Догадалась, что оживает внутри нее маленький зародыш Семена Львовича, крохотный остаток его в ней, точечный осколок мирского греха, которому сама же разрешила совершиться и от которого бедного Семена Львович не сумела остеречь. И тогда Зинаида Чепик приняла решение окончательно.
На другой день, дождавшись, пока домашние уйдут, она в четвертый раз привычно накидала тюк, добавила старый чемодан, собрала в дорогу немного еды и написала Розе Марковне письмо следующего содержания, снова по-печатному, как выучилась:
«ДОРАГАЯ МОЯ РОЗАЧЬКА МАРКАВНА Я УХАЖУ ОТ ВАС ДОМОЙ НИ МОГУ БОЛШЕ МИШАТ ЕСЛИ НЕТУ КАРМИЛЬЦА ВАМ. ПРОСТИТИ МИНЯ Я ВАС ОЧЕНЬ ВСЕХ ПОМНЮ. ПРИЕДУ НАПИШУ ПИСМОМ НЕ ПОМИНАЙТИ ЛИХАМ ВАША ЗИНА».
Она вышла во двор, окинула взглядом Дом в Трехпрудном, свой родной дом, ставший прибежищем на большую часть ее неразумной, несостоявшейся и глупой жизни, неумело перекрестила сначала себя, затем и сам дом, прощаясь и зная, что не увидит его больше никогда, так же, как не увидит и породившего этот дом Семена Львовича Мирского, равно, как и всех других Мирских, их друзей, родных и соседей, со всеми их шутками, со всеми обидами, со всем плохим и всем хорошим, с добрым и не очень, с щедростью и равнодушием, с забывчивостью, заботой и улыбчивыми, вежливыми, не до конца понятными разговорами…
Это был второй по тяжести удар, обрушившийся на Розу, когда она прочитала оставленный для нее на кухонном столе тетрадный в арифметическую клеточку листок. Первый был страшнее, но понятней для нее: там, по крайней мере, зная, что происходит в стране, начиная с тридцать седьмого, и продолжает происходить теперь, в сороковом, она допускала наличие причины – отвратительной, скорее всего, гадкой, ничтожной, изобретенной неизвестными недругами или завистниками, но – причины ареста мужа.
Здесь же, в своем собственном дому Роза Марковна объяснения эти искала и не могла для себя найти. Сперва она приняла это за шутку, но, чуть поразмыслив, соображение такое откинула – не сходились концы с концами, не могла Зина так с ней шутить, не умела, да и не за что было, тем более в такое жуткое для семьи время.
Вещей в ее каморке не оказалось тоже, и тогда она поняла, что все – правда, Зины больше нет. Оставалось последнее предположение, то, о котором Зина упомянула в письме: у Мирских нет средств содержать ее теперь, после ареста единственного в доме кормильца, – и только оно могло хотя бы как-то причинно обосновать такой ее поступок. На этом Роза Марковна поставила точку, решив ждать обещанного Зиной письма.
Идочка Меклер, узнав, заохала и сразу же принеслась, предложив посильную помощь по ведению хозяйства и все, чего Розанька пожелает. Юлик Аронсон прицокнул языком и поинтересовался, остались ли у Мирских накопления после Семена. От Идиных услуг Роза отказалась в вежливой форме, чтобы не обижать сестру. Юлику же сообщила, что лишних денег в доме не было и нет, сама же она собирается работать, для чего поступает на краткосрочные бухгалтерские курсы, чтобы обрести профессию, пока с Семой не ясно.
Именно так Роза Марковна Мирская, жена врага народа, бывшего академика Семена Мирского, и поступила. Сбрызнулась легкими духами, подколола аккуратней седую прядь на черной голове, вытянула из гардероба жакет построже и через тридцать семь полных лет от даты своего появления на свет в семье Марка и Рахили Дворкиных вышла из дому, чтобы идти туда, где учат овладевать бухгалтерской наукой. Через тридцать семь счастливых лет и еще пять страшных месяцев.
Обратно в Москву Мирские вернулись лишь в начале весны сорок пятого. Сначала Борис, а немного позже и сама Роза Марковна. Срок эвакуации закончился, Борис рвался домой всеми силами, чтобы успеть отдать документы в Архитектурный институт, о котором мечтал еще до папиного ареста и о котором помнил все годы, пока они с мамой жили в Ташкенте. Роза отпустила его одного, потому что к тому времени уже была за мальчика спокойна. Борису исполнилось восемнадцать, и к тому моменту сын сумел доказательно убедить Розу Марковну в собственной взрослости и мужской надежности. Там же, в Ташкенте, он закончил школу на полтора года раньше срока, получил аттестат и быстро нашел способ стать добытчиком для семьи.
С утра Борька исчезал из дому и пешком добирался до Алайского базара, где его уже знали и оставляли для него работу. Работа была тяжелой и нехитрой – сортировать, грузить, перетаскивать с места на место бахчевые, фасоль в мешках, крупу, пустую и полную тару – все, что придется, а взамен получать продуктовые карточки, часть из которых приходилось отоваривать тут же. В сезон работа менялась, и Борис вместе с остальными школьниками и нешкольниками выходил в поле, где от зари до заката собирал хлопковые коробочки. Хлопок перерабатывался и уходил в бесперебойное производство: на изготовление пороха и кроме того на ткацкую, а затем и на швейную фабрику. Там-то и трудилась Роза Марковна бухгалтером, принимая от сына хлопковую эстафету. И тоже с утра и до вечера, так как поток шел огромный, рук не хватало, фронт требовал все больше и больше, несмотря на начавшийся надлом фашистского хребта, а фабрика занималась производством самого нужного Родине после пороха, танков и гранат продукта – пошивом нижнего солдатского белья.
Так и жили до команды на возвращение домой. Борька спешил, и она согласилась отпустить. Сама же не сумела разом все бросить, довела бухучет до ума, подбила баланс, свела все отчеты и передала все другой, из местных. Уезжая, искренне переживала за документацию, что и так содержалась в идеальном порядке, немного даже обмочила слезами краешек годового отчета. И саму не хотели отпускать никак – сроду таких на фабрике не бывало бухгалтерш: образованных, негромких, с вежливым словом и точной быстрой головой.
Позже Роза не пожалела, что рассталась на период эвакуации с Москвой, чего делать поначалу категорически не желала, сопротивлялась всеми силами, несмотря на уговоры близких. Как же дом Семин без пригляда оставить – его же разбомбят, изуродуют, изувечат. Кто присмотрит за делами – да и про самого Сему, может, известия поступят, что разобрались наконец, признали его невиновность, пересмотрели дело. Кто нам в этом случае сообщит в эвакуацию, кому это, кроме нас, надо, я вас спрашиваю, кому?
Упиралась уезжать, искала причину, оттягивала сколько могла. Ходила на окопы, точнее, возили их. Это все еще было лето, то самое, первое военное, сорок первого.
А потом была осень, когда Гитлер подбирался к Москве с каждым днем все ближе, кровавей и страшней, но не добрался, не взял, в том числе и потому, что Роза и другие москвичи трудились на рытье защитных окопов и возведении оборонительных заграждений, до которых доставлял их военный грузовик.
Трогался он из самого центра, от соседних Патриарших, выгружая всех на Волоколамке вместе с лопатами, хлебом и питьевой водой, где-то перед тридцатым километром, если от Главпочтамта брать. После чего поздним вечером забирал измученных людей обратно, сгружая другую смену из таких, как и они: пенсионеров, подростков и женщин всех прочих посильных возрастов.
И никогда Роза не смотрела на это дело как на трудовую повинность по результату трудмобилизации: могла бы смело не сдвинуться с места – не приписана была положением домохозяйки ни к какому предприятию или ведомству. Но только не для нее оказалось взять такое свое право да отринуть в сторону от защитного дела – не для Розы Мирской. Непригодной получилась для нее случайная эта вольница, ненужной.
А потом была организована противовоздушная дружина, и Роза первой явилась по призыву на сборный пункт, где им объяснили, как надо не бояться своих зениток, как лучше тушить зажигалку, сброшенную с немецкого бомбардировщика, как ловчей столкнуть ее с крыши и как наиболее эффективно нашвырять ей в пасть песку.
Она дежурила на крыше, охраняя от разрушительного пожара Семин дом, их Дом в Трехпрудном, который она за просто так не отдаст на растерзание врагу, – дом, за который она будет бороться, чтобы отстоять Семино творение, его архитектурный гений и талант, и не позволит она фашистскому зверю загубить памятник драгоценному человеческому труду – памятник любимому мужу, Семену Львовичу Мирскому, живому или нет.
Роза Мирская проводила там столько, сколько оставалось у нее для этого времени, в любую для фашиста летную погоду. Это означало, что если не была она на рытье окопов или, измученная непривычным делом, не спала, чутко прислушиваясь сквозь сон к сигналу воздушной тревоги, то, стало быть, караулила немца с воздуха, вглядываясь в небо с верхней площадки Семиной крыши. Думала, ожидая фашиста, о том, как предусмотрительно заложил муж в проект такую подходящую, горизонтальную площадку в высшей точке домовой крыши, словно знал о ее предназначении через сорок лет службы.
На этом же удобном пятачке местным подразделением ПВХО была установлена зенитка, и Роза Марковна к концу своего первого дежурства успела узнать каждого бойца по имени и потом всякий раз старалась подкормить артиллеристов-зенитчиков домашним – еврейской коврижкой, приготовленной из того, что еще оставалось в доме от прежних запасов ржаной муки, толченой мацы, остатков окостеневшего засахаренного меда и сыпучей крошки довоенного фундука.
Вплоть до пятьдесят пятого, до самого Вилькиного рождения, зенитку с крыши так и не снимали, лишь сразу после отката немцев от Москвы вывезли снаряды да еще через пару лет скрутили с орудия замок. То ли не до нее было городскому армейскому начальству, то ли приказ на это имелся соответствующий – не трогать на случай оккупантского реванша. На всякий случай Роза Марковна иногда поднималась на крышу проведать стальную подругу, протереть ей жерло от городской грязи и немного смазать из остатков веломашинного зингеровского масла.
Однажды, уже после Семиного возвращения из магаданской неволи, пригласила наверх мужа, думала, пробьет на сентимент, покажет, как дом его врагу противостоял в отсутствие хозяина. Не вышло. То ли не услышал ее Семен Львович, то ли оставался на тот момент глубоко в себя погруженным. Рукой махнул неопределенно и попросил дать какао пополам с молочком. И мацы, как обычно, накрошить. Правда, и было это уже недели за две до быстрой смерти.
А сразу после Семиной кончины в орудийной станине завелась голубиная семья, и однажды Роза обнаружила поверх прохладного металла три голубиных яичка. И тогда она стала ходить туда почти всякий день, маскируя и проверяя голубиную семью, наводя должный порядок и организуя заградительную оборону от посторонних котов и соседских пацанов.
Потом голубки выросли, оперились и улетели жить на неведомую помойку. А зенитку разобрали и вывезли, тоже в неизвестном направлении мирной жизни. Но теперь это было и кстати, потому что в тот день, когда, матерясь и негодуя, солдаты-пэвэошники стаскивали ее вниз, родился Вилька, сын Тани и Бориса, внук Розы Марковны и покойного Семена Львовича Мирских. Желанный всем им наследник фамилии – Вилен Борисович Мирский.
Связь свою с Аронсоном Татьяна Мирская, в девичестве Кулькова, продолжая трудиться в коллекторе той же иностранной технической библиотеки, не прерывала вплоть до момента, когда скрывать ее больше не стало нужды. Быть может, такого и не случилось бы в ее жизни, да, скорей всего, просто и не понадобилась бы вся эта канитель с разводом, уходом из семьи Мирских и по сути потерей сына. Не случилось бы – а вот взяло да произошло. По малому набиралось-набиралось, да к одному дурному дню и накопилось.
На разводном суде судья, толстая тетка в черном пиджаке и со стянутыми в тугой кулек на затылке волосами, строго взглянула на Вилена и задала нечестный вопрос:
– С кем хочешь жить в одной квартире, Вилен: с мамой или папой?
– С бабушкой, – чтобы уйти своим ответом от подлого вопроса, ответил он тогда на теткин вопрос и, еле удерживая веками уже готовые низвергнуться на судебный линолеум слезы, мотнул головой в сторону Розы Марковны, а вовсе не матери, чем лишний раз доказал Татьяне Кульковой, в замужестве Мирской, сколь ненавистна и подла вся эта их нация с вежливыми кивками, приторной едой и прочим обманом по всем показателям человеческой жизни. Одно делать у них получается справно, да, как видно, и то – не у каждого.
– Спасибо тебе, Господи, – пробормотала в этот момент Роза Марковна, как всегда не задумываясь, какого из имеющихся богов благодарит. «И какое счастье, что Сарочка у нас есть, – подумалось ей тогда же, – особенно теперь после ухода Татьяны из семьи, когда помощница по дому станет просто жизненно необходима».
К тому времени Сара жила в доме Мирских седьмой год, и всякий раз, когда подходил очередной день ее рождения, Роза Марковна, загодя готовя к этому дню подарок и стол, думала, что, наверное, это сама судьба так не случайно соединяет и разъединяет случайных по жизни людей, лучше самих этих людей зная о том, как им будет правильней и лучше. Из-за того, что Сара, безусловно способная и, возможно, даже талантливая по-своему девушка, в силу несомой ею который год в семье Мирских трудовой повинности и речи не заводит о том, что надо бы учиться, поступать в столичный вуз и получать достойное образование, Роза Марковна стала нервничать на второй или третий год пребывания Зининой дочки в доме в Трехпрудном. Прикидывала поначалу и так и так. Допустим, пусть готовится и поступает на вечерний, к примеру, и совмещает учебу с жизнью и работой на семью. Но сама же, обмыслив вторично, каждый раз признавалась себе же, что вряд ли из этой идеи выйдет толк. Там – не вытянет, здесь – не справится. Или наоборот. В общем, откладывала до следующего года, а через время – те же сомнения мешали или случалось совсем неподходящее что-нибудь: то Вилька заболеет, то весна неожиданно разгорится вовсю и всем им в Фирсановку придет пора собираться. То стирка накопилась, глажка опять же, постель и скатерти с салфетками – на крахмал ставить, отдельно от постели, затем в гардероб укладывать, в аккуратную стопку. Опять же столовое серебро потускнело и кое-что из каждодневного мельхиора: чистить, после тонко уже оттирать и обратно раскладывать по местам, что куда. Потом, глядишь, отпуск подоспел, мать навещать, гостинец из столицы в Житомир переправлять, всегда в одно и то же обязательное время – вокруг еврейской Пасхи, на всякий случай, так, чтоб не было больше искушения у кого-то из гостей грехи свои не в кухонную раковину сливать, а в адрес конкретного живого человека направлять, пусть даже безмолвной домработницы-хохлушки.
Так и не складывалось, чтобы дальше после Житомира в Москве поучиться, с прицелом на самостоятельную жизнь, слишком уж отрыв от привычного серьезным получался, не выходило без потерь…
Оспаривать судебное решение Татьяна Мирская не стала. Просто встала со своего места в зале суда, плюнула в сторону всех их, этих, поцеловала сына в лоб и вышла, не оборачиваясь, вон.
Роза Марковна покачала головой и ничего не сказала. Борис покраснел, но тоже сдержался. Вилька растерянно наморщил лоб, скривил губы и с трудом сдержался, чтобы не зареветь от неожиданности и страха.
Роза Марковна всегда тайно полагала, что рано или поздно событие такое станет неизбежным, но, невзирая на это, всеми силами и ласковыми заходами старалась отвести Танюшину затаенную дурь как можно дальше от общего семейного благополучия, а заодно и от самой Тани. Все эти десять стоических лет, прикладывая скрытые усилия, просила она Бога неизвестной национальности, чтобы сын ее Боря никогда не смог увидеть в жене своей того, что увидела в невестке она. Например, стерпела она, когда узнала, что годовалого Виленьку Татьяна тайно от сына под предлогом показать матери увезла под Москву, где его успешно в местной церкви и покрестили. В православную веру балашихинских Кулаковых.