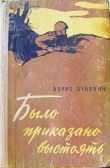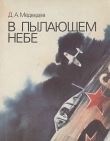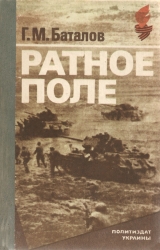
Текст книги "Ратное поле"
Автор книги: Григорий Баталов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
– Косить бы травку сейчас, товарищ подполковник, сенцо готовить. Погодка-то вон какая благодатная.
Ефрейтор Суворов был хозяином пулеметного гнезда. Его огневая точка находилась в хорошо замаскированной отсечной траншее одного из «усов». Гордиенко сразу приметил, как по-хозяйски устроена позиция пулеметчиков: удобный и широкий обзор и обстрел, рядом, под рукой, в нишах пулеметные диски и ручные гранаты, отдельно в кучке стреляные гильзы, аккуратные ниши для солдатских пожитков. Во всем чувствовалась рука бывалого солдата. Присев на приступку, подполковник собирался было похвалить Суворова за порядок, как вдруг увидел в отдельной нише два чучела, выряженных в старое солдатское обмундирование.
– А это для чего?
Суворов с хитрецой посмотрел на командира.
– Чучела-то? Вроде приманки, товарищ командир полка…
– Ну-ну! – заинтересовался Гордиенко.– И как приманиваете?
Ефрейтору, видать, давно хотелось поделиться своей задумкой. А тут сам командир полка…
– Значит, так… Берет второй номер эту чучелу и отходит по траншейке примерно за полсотню шагов от огневой позиции. Вскинет ее раза два-три над бруствером в одном месте, потом в другом. Гляди – и клюнуло: фашист тут же и застрочит. Я сразу в ответ пальну короткой очередью. Глаз у меня вострый, промашки не дам,– похвалился Суворов.– Вчера утром двоих подловил…
Гордиенко охотно слушал скорый говорок старого солдата, смотрел на его морщинистое лицо, чисто выстиранную, почти белую гимнастерку, на которой выделялся орден Красной Звезды и несколько медалей.
– А ротное начальство как смотрит на «чучелу»? – спросил подполковник.
Ефрейтор замялся.
– Наш лейтенант говорит – одно баловство.
– Ладно! – поднялся Гордиенко.– Разберемся.
Ему не хотелось принимать поспешного решения, хотя солдатская смекалка его явно заинтересовала. И тут ефрейтор, тряхнув головой, словно освобождаясь от нерешительности, заявил:
– Дозвольте, товарищ командир полка, еще досказать…
Гордиенко остановился.
– А что, если по всему фронту такое сделать? – предложил солдат.– Сколько вражин клюнет на наживку! К примеру, в одном месте врага отвлечь, а в другом послать «охотников» к дотам. И подорвать их к чертовой матери…
Подполковник одобрительно улыбнулся солдатскому предложению, но посоветовал не увлекаться «наживкой». Противник не дурак, быстро разгадает хитрость.
Щедро наделив махоркой сметливого пулеметчика, Гордиенко поспешил к командиру дивизии. Комдив выслушал рассказ о «чучелах» не без иронии: если, мол, гаубицы дотов не берут, то, может, чучелами попробуем?
Однако вскоре солдатская инициатива стала известна командарму Шумилову. В штабе армии ее оценили по достоинству. Интенданты получили срочное задание выдать подразделениям переднего края старое обмундирование для изготовления нескольких сот чучел. И пусть лежат до поры до времени. А ефрейтору Суворову за боевую инициативу и находчивость была вручена медаль «За боевые заслуги».
Тем временем подготовка к штурму шла своим ходом. Продолжались упорные тренировки штурмовых групп. Наши траншеи уже подошли к самой речушке, к подножию высоты, унизанной дотами. Ночами разведчики проникали глубоко в тыл противника, штабники заполняли на картах последние «белые» пятна. Теперь о вражеской линии обороны мы уже знали почти все: начертания траншей и ходов сообщения, системы огня, «мертвые зоны».
Появилась артиллерия большой мощности, которая несколько дней била из тяжелых орудий бетонобойными снарядами по вражеским дотам.
В полк Гордиенко прибыла специальная штурмовая рота. Она получила приказ ночью скрытно сосредоточиться в 100-150 метрах от двухбашенного дота и тщательно замаскироваться. После трех зеленых ракет рота коротким броском должна была овладеть распадком, где проходил основной ход сообщения, ворваться в него и захватить дот.
Получили приказ и остальные штурмовые отряды. Среди них особенно сложной была задача отряда гвардии капитана Романько – штурм господствующей высоты.
Я хорошо помню тот день, 19 августа. В 15 часов 32 минуты сотни орудий разных калибров открыли шквальный огонь по обороне врага. Одновременно велась стрельба и дымовыми снарядами: их разрывы накрывали черным дымом вражеские амбразуры, мешали неприятелю вести наблюдение и огонь. Затем появились наши славные «илы», обрушившие на доты бомбовый груз. А через полчаса мощный массированный огневой удар по намеченному для прорыва участку укрепрайона завершился залпами «катюш».
После этого враг, конечно, ждал атаки. На отдельных участках переднего края раздалось мощное солдатское «ура!». И тогда над траншеями, имитируя атаку, забегали… чучела. В ответ ожили огневые точки противника. И хотя их огонь оказался не столь сильным, все же он мог бы сорвать нашу атаку, будь она реальной. Пока противник, оглушенный огневым налетом, приходил в себя, наши штурмовые группы двинулись на штурм высоты и блокировали первые доты. Специальный отряд уже вел бой в ходах сообщения и под землей. А над одним из дотов уже взвился красный флаг.
До самой глубокой ночи продолжалась яростная, ожесточенная схватка. Ни одна подземная крепость не сдалась без боя. Особенно упорно сопротивлялся гарнизон одного из вражеских дотов (как потом оказалось, в нем размещался командный пункт участка). И тогда сапер сержант Григорий Рубанюк, попросив товарищей отвлечь огонь противника, скрытно пополз к доту с ящиком тола. Отважный сапер подобрался к самой амбразуре, зажег подсоединенный к толовым шашкам со взрывателями бикфордов шнур и быстро отполз в воронку от бомбы. Раздался огромной силы взрыв. Когда рассеялся дым, из пролома появился белый флаг, и начали выползать оглушенные вражеские солдаты во главе с офицером.
…Лишь на третий день штурма были прорваны укрепления «Фокшанских ворот». На выручку оборонявшимся поспешили немецко-фашистские части. Многочисленными контратаками они пытались восстановить утраченное положение. Однако все их попытки оказались безуспешными. Наши войска с ходу форсировали реку Сирет и вышли на оперативный простор.
Так, взломав вместе с другими соединениями 7-й гвардейской армии Тыргу-Фрумосские железобетонные «ворота», 72-я гвардейская стрелковая дивизия помогла решить главную задачу на важнейшем направлении фронта – окружить и разгромить ясско-кишиневскую группировку врага.
Перед советскими войсками открылась дорога к границам хортистской Венгрии.
Через несколько дней стало известно: Румыния, бывший союзник фашистской Германии, объявила ей войну, в Бухаресте вспыхнуло восстание, руководимое народно-патриотическими силами.
БРОСОК ЧЕРЕЗ УЩЕЛЬЕ
Расчетливо военную матерость
Во мне чеканил взводный командир.
Я.Козловский
В Карпатах стояла ранняя осень, она позолотила горные леса и кустарники. Но гвардейцам некогда любоваться красотами. Полки дивизии взбирались на крутые перевалы, скатывались в глубокие долины. Орудия и машины часто перетаскивали на руках. Противник упорно цеплялся за немногочисленные дороги, выгодные высоты, взрывал мосты и переправы, устраивал завалы.
Нередко путь наступавшим частям преграждали бурные горные речушки. Они с клекотом прорывались сквозь ущелья, лихо перебрасывали свои воды через валуны, прижимались к каменистому ложу отвесных скалистых берегов. Помеченные на карте тоненькими голубенькими жилками, эти речушки после осенних дождей представляли серьезную преграду. Одна из них оказалась в полосе наступления яашей дивизии.
К счастью, в спешке противник не успел взорвать каменный мостик, переброшенный через горную речку. И этим воспользовались роты передового батальона. Перемахнув ночью вслед за отступавшим вражеским арьергардом через русло реки по каменному мосту, они зацепились за противоположный каменистый, весь в валунах, берег. Опомнившись, противник начал обстреливать подступы к мосту из минометов. Смельчаки оказались отрезанными от своих, без связи, боеприпасов, продовольствия и огневой поддержки. В штабе полка не могли точно сказать, где обороняются роты, насколько велик был занятый ими плацдарм.
Начальник связи дивизии капитан М.П.Гуськов срочно вызвал командира взвода связи лейтенанта Л.А.Янкелевича, который не раз выполнял задания, требовавшие смекалки и находчивости.
На ходу одергивая гимнастерку, Янкелевич явился на вызов. За худощавым, похожим на подростка чернявым лейтенантом гулко топали четыре связиста.
– Вот и хорошо, что не один,– не дослушав доклада, сказал капитан Гуськов.– Есть срочное задание…
В горах долгим эхом перекатывалась пушечно-пулеметная пальба. Это где-то на флангах гвардейцы сбивали очередной фашистский заслон.
Связисты внимательно слушали капитана, изредка посматривая на запад. Задание было не из легких. Здесь нужно пораскинуть умом, проявить солдатскую сноровку.
Когда остались впятером: лейтенант Янкелевич, Анатолий Крамаренко и три Ивана – Олейник, Давыденко и Слесаренко, Анатолий нетерпеливо спросил:
– С чего начнем?
Он держал в руках катушку с зеленой жилкой провода и полевой телефонный аппарат в парусиновом чехле.
– Надо место осмотреть,– рассудительно сказал Давыденко.
До слуха доносился бурный говорок реки, ее шум часто перекрывали раскаты близких взрывов.
– Верно,– поддержал лейтенант.– Выдвигаемся к мосту.
Через несколько минут, скрываясь за прибрежными валунами, они залегли в полусотне метров от реки. Противник, видимо, заметил движение и, усилив минометный огонь, поставил на подходах к мосту густой частокол взрывов. Помощник командира взвода Иван Олейник жарко зашептал, словно противник на том берегу мог слышать его голос:
– Товарищ лейтенант, вброд – ни-ни… Сшибет! Видите – камни ворочает. Надо по мосту, пока немец его не разрушил. Броском…
Осторожный Крамаренко охладил его пыл:
– И попадешь под мину – ни тебя, ни связи. Надо в сторонке поискать брод.
– Хе, брод-бутерброд! – насмешливый Слесаренко с ходу отверг такое предложение.– У реки в оба конца отвесные берега. Что вверх, что вниз по течению – одна картина. Да и наши держат оборону где-то рядом, у моста. Пробиваться надо к ним, а не к фашистам в лапы.
– Только через мост! – упорствовал Олейник.– Они, видать, мост хотят сохранить: видишь, лупят рядом, а мост не трогают.
Его догадка была справедлива. Дивизия отрезала отход некоторым частям противника, и они, конечно, попытаются прорваться. А тогда им понадобится мост.
Янкелевич понимал: в привычном споре хлопцы лихорадочно ищут выход. Если б хоть темноты дождаться. Но стоял холодноватый осенний полдень, а с десантом приказано связаться к исходу дня.
Слушая предложения связистов, лейтенант молча наблюдал за разрывами мин. Видать, у противника их большой запас. Мины взрывались полукольцом у моста, осколки вместе с мелкими камнями часто свистели над головами. Вначале взрывы казались беспорядочными. Но потом Янкелевич уловил в их чередовании какую-то систему. Положив перед глазами часы с секундной стрелкой, засек время. Первый взрыв раздался через 30 секунд, второй – через 25, третий – через 20. Потом все повторилось. Лейтенант представил себе, как действуют расчеты вражеских минометов: методически, не спеша и не замедляя темпа, размеренно заряжают минометы, ведут огонь. Показал на часы Олейнику:
– Смотри – налет через каждые 20-30 секунд.
Иван вопросительно поднял глаза: «Ну и что?» Но вот лицо его озарилось догадкой…
– До войны стометровку я пробегал за пятнадцать секунд! – с жаром зашептал помкомвзвода.– Не рекорд, конечно, но попробовать можно. Мост имеет метров тридцать, да до него полсотни…
Связисты придвинулись поближе, и лейтенант изложил замысел. Двадцати секунд, если брать самый короткий промежуток между взрывами, должно хватить, чтобы преодолеть если не весь мост, то хотя бы его «мокрую» часть над водой.
– Но ведь мы с «катухой»,– Крамаренко указал на кабель.– Ее на полной скорости не раскрутить…
Янкелевич подумал, оглядел каждого из связистов.
– Значит, так… Я бегу впереди с телефонным аппаратом, рядом со мной, вплотную к правой стороне моста,– Крамаренко с «катухой». Правая рука занесена за перила и быстро разматывает кабель. Олейник подхватывает его и через каждые пять-шесть метров цепляет к кабелю камни-грузила,– лейтенант нащупал рукой один из таких камней, килограмма три весом, обмотал его обрывком провода и быстро сделал петлю.– Слесаренко бежит следом и подает камни. Задача ясна?
– А я? – спросил Давыденко.
– Замыкающим… Если заденет кого, быстро на его место.
Еще раз сверили по секундной стрелке интервалы между разрывами. Они не изменились. Подобрали с десяток увесистых булыжников для грузил, обмотали их проволокой, сделали петли, распределили между собой снаряжение.
– Приготовились!
Янкелевич поднял руку. Недалеко от моста раздались взрывы. Не успели осесть пыль и дым, как связисты рванулись вперед.
Они не слышали топота своих сапог по настилу моста, шума реки под ними. Кабель невидимой нитью падал в бурный поток, камни почти неслышно плюхались в воду. Она подхватывала их, но отнести далеко не успевала – кабель цеплялся за каменистые выступы и ложился на дно.
Над головами раздался пронзительный свист мины. Связистов как ветром сдуло вниз: конец моста упирался в крутой берег. Лишь замыкающий Давыденко угодил в воду. Его сразу подхватил Олейник.
– Ух, и холодная! – Давыденко скинул полные ледяной воды сапоги.
– Кажется, пронесло! – повеселел лейтенант. Потом добавил с тревогой: – Неужели заметили, гады?
Минуты три, нарушив всякие интервалы, бушевал шквал огня. Взрывы плясали на двух берегах, но не задевали моста, под которым укрылись связисты. Потом все стихло. Олейник подергал кабель: нет ли обрыва? Провод лежал хорошо, можно подключать аппарат.
Через полчаса телефонная связь с десантом была установлена. На наш берег десантники передали координаты вражеских огневых точек, и дивизионная артиллерия обрушила на них свой огонь. А ночью на плацдарм переправились основные силы полка, сбившие к утру еще один заслон противника.
КАК СЕРЖАНТ СМИРНОВ НА ФРОНТ БЕЖАЛ
Парня встретила славная
Фронтовая семья.
М. Исаковский
Лучше всего эту историю передать устами самого сержанта Смирнова. Так, как он рассказывал ее нам в полку…
– Выписали меня из тылового госпиталя после лечения, вручили предписание явиться в запасной полк. Врач-старичок (сестра рассказывала: два его сына погибли на фронте) напоследок пощупал лиловые рубцы от осколков, подбодрил: «Через недельку-другую синюшник пройдет и рубчики разгладятся. Для войны, сержант, ты годен».
Раз годен, думаю, так что же мне по тылам слоняться? Да и заикнулся насчет родного полка, который как раз со Вторым Украинским фронтом выходил на венгерские равнины. Врач поднял на меня усталые глаза и говорит:
– Не положено, сержант. Для солдата каждый полк – родной. Если начнем мы прямо в полки и дивизии давать предписания, вы же все дороги забьете…
Что верно, то верно: каждый фронтовик после ранения норовит возвратиться в свою боевую семью. А я и подавно. Шутка ли: со своим 229-м гвардейским стрелковым шел от Волги, почти вышел к государственным границам родной державы. И тут меня горячим осколком… Высотку мы брали. А она вся в дзотах, огневых точках. Я отделению командую: «За Родину! За партию! Вперед!» И сам, конечно, показываю пример. Тут-то снаряд и брызнул осколками.
Потом, уже в медсанбате, узнал: высотку мы взяли, меня даже к ордену представили. Гуляет где-то по штабам мой орден. Может, и в госпиталь придет. А меня и след простыл.
Вышел я из госпитальных ворот, забросил за спину «сидорок» с трехдневным сухим пайком и сменой белья и думаю: как же дальше быть? Запасной полк по левую руку, дорога ведет прямо в тыл. По правую руку фанерные стрелки указывают: столько-то километров до Берлина, Будапешта, Вены и других ближних европейских столиц.
Дело было под вечер, солнце спряталось за огромную тяжелую тучу. Смотрю на нее и думаю: где-то мои однополчане? Небось, фашистского зверя в его берлоге бьют. В воздухе уже победой пахнет! И так явственно услышал я тот запах, что, кажется, пешком пошел бы к своим!
Вдруг слышу за спиной:
– Куда, служивый, путь-дорогу держишь? Решаешь, куда лучше повернуть: на фронт или в тыл?
Я прямо– таки онемел. Смотрю, пожилой старшина глядит на меня. Глаза у него веселые, понимающие.
– Ну как, угадал? – смеется.– Потому что сам такое пережил. У фронтовика после госпиталя все мысли о том, как в свою часть попасть.
Тут я и решил: семь бед – один ответ. Дальше фронта не пошлют, меньше винтовки не дадут. Прикинул: до линии фронта верст триста с гаком. А там выйти бы только на свою гвардейскую дивизию. Там я, почитай, дома. Там в обиду не дадут, мое командование направит куда нужно бумагу: так, мол, и так, сержант Смирнов Дим Димыч снова воюет: просим не считать его без вести пропавшим.
Дим Димычем меня звали в роте. Выговаривать вроде лучше, чем Дмитрий Дмитриевич. Хотя по отчеству меня и величать еще рано: двадцать первый всего. Два из них воюю. Ростом хоть и не вышел, а смелость солдатская при мне. Имею два ордена и три медали. Родом из Донбасса, из города Авдеевки. Жаль, не пришлось участвовать в его освобождении. Но зато помогал ломать хребет врагу на Курской дуге, освобождал Белгород,
Харьков, форсировал Днепр. И все – со своим стрелковым гвардейским полком. Как же мне не стремиться опять в 229-й, если я в нем кровь пролил?
Однако солдату-одиночке на дороге к фронту много рогаток поставлено. Это я сразу понял по тому, как строго документы проверяют. Особенно придирчива военно-дорожная комендатура.
Но на первых порах мне везло в прямом и переносном смысле. Километров двести отмахал по железной дороге на тормозной площадке вагона. На одной из станций офицер посмотрел мои документы, спросил, куда держу путь, Я и назвал фронтовой запасной полк. А где он находился, уточнять не стал: сегодня он мог быть в одном месте, завтра – в другом.
После железной дороги пришлось добираться на попутках. А для машин на всех прифронтовых перекрестках стоят контрольно-пропускные пункты, КПП. На первом же из них мне сообщили:
– Не туда, сержант, едешь. Тебе в тыл надо, а ты к фронту навострился. Ну-ка, объясни?
Чувствую: «горю»… Лейтенант, видать, добрый служака, с хитрецой. Смотрит понимающе мне в глаза, словно говорит: «Что, попался, голубчик?»
– Все правильно, товарищ лейтенант,– отвечаю как можно спокойнее.– Снялся с того места мой запасной, передвинулся ближе к фронту, разместился по соседству с Н-ской дивизией.
– Откуда тебе это известно? – насторожился лейтенант.
– Вчера вечером на продпункте встретил сослуживца капитана Одинцова. Вот он и дал справку, где надо полк искать.
Одинцова я, конечно, придумал. Вижу, вроде заколебался лейтенант. Значит, надо ковать железо.
– Капитан говорит: «Подожди денек, справлюсь с делами, вместе поедем». А чего ждать? Я и так измучился после госпиталя на путях-дорогах. Быстрее бы к своим пробиться.
Решил лейтенант: не к теще на блины едет сержант. Там, на переднем крае, в таких особая нужда. Когда доставал я красноармейскую книжку, грудь приоткрыл, чтобы, значит, заметил офицер блеск благородного металла. Вижу, смягчился вроде.
– Ладно,– говорит,– ищи свой полк. Желаю удачи.
Посадил он меня на попутную машину и даже сказал, где лучше сойти.
Только рано я радовался. Не успел на следующем перекрестке соскочить на землю, как попал на очередной КПП. Слышу – артиллерия ухает, значит, передний край совсем недалеко! Глядь, передо мной вырос старшина. Ну точно с плаката сошел: дородный, плечистый, с черными усами. На груди и наград много, и ленточек за ранения хватает.
– Эй, сержант, предъяви-ка документы! Посмотрел их, покрутил в руках и сказал, растягивая слова:
– Та-а-к-с… Значит, родной полк ищешь?
– Так точно, товарищ старшина! – бросаю ладонь к пилотке.– Вот он, голосок подает! – Пытаюсь шуткой смягчить сурового начальника КПП и киваю в сторону недалекого грома.
– По-нят-но,– подытожил старшина, разгладив усы.– Не ты первый, не ты последний. Скоро таких целый взвод наберется. Вот вместе и отправитесь на передовую. Желание ваше, как видишь, будет исполнено.
Эх, думаю, крупно не повезло. Что предпринять? Решил идти напролом.
– Эт-то что же такое получается? Спешу в свою родную часть, а меня вроде в штрафную, как того дезертира? Часть-то моя совсем рядом…
Вижу, бью мимо цели. Видимо, старшина к таким атакам привык, не реагирует. Кивнул двум солдатам с автоматами:
– Покажите сержанту, где переночевать. Да на довольствие поставьте.
Захожу в домик у дороги, а там уже человек двадцать: стрелки, артиллеристы, танкисты, саперы… Кто от части отстал, а кто из медсанбата. Но на КПП для всех один приказ и один закон.
– Нашего полку прибыло! – пошутил один из артиллеристов, увидев меня.– Люблю пехоту. Ел сегодня, сержант?
– Нет,– докладываю.– И сухари на исходе.
– Ничего, подхарчим. Бери котелок и иди на кухню. Она через три дома налево. А вещмешок здесь оставь…
Отвязал я котелок от вещмешка и вышел. Кухню нашел быстро, подкрепился перловой кашей. А что, думаю, если рисковать, так уж до конца! «Сидорок» мой пусть остается здесь, богатства в нем как кот наплакал. Теперь к переднему краю можно на голос выйти: ночью слышно, как пулеметы лают. Эх, была не была, а добрая ночь – солдату союзник.
До самого утра шел но дороге. Дважды натыкался на шлагбаумы и аккуратненько их обходил. А к утру вижу – дымит кухня. Подхожу поближе, смотрю: повар орудует черпаком.
Увидел меня с котелком, отозвался басом:
– Рано, рано… Еще каша не упрела…
– Да мне не каша твоя нужна,– говорю,– 229-й полк ищу.
– Как раз на него и вышел. Минбатарея здесь.
Хлопнул я котелком о землю да как закричу:
– Ура! К своим вышел!
Повар так и застыл с черпаком, смотрит на меня онемело: чему это сержант так радуется?
– Друг ты мой! – говорю.– Я же из тыла, из госпиталя! Восемь дней на фронт пробираюсь…
К рассказу сержанта Смирнова добавлю: до конца войны он сражался в родном полку, с ним и Победу встретил.
И ОСТАЛСЯ СЫН…
Как быстро вырастают дети!
И тот июнь был так давно,
Когда их не было на свете.
А.Николаев
Где– то в середине шестидесятых годов в газете «Красная Звезда» я прочитал небольшую заметку «Сын Героя». Словно током ударило после первых строк: «В одном из военных округов в Н-ской артиллерийской части служит наводчиком орудия рядовой М.Дьякин, сын Героя Советского Союза…»
И сразу память унесла в далекие годы. А было все словно вчера…
…В начале 1945 года после лечения в московском госпитале я уезжал на фронт. И вот на одной из столичных улиц нос к носу встретился с Михаилом Дьякиным. Ладный, представительный, в майорских погонах, он обхватил меня железными объятиями и долго тряс руки, приговаривая:
– Вот это встреча!… Надо же такому случиться!
Дело в том, что Михаила я знал еще из мест, где формировалась наша дивизия. Был он тогда типичным крестьянским парнем, ходил вразвалочку; на круглом, открытом лице часто появлялась доверчивая улыбка. По поводу, а иногда и без повода любил рассказывать: «Вот у нас в Ельце…» Затем он стал начальником артиллерии в полку, которым я командовал. Вместе прошли от Сталинграда до Южного Буга. Так что было чему обрадоваться.
– Как ты оказался в Москве? И как там в твоем Ельце?– наперебой задаю вопросы.
– В Ельце у меня жена осталась. А я здесь на курсах знания повышал. Отозвали меня после боев в Трансильвании. Езжай, говорят, учиться. Словно у нас на фронте мало этой учебы – на пять аттестатов зрелости хватит. Жаль, вас не было, в госпитале лечились.
– Долго еще учиться?
– Закончил! – с облегчением сообщил Михаил. И тут же добавил огорченно: – Назначают начальником артиллерийского полигона в тылу. Говорят, нужен опытный фронтовик. А с Золотой Звездой – еще лучше. Прошусь в дивизию – не отпускают.
– Тогда пошли со мной! – заявил я решительно.– Вместе начинали войну, вместе ее и кончить должны.
На московских улицах пахло крепким морозцем. В столице по всему чувствовались боевые успехи наших фронтов: все чаще гремели победные салюты. Слушая в госпитале сводки, раненые просили врачей ускорить лечение и выписку, рвались на фронт, в свои части. Неужели в управлении кадров не уважат просьбу двух фронтовиков, двух Героев Советского Союза?…
На второй день мы выехали с Михаилом на запад догонять далеко ушедший фронт. Добирались долго: поездами, попутными машинами, даже пешком. И догнали-таки нашу дивизию под Будапештом. Майор Дьякин получил назначение командиром артиллерийского дивизиона, а я – заместителем командира дивизии.
Между боями мы часто встречались, обменивались новостями. Однажды, весь светясь от радости, Михаил смущенно сообщил:
– Получил письмо из Ельца. Жена пишет: скоро у нас будет сын!
Открытое лицо майора Дьякина выражало счастливое удивление. Он был твердо убежден, что родится сын…
Стоял апрель сорок пятого. Наша дивизия вела бои в Австрии. В районе небольшого городка Цистердорф никак не удавалось сбить противника с небольших высот. Весь день шла яростная артиллерийская дуэль. Мой наблюдательный пункт расположился на возвышенности, а рядом, на пологом ее склоне, размещался НП командира дивизиона майора Дьякина, умело руководившего огнем своих батарей.
Почему– то мне вспомнилось форсирование Днепра, Тогда начарт полка, преодолевая неимоверные трудности, сумел вместе с головными ротами переправить на правый берег полковые минометы и орудия. В тот момент, когда пехота только выходила из воды, артиллеристы уже прикрывали ее огоньком. Не было у пехоты более верного и надежного боевого друга, чем полковая артиллерия. И тогда, в первый день боев на правобережье, мы удержали плацдарм только благодаря командирскому мастерству Дьякина, искусству его артиллеристов и минометчиков. Там, на Днепре, Михаил Дьякин и стал Героем Советского Союза.
Вот и под Цистердорфом наша артиллерия не жалела огня. От противника, державшего рубежи на противоположных высотах, наши войска отделяла широкая долина. Трудно пришлось бы пехоте при штурме вражеских позиций, не будь надежной огневой поддержки.
Солнечным апрельским утром началась вражеская контратака, в долину сползали «тигры» и «фердинанды». Длинноствольные пушки вели яростный огонь по нашим позициям. И здесь случилась беда: танковый снаряд угодил в НП, где находился майор Михаил Дьякин. Еще не успев понять, что случилось, я оторопело смотрел на развороченный НП, на разбитую рацию, на обрывки телефонных проводов…
Останки Героя Советского Союза майора М.Дьякина похоронили в Вене…
И вот – заметка в «Красной Звезде». Значит, не ошибся Михаил – у него родился сын. И назван тоже Михаилом. Став солдатом, он овладел артиллерийской профессией отца. Служил отлично, был одним из лучших наводчиков батареи, свято берег славное имя отца-героя.
Через некоторое время мне довелось встретиться с Михаилом. Он оказался простым скромным парнем. Меня поразило его удивительное сходство с отцом: такой же круглолицый, такая же мягкая, добродушная улыбка, тот же открытый взгляд… Не зря Михаил Дьякин в свое время так радовался будущему сыну, так ждал его. Сын оправдал его надежды.
СЕДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ
Мне б только
До той вон канавы
Полмига,
Полшага прожить.
П.Шубин
Дважды снаряд в одну воронку не попадает – так учили новичков опытные солдаты. Однако не фронте бывало всякое…
Это случилось на венгерских равнинах в начале февраля сорок пятого. Противник танковым тараном проломил оборону одной из частей нашей дивизии и прорвался в ее тылы.
Командир огневого взвода минометной батареи лейтенант Григорий Волков, расстреляв последние мины, вместе с ездовым грузил на повозку ствол, опорную плиту и двуногу-лафет 82-миллиметрового миномета. Рядом отбивалась наша пехота, и лейтенант в грохоте боя не расслышал близкой беды. Из-за лесопосадки внезапно вынырнула желто-зеленая морда вражеской «пантеры». Длинный пушечный хобот, раздвинув тонкие деревца, нагло нащупывал цель.
– Гони! – крикнул Волков ездовому.
Пожилой солдат хлестнул вожжами по крупам лошадей, и они так лихо рванули с места в галоп, что лейтенант едва успел вскочить в повозку.
Солдат стоял во весь рост и покрикивал на лошадей. А они неслись по ровному полю, вытянув шеи, разбрасывая мерзлую землю из-под копыт. Незакрепленная минометная труба билась о борта повозки, подпрыгивая вместе с тяжелой плитой, когда колеса наскакивали на кочки и рытвины.
Лейтенант Волков повернул голову и увидел, как сорокапятитонная «пантера» утюжила огневую позицию, которую только что занимали минометчики.
Лошади неслись вскачь, и расстояние между повозкой и танком с каждой минутой увеличивалось. Но вот башня «пантеры» повернулась, пушечный ствол стал нащупывать повозку. Первым желанием Волкова было соскочить на землю и спрятаться в какую-нибудь щель, но поросшее жухлой травой поле было ровным, как стол. Да и поздно уже: из танковой пушки блеснуло пламя. Совсем рядом взорвался снаряд. Колесо, подскочив метра на два, покатилось по полю. Взрывная волна подбросила лейтенанта, и он вылетел из повозки.
Очнулся Волков от резкой боли в плече. Успел заметить, как обезумевшие лошади мчались вперед и повозка, словно птица с подбитым крылом, чертила осью мерзлую землю, оставляя на ней извилистый след. Солдат-ездовой, видимо, погиб при взрыве.
В этот момент послышался угрожающий грохот. Вражеский танк шел прямо на Волкова.
Превозмогая нестерпимую боль, лейтенант вскочил и, почти не чувствуя ног, побежал туда, где должны были находиться огневые позиции артиллерийского полка. На бегу Волков жадно искал глазами хоть какой-нибудь ориентир, хоть какую-нибудь примету позиций. А спиной, всем телом чувствовал нацеленные стволы пушки и пулемета.
Танк был уже в сотне метров. Волков старался бежать не прямо, а зигзагами, чтобы помешать прицельному выстрелу. Мелькнула мысль – на зигзаги уходят время и силы, не лучше ли бежать прямо? С каждой секундой тело ждало горячей пулеметной очереди или тугой волны снарядного взрыва. Но вражеское орудие и пулемет молчали. Зато все слышнее, все громче гремел угрожающий лязг гусениц. Повернув на бегу голову, Волков отчетливо увидел траки гусениц, отверстия орудийного надульника, хищное пулеметное рыльце. «Значит, хочет раздавить…» – обожгла мысль. И ноги стали еще тяжелее. Лязг гусениц все приближался. Казалось, уже слышится запах выхлопных газов. А вокруг ни бугорка, ни окопчика, хотя бы маленького, чтобы спрятаться или попытаться обмануть врага.
На какой– то миг лейтенанту показалось, что он стоит на месте, хотя от бега спирало дыхание и темнело в глазах. Пот ручьями заливал лицо, мокрая гимнастерка прилипла к телу. Хотел было сбросить на ходу шинель, но это задержало бы на какие-то секунды бег. И Волков, не останавливаясь, мчался дальше. По грохоту можно было определить -танк шел метрах в тридцати, и это расстояние с каждой секундой сокращалось. Теперь лейтенант лишь опасался того момента, когда смрадное чудище приблизится вплотную и надо будет повернуться, чтобы встретить смерть лицом к лицу.