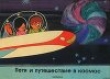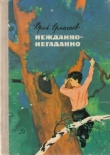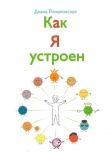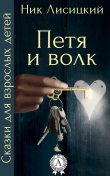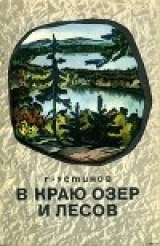
Текст книги "В краю лесов и озер"
Автор книги: Григорий Устинов
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
ДЕНЬ НА АЗБАЕ

Николаю Петровичу Башилову поручили обследовать озеро Азбай. Надо было выяснить возможность зарыбления его зеркальным карпом и линем и организации стана для спортивной охоты на уток. Попутно он должен быть заготовить и тушки птиц для изготовления школам чучел. С ним попросился на озеро и сын Петя.
– Ну, что же, поедем, – не возражал отец. – Веселее будет. Только выезжать придется рано.
– Он согласен всю ночь не спать, только бы поехать, – улыбнулась мама, собиравшая мужа и сына в дорогу.
...Стоя на ногах и размеренно работая шестом, Башилов увлеченно гнал лодку к черневшему мысу. На носу, подложив под себя охапку сена, сидел Петя. Рядом лежала двустволка, большая сумка с патронами, чучела уток и другое снаряжение.
На востоке уже ширилась полоса рассвета. Ночные тени, мешаясь с туманами, бесшумно уходили, на запад. Предметы начали принимать четкие очертания.
С центрального плеса доносились крики савок, свиязей, хохлаток и морской чернети, звонкий шум гоголиных крыльев. А в зарослях рассвет приветствовали серые утки, лысухи, гагары.
Ветер шелестел мокрым от инея тростником, забивал о борт легкую зыбь.
...Но вот и мыс. Башилов повернул лодку и проехал по кромке тростников.
– Заросли плотные, значит, особой маскировки не требуется, – сказал он довольным голосом.
Выехав на чистую воду метрах в пятнадцати от тростников, Николай Петрович распустил шнурки с грузом и выставил утиные чучела. Пару гоголей поставил левее мыса, три хохлатые чернети – несколько правее, а двух чирков – поближе к зарослям. Затем загнал лодку в тростники, надломил их по направлению к чучелам и пересел на среднюю скамейку лодки, спиной к Пете. Рассветало...
Озерная сырость и прохлада, стена тростников, разноголосый крик уток сближали с природой и необъяснимо волновали. Утки, поднимаясь с центрального плеса или из зарослей, летели кольцевым путем через мыс. Другие партии также чаще через мыс «тянули» на прибрежные грязи, поля и обратно. Место для охоты было выбрано удачно, и Башилов сказал:
– Видишь, Петя! Мы сидим как раз на скрещении воздушных путей дичи. Это очень важно. Обычно утки... – но не успел закончить фразу.
– Летят! – вскрикнул настороженный Петя.
Пятерка хохлатой чернети вынеслась из обрывков тумана и снизилась к чучелам.
– Бах! Бах! – Дублет Николая Петровича сбил пару уток, и они грузно шлепнулись в воду. Тушки их перевернулись белыми брюшками вверх. Подгоняемые волной, они поплыли к зарослям...
Прошло мгновение... Прямо на мыс налетела стайка стремительных гоголей. Увидев чучела, утки сделали круг и подсели к ним.
Башилов не стрелял сидячих уток. На воде он только добивал подранков.
Николай Петрович приподнялся. Гоголи нырнули в воду.
Но вот один из них неожиданно выскочил из воды слева и упал, пораженный выстрелом в угон. Второй поднялся справа, но Башилов промахнулся. Пока он перезаряжал ружье, разлетелись и остальные.
– Видел, Петя, как гоголи хитрят? При опасности они вот так нырнут, а потом вылетают из воды там, где их совсем не ждешь. Гоголь под водой работает не только лапками. Он взмахивает крыльями, потому так быстро двигается под водой и буквально вылетает из воды.
– А гоголь на нашем озере утят выводит? – думая о своем, спросил Петя.
– Нет. Ему здесь негде гнездиться. Он, как и скворец, гнездо устраивает в дуплах, а тут дупляных деревьев нет. Но если по берегам озера расставить дуплянки нужного размера и устройства, то гоголь и здесь будет выводить птенцов. На некоторых водоемах так и поступают, – сказал Башилов, выплескивая из кормы скопившуюся воду.
Над водой летел табун чирков-трескунов.
– Слева утки! – вскрикнул Петя и спрятался за спину отца.
Николай Петрович подпустил их метров на тридцать, потом сбил троих дуплетом.
– Вот теперь и чучела добавим! – довольно усмехнулся Башилов и, взяв шест, вытолкнул лодку из зарослей.
Он быстро собрал битых уток и с помощью лежащих в лодке тычек подставил их к чучелам. У пары деревянных гоголей появился натуральный гоголь. Увеличился также табунок хохлатой чернети и чирков. Всего на воде теперь стояло тринадцать чучел.
– Как, Петя, натурально? – с улыбкой спросил сына Николай Петрович, загоняя лодку на старое место в тростник.
– Как живые сидят! У них и перо настоящее, и головкой против волны держатся. А тычек совсем и не видно, – восхищался Петя.
Такие временные чучела очень помогают. Чем больше на воде чучел, тем лучше охота.
– А что если снять с утки шкуру и сделать чучело? Так можно?
– Можно, хорошее чучело будет. Шкурку надо натянуть на деревянную «бакульку», потом зашить внизу разрез и укрепить головку. Но такие чучела трудно перевозить и они быстро портятся. Раз я встретил охотника. Он сидел на лодке в тростниках и постреливал гоголей. Перед ним на тычках были посажены сороки...
– Сороки? – удивился Петя.
– Да. Потому что на воде издали они очень напоминают гоголей.
Уже давно взошло солнце. Оно просушило тростники, и шум их стал звонким и певучим. Дружный лет уток начал ослабевать.
Выстрелы у мыса раздавались все реже и реже.
Николай Петрович предложил отдохнуть и закусить. Достал хлеб, молоко и вареные яйца.
Но в это время Петя услышал шум: к чучелам подсел табунок хохлатой чернети. У мальчика загорелись глаза, хотелось выстрелить самому. Николай Петрович передал ружье сыну и тихо сказал:
– Курки взведены. Я наклонюсь, а ты стреляй с колена по уткам, когда они полетят. Сразу два пальца на гашетки не клади, а то выстрелишь сразу из двух стволов и вылетишь из лодки, да и пальцы отобьет отдачей. Понял?
– Понял...
Петя впервые держал в руках такую хорошую двустволку! Сердце его радостно забилось. Он старался сдержать волнение, но не мог. А утки уже заплыли в чучела и насторожились, инстинктивно почувствовав обман. Увидев человека, они поднялись в воздух.
Петя выстрелил. Сноп дроби хлестнул по воде правее уток. Тогда он перенес палец на вторую гашетку и выстрелил вторично, но все утки благополучно улетели...
Расстроенный он опустился на место. Отец лихо заломил ему шапку, подмигнул:
– Не волнуйся. Научишься еще!
Солнце поднялось уже выше тростников. Стало нестерпимо жарко. Николай Петрович и Петя сняли куртки, освежились холодной водой.
Вдруг видят: болотный лунь утащил у них тушку чирка.
Башилов выстрелил... Лунь бросил добычу, но продолжал лететь. Тогда Николай Петрович выстрелил второй раз, и птица упала в заросли.
– Вот разбойник! Среди белого дня грабежом занялся...
– Папа, нам учительница говорила, что болотный лунь большой хищник и что он враг водоплавающей птицы...
– Да, это верно, – подтвердил отец. – Я вот сделаю из него чучело с чирком в когтях, и ты его школе подаришь...
Мальчик радостно закивал головой.
– Ну, а теперь давай собираться. Нам ведь поручено еще осмотреть озеро.
Они прибрали все в лодке. Дичь разложили в середине лодки брюшками вверх. Кровоточащие ранки, клюв и заднепроходное отверстие уток Башилов заложил кусочками ваты.
– Это для чего? – поинтересовался Петя.
– Чтобы не пачкать кровью и другими выделениями перо птицы. А то потом очень трудно отмывать его, особенно белое.
«Да, можно бы на этом озере организовать охотничий стан для рабочих завода, например», – подумал Башилов, беря в руки весло.
Длинный шест пришлось сменить на весло, так как глубина водоема увеличилась. Николай Петрович поплыл к центру озера.
– Видишь, как много здесь рдестов,[5]5
Рдесты – мягкая подводная растительность, на которую рыбы любят откладывать икру.
[Закрыть] – Башилов сорвал головку растения и протянул ее сыну. – Вот смотри. Здесь имеется много питательных семян для птиц.
– Потому их тут так много, – взмахнул рукой Петя в сторону уток, поднявшихся табуном с рдестов.
Лодка приближалась к центральной части озера. Николай Петрович измерил глубину. Оказалось, более пяти метров.
«Для карпа, а тем более для линя, глубина достаточная, – подумал он. – Зимой рыба уже не задохнется от недостатка растворенного в воде кислорода. Надо взять пробу».
Башилов опустил в озеро на тонком шпагате белый диск, определил прозрачность и цвет воды. Затем маленьким дночерпателем набрал ила и внес в блокнот его данные: цвет, запах, структуру.
Закончив с пробами, Николай Петрович вынул карту озера и отметил на ней точку этой центральной станции.
– А теперь поехали вон туда, – сказал Башилов и повернул сына лицом к песчаным отмелям озера.
Среди обитателей песчаных отмелей – гальки и водорослей – шныряли разноцветные жучки, клопы, клещи, бокоплавы. Извивались прозрачные олигохеты, кишели дафнии, циклопы. А там, где темной полоской лежал ил, виднелись борозды от медленно проползавших беззубок. Чего здесь только не было!
От песков Башилов направился в залив к зарослям. Здесь тоже устроил станцию: проверял глубину, качество и продуктивность ила, химический состав воды, описывал водную растительность и зональность ее расположения. Правда, осенью некоторые растения отмирают и опускаются на дно, а потому обнаружить их бывает трудно.
«Но таких растений, должно быть, немного, – решил Николай Петрович, продолжая обдумывать проблему использования их в хозяйстве. – Вот, например, тростники – целое море! А используют ли их колхозы? Нет, не все. А ведь это отличнейший строительный материал. Из тростниковых щитов можно быстро и дешево выстроить сухие и теплые сельскохозяйственные помещения.
Скошенный и высушенный молодой тростник охотно поедается скотом. От него даже увеличивается надой молока. Он хорошо силосуется с другими травами. А как быстро растет! Дает три укоса за лето.
Метелки, головки его, заваренные и слегка посыпанные отрубями, хорошо поедаются свиньями. А корневища тростника, камыша и рогоза? Они содержат более пятидесяти процентов крахмала и около десяти процентов сахара. Разве плохо обладать такими богатствами? Некоторые говорят, что использовать водную растительность – это тяжелая работа, надо затратить много труда. Но в наше время можно прибегнуть к технике, механизировать трудоемкие работы...»
Башилов почерпнул ладонью какие-то мелкие плавающие растения, передал их Пете.
– Это ряска, – сказал он, – водяная чечевица. Видишь, маленькое, свободноплавающее растение. В стоячих водах она бывает в таком большом количестве, что... да вон, посмотри! На берегу ее набило волной целый вал. А в зарослях она местами лежит слоями в несколько сантиметров. Это хороший корм для домашней птицы, особенно для уток. Ее можно скармливать и в сыром и в сухом виде.
– Вот, а мама говорит, что нечем уток кормить, – протянул Петя.
– Да. Много кое-чего мы говорим, – вздохнул Николай Петрович. – В природе водная растительность имеет огромное значение, Петя. Она оказывает большое влияние на химический состав воды, на заболачиваемость водоемов, служит пищей для многих рыб, а также некоторых зверьков. Ондатра, например, только ею и питается! В зарослях водятся насекомые, нужные птицам и рыбам как питание. Здесь мечут икру многие рыбы, в том числе и азбайский карась... Гнездует разная птица. Да разве все перечислишь? Одно тебе скажу, Петя: очень плохо поступают те, кто выжигает на озере тростники.
Некоторые, наоборот, растительность даже разводят! Есть вот растение дальневосточный рис. Его специально высаживают корешками на прибрежных участках озер для водоплавающих птиц. Семена они поедают, а густые, высокие заросли служат им хорошей защитой и местом гнездования...
Петя был в восторге и от объяснений отца и от всего, что видел в водоеме. Сегодняшний день сблизил его с природой, принес ему очень много нового и интересного.
– А для карпа и линя наше озеро подходит?
– Подходит, Петя, – ответил отец. – Замечательное озеро для дичи и для рыбы!
Солнце уже шло на закат. Старый Азбай дремал в тяжелом, свинцовом блеске. Вдали кричали савки. Лодка держала путь к дому...
НЕУТОМИМЫЙ ОХОТНИК-ПРОМЫСЛОВИК

Стоял жаркий июньский день. Воздух был наполнен острым запахом хвои и цветов. Среди высоких папоротников пестрели цветы конского щавеля, первоцвета, синюхи.
В лучах солнца, пробившихся между сосен, играли мошки, и монотонный шум их вызывал желание прилечь среди папоротников на мшистую землю и отдохнуть.
Охотник-промысловик горно-лесного района Иван Андреевич Пронин перескочил встречный ручей и начал подъем по тропе к 42-му кварталу. Он торопился к своей охотничьей избушке у Каменного ключа. Завтра, двадцать пятого июня, начало промысла крота, а ему осталось еще многое сделать за этот день и вечер, чтобы лучше подготовиться к охоте. Работа предстояла нелегкая...
«Ничего, дети помогут: у них сейчас каникулы», – успокаивал себя Иван Андреевич, поправляя на спине тяжелую котомку.
Вдруг левее тропы раздался выстрел...
Пронин вздрогнул.
«Летом, в запретное время, и стреляют! Надо проверить!» – подумал он и свернул с тропы по направлению к выстрелу.
Вскоре Пронин услышал разноголосый звон колокольчиков, а затем увидел стадо коров, разношерстьем рассыпавшееся по лесной траве. Оводы и мошки кусали скот, и коровы с шумом ломились через мелкую поросль сосенок, спасаясь от мучителей.
В стороне послышались голоса. Иван Андреевич узнал пастуха Федора со второго участка леспромхоза и его подпаска. Подпасок сидел на камне и, обмахивая потное лицо пучком травы, смотрел, как Федор снимает шкурку с убитого зайца, подвешенного к березке.
– Здравствуйте, зайчатники! Свежуете? – поздоровался с пастухами охотник.
– Свежуем... – ответил, вздрогнув от неожиданности, Федор.
– А не стыдно тебе, Федор, в запретное время зайцев стрелять? Ты же не голодный и зарабатываешь неплохо. Какай сейчас заяц? Куда он годится? Весь в клещах, мясо синее, постное... Вредным баловством ты занялся, против закона и совести пошел. Покажи билет! – твердо потребовал Пронин и придвинулся к Федору.
– Какой билет?
– Охотничий.
– Нет его у меня. Я не охотник, ружье для охраны скота ношу.
– Для охраны, а это? – Иван Андреевич с сердцем сорвал с березки тушку зайца и сунул ее к носу растерявшегося Федора. – Коров от зайцев охраняешь? Раз имеешь ружье и по лесу шатаешься, так обязан его зарегистрировать, билет охотничий взять и соблюдать законы охотников. Браконьер ты! Небось, и яйца глухариные из гнезд выбирал. Выбирал? – все больше раздражался Иван Андреевич, еле удерживаясь от резких слов.
– Да что вы, товарищ Пронин... – начал оправдываться Федор, но охотник не дал ему говорить, перебил его:
– У меня нет с собой бумаги, чтобы составить протокол. Но запомни, если ты еще раз попадешься мне с таким делом, тогда не жалуйся... А ружье зарегистрируй и билет возьми. Я проверю! На! – Пронин с презрением бросил ему к ногам тушку зайца, круто повернулся и пошел.
* * *
В последних числах июня в ловушки все чаще стали попадать молодые кроты, которые отличаются от старых меньшей величиной, светлым мехом и черными подошвами лапок.
«Дней через восемь-десять надо ожидать период массового расселения молодняка, – обрадовался Пронин, – а следовательно, и время основного промысла».
Он расчетливо расставил кротоловки, стараясь в первую очередь отловить старых кротов, так как те умудряются часто по новым ходам обойти ловушку и увлечь за собой молодняк. Пришлось для этой цели расширить район охоты, постепенно вводя все новые и новые ловушки.
Пронин ставил в ходах не по две, а по четыре кротоловки. Также применял и капканы № 0 и № 1.
И в разгар промысла охотник брал от 100 до 200 кротов в день. Ему дружно помогали ребята: снимали и сушили шкурки, готовили обед, вели несложное хозяйство.
Однажды в конце июля Иван Андреевич, как всегда, проснулся с рассветом, тихо собрался, боясь разбудить ребят, и вышел из дому. Начался его обычный поход по путику – охотничьей тропке: он снимал тушки пойманных кротов, переставлял и маскировал ловушки.
Через несколько часов, уже сделав круг и возвращаясь обратно, Пронин увидел, что его путик истоптан коровами. Скот прошел по тропе с километр. Многие кротоловки спустились, а своды ходов были повреждены копытами.
«Будто нарочно, – процедил он сквозь зубы и лицо его стало багроветь. – Неужели Федор отомстил?..»
Он побежал в избушку, бросил на лавку тушки кротов и вернулся к следам. Догнал табун у Светлой поляны. За коровами шел только подпасок. Федора не было видно.
– Зачем это Федор по моему путику коров прогнал? – прямо, без обиняков спросил у подпаска Пронин.
Подпасок отвернулся. Тогда Иван Андреевич мягко добавил:
– Не бойся. Я не злой и ничего худого тебе не сделаю. У меня свой такой же хороший парень растет.
– Я... я сказал ему, что это путик, а он говорит: «Ничего, сегодня сыро в лесу ходить, так прогоним скот по тропе». А сам вот по мокрой-то траве за рябчиками ушел... И всегда он такой, бросит меня одного с коровами, да и бегает с ружьем по лесу...
Иван Андреевич потрепал парня по плечу:
– Ничего, не отчаивайся. Мы отучим его от такой работы. А куда он ушел?
– В ольховник, у Черной елани.
Пронин пошел туда. Ему, охотнику и следопыту, да еще в родном лесу, разыскать Федора было нетрудно.
Тот прицеливался в затаившегося на ольхе рябчика. Сделав прыжок, Пронин схватил рукой ствол ружья и нажал его вниз. Раздался выстрел. Заряд дроби врезался в ствол ближайшего дерева.
Иван Андреевич сильным рывком вывернул ружье из рук ошеломленного Федора, сказал:
– Вот и встретились опять... Ну, ружье на учет поставил, билет взял?
Федор молчал.

– Молчишь! Дрянной ты человечек!
С этими словами Иван Андреевич закинул ружье себе на плечо и ушел. На следующий день он сдал отобранное ружье в милицию и рассказал обо всем.
По дороге к себе в избушку в 43-м квартале его застала сухая гроза. Молния ударила в старую сосну, расщепала ее и зажгла. Начался лесной пожар.
Иван Андреевич прибежал домой, послал дочку в лесничество сказать о пожаре, а сам с сыном Сережей, захватив лопаты и топор, бросился тушить пожар.
...Пожар разгорался. Красные и синие языки пламени, жадно облизывая валежник, сухую, осыпавшуюся хвою и старые мхи, с шипением и треском продвигались все дальше. Густые клубы дыма то стлались над землей, то вскидывались вверх, закрывая вершины леса.
– Хорошо, что ветер слабый и пожар-то низовой. Пошел бы он верхом – беда, не угонишься! Давай вот здесь снимай дерно прямо на ту большую лиственницу, – обратился Пронин к сыну, – а я свою борозду погоню к межевому столбу.
Вскоре они окопали площадь пожара. Сережа бегал вдоль борозды и затаптывал очаги огня, а Иван Андреевич забрался в центр и стал закидывать землей горящий валежник.
Хотелось пить, глаза слезились от дыма, устали руки, уже обгорели рубашки, покоробились сапоги... но Пронины продолжали тушить пожар.
Только часа через два приехали к ним на помощь люди из лесничества.
* * *
Пришел снежный ноябрь. Иван Андреевич начал готовиться к промыслу лисицы капканами.
Тяжелый труд промысловика при переноске и маскировке капканов больших размеров часто заставлял его задумываться. «Неужели ничего нового нельзя внести в промысел лисицы?»
...Охота на лисиц открылась 15 ноября. С мелкими капканами и маскировочной лопаткой Пронин вышел в лес. В лесу снег был покрыт опавшими семенами березы и хвоей.
Встречались следы зайцев, мышей, горностаев. На полянках темнели лунки с пометом от ночевавших здесь глухарей, тетеревов и рябчиков. Но вот впереди ясно обозначилась и цепочка следов лисицы.
Пронин вырубил для волокуши две палки толщиной в пять и длиной в шестьдесят сантиметров и по прямой линии подошел к следу зверя. Осмотревшись, он освободил ноги от лыж и, сделав большой шаг вправо, начал ставить капкан обычным способом «под след», на пятом следе зверя от лыж. Прикрепив волокушу, он насторожил капкан, поставил его в углубление под след лисицы, затем уложил волокушу и замаскировал все снегом. Потом встал осторожно на лыжи и замаскировал единственный след своей ноги. След для этого он брал маскировочной лопаткой впереди лыж по направлению к своем дальнейшему ходу.
Установив так же новый капкан под пятый след зверя с левой стороны от лыж, Иван Андреевич прикрепил лыжи и через выемки снега прошел дальше.
На поляне не осталось никаких повреждений снега, кроме цепочки лисьих следов и пересекающей их лыжницы.
За этот день Пронин свободно выставил на лисиц двенадцать капканов, а на следующий день – двадцать.
На третий день он проверил капканы и взял четыре лисицы!
Новый метод, таким образом, полностью оправдал себя.
...Пронин разбил лисиц по кряжам, связал их головками и повесил. При свете электрической лампочки шкурки лисиц Башкирского и Уральского кряжа переливались разными красками.
«Недаром мягким золотом пушнину называют, – подумал Пронин и улыбнулся. – Надо написать в районную газету. Ловля лисиц мелкими капканами с пересечкой на лыжах ее следа и облегчает труд и повышает производительность. А то что получается? Вон Алексей Николаевич, старый капканщик, а поймал всего три лисицы!
Он взял бумагу, перо и сел за стол.