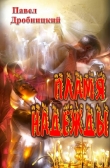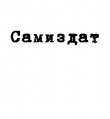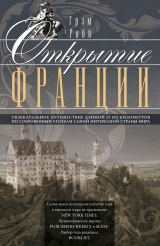
Текст книги "Открытие Франции. Увлекательное путешествие длиной 20 000 километров по сокровенным уголкам самой интересной страны мира"
Автор книги: Грэм Робб
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Странствующие торговцы из Оверни были специалистами по обману. Они могли раз за разом продавать целый сезон всего один отрез ткани. Делалось это так. Продавая ткань, торговец обещал покупателю, что завтра придет портной и бесплатно сошьет из нее одежду. Портной приходил, снимал с покупателя мерку, забирал ткань – и больше не возвращался. Правда, у нечестного продавца была одна трудность: ему нужно было обходить гораздо большую территорию по сравнению с торговцем, заслужившим доверие клиентов.
Одна форма обмана, получившая название «la pique», была крупной отраслью народной экономики. Сочувствующий деревенский священник ставил свою подпись под письмом, где было сказано, что податель письма перенес ужасные бедствия и нуждается в помощи: его ферма сгорела, скотина больна, жена находится при смерти и кто-то украл все их деньги. Тот, кто писал это письмо, получал долю доходов подателя. Очевидно, лучшими составителями этих жалобных писем были старые женщины. После ареста двух странствующих торговцев, которые таким путем выманивали у людей деньги, один священник добровольно признался на допросе, что подписал фальшивый документ. Даже если содержание письма было ложью, бедность была настоящая, и человек, который собирался пройти сотни миль, чтобы заработать себе на жизнь используя чужое сочувствие, по крайней мере экономил этим запасы своей деревни.
Если бы все население Франции было законопослушным, значительная ее часть была бы отрезана от внешнего мира. Контрабанда тоже была крупной отраслью народной экономики. Она сохраняла открытыми крошечные каналы связи. В некоторых местностях она была практически единственным родом занятий. Жители приграничных городов, например города Ле-Пон-де-Бовуазен на границе Франции и Савойи, почти ничем, кроме этого, не занимались. Жители некоторых провансальских деревень отказались от сельского хозяйства, предпочитая заниматься контрабандой. В некоторых монастырях были подозрительно большие запасы спиртного и табака. Ницца до 1860 года была отдельным государством и могла экспортировать товары на восток, в Италию, и на запад, через реку Вар, во Францию.
Граница между Францией и Испанией была похожа на решето. На западе горы Страны Басков были все исчерчены тропами контрабандистов. Позже этими тропами пользовались партизаны, бойцы Сопротивления и баскские террористы. На востоке каталонцы и жители Русильона имели процветающую преступную экономику. Отчет, направленный в министерство иностранных дел в 1773 году, содержал жалобу, что «невозможно сделать шаг, не наткнувшись на банду вооруженных контрабандистов». Эти контрабандисты не крались, пригнувшись, среди кустов. Они передвигались взводами по пятьдесят человек, и еще один взвод прикрывал их сзади. Их кормили, платили им деньги и давали им звания как солдатам.
Из Бретани в Мен шли непрерывным потоком тысячи женщин, которые притворялись беременными, но на самом деле были тяжело нагружены солью и пересоленным маслом. Соляной суд в Лавале в 1773 году осудил за контрабанду более 12 тысяч детей. И это только те дети, которые были пойманы с грузом контрабанды, весившим 15 фунтов или больше. Некоторые из них, став взрослыми, начали участвовать в том, что было, по сути дела, англо-французcким общим рынком. Бретонские моряки провозили бренди в Плимут, а корнуолльцы везли табак в Роскоф. Морские пути, которыми пользовались галло-римские торговцы и нормандские захватчики, оставались все такими же оживленными, когда Наполеон ввел систему континентальной блокады Англии (1806 – 1813). Есть сведения, что контрабандисты на обоих берегах Ла-Манша пользовались одним и тем же жаргоном. А контрабандисты из Сен-Мало и Гранвиля могли разговаривать с жителями островов Ла-Манша на нормандском диалекте французского языка. Американец, побывавший в Северной Франции в 1807 году, заметил подозрительные признаки того, что, несмотря на запрет Наполеона, Кале и Булонь продолжали поддерживать прекрасные торговые отношения с Дувром и Гастингсом: «Яйца, бекон, птица и овощи, кажется, имелись там в очень большом количестве. Как я понял, крестьяне ели их на обед по меньшей мере два раза в неделю. Я был удивлен этим явным изобилием у той части общества, у которой я не мог этого ожидать. Боюсь, что часть его связана с дополнительными доходами от контрабанды, которой занимаются на побережье».
Все это заставляет предположить, что таможенные барьеры душили торговлю, но не всегда увеличивали оторванность от мира. «Крепость» Франции имела стены с очень большими дырами. На любом празднике в честь единства Европы нам следует вспоминать контрабандистов и странствующих торговцев, которые помогали держать границы открытыми.
Если благосостояние народа определяется развитием промышленности и капиталовложениями, то движение туда и обратно полумиллиона рабочих-мигрантов и мелких преступников и их жалкие старания накопить и сохранить немного денег кажутся слабой деятельностью внутри отсталой экономики. Но если учитывать всю массу населения страны, то похоже, что эта деятельность была признаком здоровья Франции, которое она утратила и не восстановила до сих пор. Карты численности населения по департаментам, кажется, показывают, что в конце XIX века Франция вступала в новые Темные века. С 1801 по 1811 год население Франции в целом увеличилось более чем на 10 миллионов, но население девятнадцати департаментов при этом сократилось, и в их числе было несколько департаментов, находившихся поблизости от Парижа. Еще в десяти департаментах население увеличилось меньше чем на 50 тысяч. Сегодня тридцать шесть департаментов, занимающих 40 процентов территории Франции, имеют меньше жителей, чем полтора столетия назад. Хотя в сезонную миграцию было вовлечено меньше чем 2 процента населения, ее влияние было жизненно необходимым для Франции: миграция позволяла богатству достичь менее производительных частей страны и не давала жизненным силам вытечь из них.
Результаты этого можно до сих пор увидеть в некоторых частях Франции. В Бургундии в некоторых деревнях стоят двухэтажные maisons de lait – «молочные дома», которые построены на деньги, заработанные кормилицами. В труднодоступном Кантале есть летние особняки ушедших от дел водоносов. В городе Барселонет и коммуне Эгюий есть неуклюжие большие дома: их стали строить, когда продавцы зонтиков вернулись в Альпы из Южной Америки и когда местные сыры начали доезжать до Средиземного моря и даже пересекать Атлантику в обитых свинцом ящиках.
Муравьиное движение мигрировавшего меньшинства не только разносило по стране богатство, но и сдерживало рост городов. До конца XIX века, когда нормой стал отъезд из родных мест навсегда, Париж не был для Франции засасывающим все центром тяжести. Столицу хорошо обслуживали главные реки Северо-Восточной Франции – Йонна, Сена, Марна, Эна и Уаза, но не те реки, которые начинаются в Центральном массиве. Все лучшие дороги из Оверни вели на юг. Торговая дорога в Бордо, Тулузу, Монпелье или Марсель, по которой шли многочисленные караваны мулов и паломники, была предпочтительнее, чем малоизвестная дорога, которая вела на север, в земли, где люди говорили на другом языке. Даже в начале XX века многие деревни на юге Оверни и в Перигоре имели более тесные связи с Испанией, чем с северной половиной Франции. У баскской семьи с такой же вероятностью могли быть родственники в Буэнос-Айресе, а позже как на Манхэттене, так и в Париже.
Если бы можно было нанести на карту все эти пути, получившийся рисунок больше был бы похож на Римскую Галлию, чем на систему автомобильных и железных дорог XXI века с центром в Париже. На ранних картах грамотности населения видна все та же неожиданная конфигурация. В некоторых местностях, которые казались далекими от света цивилизации, – в Кантале, Изере, Дроме, альпийских департаментах и Савойе – уровень грамотности оказался неожиданно высоким. Бальзак, описывая в своем «Сельском враче» (1833) миссионера культуры, который «улучшал невозделанный угол мира (в Дофине) и приобщал к цивилизации его неразумных жителей», перенес свою родную в значительной степени неграмотную провинцию Турень в Альпы, о которых знал очень мало. А в Альпах к тому времени многие деревни уже имели у себя школы – не для того, чтобы дети получали общее образование, а для того, чтобы обучать новое поколение странствующих торговцев. Там преподавали арифметику, счетоводство и деловой французский. В области Уазан к востоку от Гренобля дети переписывали и запоминали образцы писем. Вот пример письма, которое будто бы прислал успешный странствующий торговец, который избавился от тяжелой и однообразной жизни своего родного дома и теперь живет в столице: «Итак, дорогой друг, ты видишь, что у нас здесь гораздо больше удовольствий, чем дома, где мы только ходим от одного родственника к другому, чтобы пожелать им доброго дня. Я очень советую тебе приехать жить в Париж, чтобы ты смог испробовать его наслаждения».
Идея, что спасение общины зависит от малых усилий отдельных людей, до сих пор ощутима в аграрной политике Франции. Некоторые черты этой политики, которые кажутся местническими и протекционистскими, на самом деле отражают точное восприятие французской, а не парижской истории. В викторианской Великобритании катастрофическое совпадение урбанизации с индустриализацией создало большие загрязненные зоны, где господствовали нищета и болезни. Во Франции большинство тружеников промышленности работали либо на дому, как ткачи Нормандии и Лиона, либо сезонно, как горцы, которые шесть или семь месяцев надрывались на заводах по производству растительного масла, мыловаренных заводах и парфюмерных фабриках в Эксе или Марселе, а потом возвращались домой и покупали участок земли. Большинство заводов и фабрик были достаточно малы, и на них не распространялся, начиная с 1840 г., запрет на детский труд, который до 1874 года относился лишь к мастерским, где было больше двадцати рабочих. Французская промышленность, в отличие от английской, производила в основном articles de Paris, то есть предметы роскоши: часы, драгоценные украшения, мебель, модные аксессуары, домашнюю утварь и искусственные цветы. Как с гордостью сообщал в 1872 году словарь «Ларусс», Франция, возможно, отстает от Британии и Германии в тяжелой промышленности, «но не имеет себе равных во всех отраслях, где нужны элегантность и изящество и которые ближе к искусству, чем к мануфактуре».
За исключением нескольких городов, в которых происходил промышленный подъем, например Рубо и Монлюсона, французские города не разрастались за пределы своих прежних границ. В 1860 году, когда границы Парижа были расширены и в его состав вошли несколько примыкавших к нему деревень – Монмартр, Гренель, Вожирар и другие, – Оноре Домье опубликовал карикатуру: неуклюжие крестьяне, муж и жена в деревянных башмаках и блузах, стоят на вспаханном поле; вдали видны очертания Парижа, и супруги говорят: «Подумать только, мы теперь парижане!» Изобразив море грязи в пригородах и крошечный город-остров, Домье лишь немного преувеличил. В большей части Франции, когда странствующий рабочий входил в город, о его появлении сообщал стук его подбитых гвоздя ми башмаков по булыжной мостовой. В 1839 году Бальзак описал, как шестнадцатилетний странствующий подмастерье октябрьским утром входит в город Провен (департамент Сена-и-Марна). Провен стоял у одной из главных дорог, ведущих на восток; в этом городе были мельницы, кожевенный завод, кирпичный завод и завод по изготовлению спирта из сахарной свеклы. В этом городе выращивали розы для питомников и для аптекарей (лепестки розы входили в состав стимулирующих лекарств и лосьонов), в нем процветала торговля зерном, мукой, вином, шерстью и минеральной водой. В Провене устраивали четыре большие ярмарки в год, и от него было всего семь часов езды до Парижа в почтовой карете.
«Он остановился на маленькой площади в самой нижней части Провена. В это время дня он мог, оставаясь незамеченным, рассматривать многочисленные дома, стоявшие на этой продолговатой площади. Мельницы на протекавших через Провен реках уже работали. Шум их жерновов и эхо, которое он рождал в верхнем городе, сочетаясь с резкой прохладой и мерцающим светом утра, только усиливали тишину, такую полную, что можно было расслышать, как лязгает и гремит дилижанс на большой дороге, на расстоянии лиги отсюда… Не было видно никаких признаков торговли. Почти не было тех роскошных каретных ворот, которые бывают в домах богатых людей, а те, которые были, редко поворачивались на своих петлях. Исключением были лишь каретные ворота господина Мартене, врача, который был вынужден иметь карету и пользоваться ею».
Большинство французских городов, малых и больших, действительно имели большую пригородную зону площадью несколько тысяч квадратных миль, откуда люди уезжали работать в город на несколько дней, недель или месяцев. Даже если рабочий «день» продолжался несколько лет, он почти всегда кончался возвра щением в родной край – «пеи». И в Ним, и в Лион на текстильные фабрики приходили рабочие из очень дальних горных деревень. Мигрировало в основном сельское население, и мигранты, приходившие в города, в своем большинстве не были пищей для сатанинских фабрик, а предлагали услуги или начинали собственное дело. В 1838 году из почти 23 тысяч мигрантов-савойцев во Франции лишь 2 тысячи работали на фабриках, то есть, с их точки зрения, в сухом теплом месте, где дают еду, жилье и регулярно платят за работу.
Иностранцы, которые сегодня приезжают во французские города, обычно надеются быть принятыми в местное сообщество. У жителей Франции, переезжавших с места на место, обычно не было этой заботы. К середине XIX века половину населения Парижа составляли приезжие из провинций, и большинство из них не считали себя парижанами. Находясь вдали от дома, мигранты тратили как можно меньше денег. Душой они оставались в родном краю. От мест, через которые они проходили по пути, они были изолированы, а дойдя до города, жили внутри его в уменьшенных копиях родины, как савойские трубочисты. На некоторых парижских улицах звуки и запахи деревень и провинциальных городов были сильнее, чем звуки и запахи столицы. Многие мигранты ничего не знали по-французски, кроме своего уличного крика. Лудильщики и торговцы металлоломом из одной долины в Кантале все жили поблизости от улицы Лапп возле Бастилии. Водоносы и чернорабочие из соседней долины жили в том же квартале, так что две группы земляков в Париже вместо реки Жорданны разделяла улица. Все участники того заговора, который послужил Александру Дюма основой для «Графа Монте-Кристо», были родом из одной и той же части Нима и жили в одном и том же квартале Парижа, между Шатле и Центральным рынком. Они встречались и обменивались новостями с родины в кафе на площади Сент-Оппортюн, хозяином которого был их земляк. Следы этих деревень внутри города все еще видны, особенно возле больших железнодорожных станций – название кафе или ресторана, провинциальное блюдо в нем, акцент у официанта или фотография коровы на горном лугу.
Франция сама была похожа на гигантский город, где у жителей каждого округа была своя профессия. Торговцы лошадьми были из Нормандии, ловцы кротов и их ученики из Орна, кружевницы из Кана и Бове. Горничные приезжали из Бретани и Гиени. В XVIII веке в «Бюро кормилиц» на парижской улице Сент-Аполлин часто можно было увидеть накрахмаленные, похожие на скульптурные украшения чепцы женщин из Нормандии. В XIX веке их сменили черные капюшоны бургундских женщин, которые стали приезжать в Париж по тому пути, которым сплавляли лес из Морвана.
Большинство этих мигрантов могли добраться до Парижа за несколько дней. Для других же это был трудный путь длиной в несколько недель. В числе этих других были носильщики и слесари (а возможно, и взломщики, работавшие отмычками) из Лиона, торговцы бывшей в употреблении одеждой из Эльзаса, певцы из Верхней Марны, привратники из Швейцарии (не зря их стали называть швейцарами), стекольщики из Пьемонта, повара из Монпелье, вожаки медведей и точильщики ножей с Пиренеев. Овернь присылала шляпных мастеров и пильщиков из Фореза, старьевщиков из Амбера и Мондора и меховщиков из Сент-Ораду, которые ходили по улицам, неся на себе целую гору кроличьих шкурок, пугали детей и сдирали шкуры с бездомных кошек. Торговцы углем из Оверни, которых называют «бунья» (bougnats), приплывали в Париж, спускаясь по реке Алье и каналу Бриар. Большинство из них продавали также вино. Некоторые из самых известных парижских кафе: «Лё Флор», «Лё Дом», «Куполь», «Дё Маго» – были основаны овернскими угольщиками. До сих пор есть несколько баров, хозяева которых торгуют углем, и до сих пор в Париже почти три четверти кафе с табачным киоском принадлежат овернцам или потомкам овернцев.
Карта путей миграции построена не по законам логики. Первопроходцы прокладывали путь куда-то, потом там возникала колония земляков, у них появлялась клиентура, новое дело начинало двигаться само, и это обеспечивало ему долгую жизнь. Потребители начинали связывать продукт или услугу с одеждой и акцентом жителей определенной местности. Признаков того, что эта система как-то реагировала на изменения в экономике, очень мало. В конце XVIII века крупные го рода на границе Лотарингия – Страсбург, Труа и Дижон были переполнены умирающими от голода сапожниками, у большинства из которых не было ни сырья, ни умения. Некоторые бедные области, например Веркор и предгорья Альп от Диня до Грасса, могли бы получить пользу от миграции, но оставались отрезанными от остального мира до конца XIX века, а тогда и жители начали убегать с родины навсегда. Никто не знает, почему тысячи каменщиков и строительных рабочих каждый год уходили из Лимузена: земли там хватало, и их умение было востребовано в этом регионе. Единственной очевидной причиной было то, что мужчины, пожившие вдали от дома, считались лучшими мужьями: у них было больше денег, их больше уважали, и, прежде всего, они могли рассказать больше интересных историй.
Желание открыть для себя страну обычно приписывают исследователям, ученым и туристам, а не рабочим-мигрантам. Но любопытство явно было одной из главных причин миграции. В те времена, когда большинство людей боялись выйти за порог после наступления темноты, дороги, протоптанные мигрантами, были сравнительно безопасными путями в мир, лежавший за пределами родного края.
Классическим примером этого открытия страны в организованном порядке является Тур подмастерьев по Франции. Это название возникло в начале XVIII века, но сама практика гораздо старше. Первоначально походы предпринимались только по Провансу и Лангедоку, но со временем маршруты стали охватывать долину Луары, Париж, Бургундию и долину Роны. Они обходили стороной Бретань (кроме Нанта), Нормандию, север и северо-восток, а также горы, так что территория походов приблизительно имела форму шестиугольника, описанного вокруг Центрального массива. Люди каждой профессии имели свое общество и при нем сеть «матерей», которые предоставляли его членам жилье и возможность найти работу во всех городах маршрута[24]24
Ученики из Франции и других стран Европы, чья профессия предполагает обработку какого-либо сырья (плотники, каменщики, водопроводчики, пекари и другие) до сих пор совершают такой тур по Франции и временно живут в общежитиях, которыми управляют «матери». Место жестоких драк заняли футбольные игры. Существуют три таких ордена: Товарищество долга, Товарищество долга свободы и Товарищеский союз объединенных долгов. (Примеч. авт.)
[Закрыть]. Подмастерью давали новое имя по названию его родного края или города – Либурнец, Бордосец, Ландец и т. д. После этого он проводил несколько недель или месяцев в городе, работал много часов, осваивал местные приемы своей профессии и учился работать с местным сырьем. Кроме того, он должен был изучить тайные законы того ордена (иначе «долга»), в который входила его гильдия. Когда наступало время уходить, его провожала до границы города шумная процессия, провожающие били в барабаны и играли на флейтах.
Как правило, такое путешествие продолжалось от четырех до пяти лет, длина маршрута была больше 1400 миль, его обычно проходили в направлении по часовой стрелке, и он охватывал 151 город (если судить по «Обычному маршруту тура по Франции», который был опубликован в 1859 году пекарем из Либурна). Посещение некоторых городов было обязательным, а каменщики и плотники обязаны были также осмотреть некоторые произведения искусства в аббатствах и соборах. Во время путешествия ученика принимали в члены гильдии, после чего он становился «Товарищем по туру по Франции» и добавляли к первому имени второе, которым официально указывали на его лучшие качества: Лионец-Верность, Уважаемый-Провансалец, Ангумуазец-Мужественный и т. п. Агриколь Пердигье, краснодеревщик из пригорода Авиньона, опубликовавший свои воспоминания о Туре в 1854 году, был назван Авиньонец-Добродетель. Товарищу также дарили особый посох, украшенный гирляндой из лент, чтобы его узнавали в дороге. Когда он заканчивал тур и возвращался домой, ему вручали свидетельство, и он оставался Товарищем до конца своей жизни.
Эти туры привели к тому, что соперничество между деревнями, междоусобицы и наследственная вражда вышли на дороги.
Члены одного ордена пытались сделать из членов другого ордена месиво, когда встречались на дороге или когда одна из гильдий пыталась поселить или найти себе новую «мать» в каком-нибудь городе. Ученики быстро научились использовать свои инструменты как оружие. Карманный сборник законов и постановлений для рабочих, фабричных мастеров и Товарищей, опубликованный в 1833 году, состоял из тридцати страниц; семь из них были посвящены собраниям бунтовщиков, оскорблениям и клевете, лжесвидетельству, угрозам, нанесению телесных повреждений и убийству. Когда уже упомянутый пекарь из Либурна в 1840 году прервал свой тур, чтобы посетить почтенного бородатого отшельника в горах Сент-Бом, отшельник, разумеется, был вынужден сказать ему несколько суровых слов относительно Тура по Франции[25]25
Члены одного из трех главных орденов «товарищей» верили, что их орден основал француз, который помогал строить храм Соломона в Иерусалиме, а позже удалился в горы Сент-Бом. «Товарищи» до сих пор совершают в июле паломничество к его пещере. Поблизости в базилике Святого Максимина хранятся реликвии их небесной покровительницы, святой Марии Магдалины. На стенах и колоннах базилики в проеме входа можно до сих пор увидеть надписи, сделанные «товарищами» XIX в. (Примеч. авт.)
[Закрыть]. Он заявил, что считает эту сектантскую агрессивность признаком отсталости, и упомянул о том, что трое из каждых четырех Товарищей, посетивших его пещеру, не могли расписаться в его книге посетителей.
Однако эти кровавые драки и песни, сочиненные поэтами-«товарищами», создавали мощное чувство общности. Настанет время, когда рабочие будут сосредоточены на фабриках в городах и станут бороться с невидимым врагом – переменами в экономике и политическими репрессиями. В этих обстоятельствах солидарность будет драгоценным оружием. Весь народ станет думать так, как раньше думали только министры полиции: «зимних ласточек» начнут считать чужаками, которые подрывают устои общества. Деревенский образ мыслей, который заставлял один крошечный край враждовать с другим, будет применен к целым нациям – народам Италии, Испании, Португалии и Алжира. Некоторые рабочие-мигранты совершат такие путешествия, которые привели бы в ужас их предшественников из XIX века: переплывут Средиземное море на весельных лодках, будут ехать в фургонах-холодильниках или станут цепляться за дно вагона скоростного поезда.
Кажется, в истории общества есть закон – чем больше людей имеют какой-то опыт, тем меньше остается свидетельств об этом опыте.
Существует много наполненных бессмысленными подробностями описаний обычных туристских поездок в каретах, но путешествия мигрантов исчезли бесследно, так же как дороги, по которым шли эти люди.
Существует драгоценное исключение – рассказ одного из тех тысяч каменщиков, которые каждый год покидали Лимузен. Мартен Надо, позже он стал политиком-социалистом, описывает это изматывающее и порой страшное путешествие в своих воспоминаниях. Он рассказывает мало, особенно об Орлеане, но по другим источникам можно представить себе то, что он видел в пути.
Надо родился в маленькой лимузенской деревушке Мартинейш. Ему было 14 лет, когда он покинул свой дом вместе с отцом и дядей. В этот день (26 марта 1830 года) плачущая мать надела на него цилиндр, новые ботинки и костюм из овечьей шерсти, жесткий, как картон. Костюм был сшит из драгета – ткани, из которой теперь делают грубые коврики. Мартену предстояло пройти почти весь путь до Парижа пешком, но он должен был выглядеть солидно: тому, кто идет по главной улице длиной в 240 миль, надо иметь приличный вид.
На первой остановке, в Понтарионе, к ним присоединились другие мигранты, собравшиеся со всего департамента Крёз. Они выпили немного вина, а потом старики, которые прошли вместе с ними первый отрезок пути, повернули обратно, «говоря нам, чтобы мы хорошо вели себя, любили и помнили свой край».
Вскоре они перестали видеть «камни друидов», которые стояли на холме за деревней. Для Надо эти камни символизировали его родной край и галльских каменщиков, которые «отвоевали свою родину» у римлян. Тогда еще не было дороги до Гере, и потому им пришлось идти через лес по размокшим тропам. Капли дождя падали с веток, и Мартен промок до нитки. К тому времени, когда они добрались до Бордесуля, который находится на границе их департамента, ноги молодого каменщика были стерты до крови. Отец помог ему содрать носки с ног и натер ему ступни жиром. Гостиница в Бордесуле была типичной ночлежкой для мигрантов – дешевой, гостеприимной и грязной. Хозяева гостиниц вдоль дороги стелили свежие простыни на кровати в ноябре и меняли их в марте. Нужно было ухитриться проскользнуть полностью одетым внутрь свертка пропитавшегося грязью белья и завернуть голову в одеяло. Сон приходил быстро, и ему не мешали даже блохи.
Этот долгий поход на север был сам по себе школой: новичок учился идти на мокрых и покрытых волдырями ногах, не отставая от других мигрантов, глотать покрытую плесенью еду, когда тело обессилело от усталости, но прежде всего он учился защищать честь своего края. Уходя на рассвете из очередной деревни, мигранты всегда пели и визжали, словно на танцах в амбаре. Так они подбадривали себя и предупреждали местных жителей, чтобы те держались от них подальше. Иногда на дороге происходили жестокие драки, и о том, чем они закончились, быстро узнавали на всех дорогах миграции и в парижских колониях каменщиков. Молодой Надо часто слышал о таких схватках на деревенских посиделках. Поэтому, когда местные крестьяне дразнили их из-за живых изгородей, называя гусями и индюками, «я чувствовал больше любопытства, чем обиды… Самые отважные из нашего отряда подошли ближе друг к другу… и по их лицам было видно, что оскорбления не останутся безнаказанными».
На третий день в городе Сальбри мигрантов ждали жандармы, они сопровождали их до ночлежки. На четвертый день, проковыляв по камням и лужам угрюмой Солони, они увидели на противоположном берегу реки Луары башни Орлеанского собора. Отсюда они поедут в дилижансе.
Орлеан с его 40 тысячами жителей был самым большим городом, который когда-либо видели молодые каменщики. Старый рассказ о том, как крестьянин пришел в город Пуатье, но не увидел его, «потому что помешали дома», не показался бы им смешным. Они, должно быть, впервые увидели странное зрелище: толпа людей, из которых каждый идет по своему собственному делу и все движутся в разных направлениях. Это была часть нового мира, который каменщики помогали создавать. В Орлеане они увидели ободрившие их признаки строительного бума. В этом городе проектировщики сорок лет вели вой ну с прошлым. Уже исчезли средневековые ворота и крепостные стены, а вместе с ними – почти все следы Жанны д’Арк, спасительницы города. Новая улица Жанны д’Арк стерла с лица земли множество старинных построек, превратившихся в лачуги, но, по крайней мере, позволила людям видеть городской собор во всей его красоте.
Конторы транспортной компании, которая организовывала движение дилижансов, заполнялись мигрантами, ехавшими в Париж. Служащие в униформе морщили нос от запаха крестьян с юга. Дилижансов на всех никогда не хватало. Вместо обычных дилижансов мигрантов запихивали в крошечные двухколесные кареты, имевшие прозвище «кукушка», возможно, потому, что они были похожи на огромные часы с кукушкой. Эти «кукушки», которые имели и другое прозвище – «ночные горшки», были известны своими больными астмой лошадьми и склонностью кучеров к ядовитым насмешкам. Они так подпрыгивали на ухабах, что иногда пассажиры вываливались наружу. Большинство из этих опасных для жизни тесных клеток ездили по дорогам вблизи Парижа; их сборным местом была парижская площадь Согласия. «Кукушка» на таком долгом маршруте, как этот, была чем-то необычным. От Орлеана до Парижа было 75 миль; почтовый дилижанс в хороший день проезжал это расстояние за восемь часов. Но каменщики должны были ехать в этом рассыпавшемся от старости хитроумном устройстве с упрямым как осел кучером, который останавливался у каждой гостиницы, чтобы выпить, и не хотел ничего слышать, когда его торопили. Им повезет, если они выедут на рассвете и прибудут на место до темноты.
Как «мататус» в современной Кении, «кукушка» никогда не считалась полностью загруженной. Дополнительные пассажиры протискивались на сиденье водителя и цеплялись за заднюю стенку повозки. Первая категория получила прозвище «кролики», вторая – «обезьяны». Орлеанская «кукушка» была еще вместительнее: четыре молодых каменщика занимали места, которые можно назвать «салоном третьего класса», – плетеную корзину под кузовом, предназначенную для багажа.
С этого момента мигранты почти ничего не видели. Сквозь брызги грязи и щебня, страдая от морской болезни, эти люди-груз на протяжении более 2 миль пути могли только видеть, как мимо них движутся стены Орлеана. Потом дорога поднялась из долины Луары вверх – к маленькой деревне Монжуа и затем в Орлеанский лес. Они могли почувствовать запах поселка лесорубов в Серкоте, но, вероятно, не видели деревьев: на большом расстоянии от дороги лес вырубили, чтобы усложнить жизнь разбойникам.
После леса несколько часов тянулись лишь песчаные равнины и продуваемые ветром пшеничные поля бывшей провинции Бос. «Кукушка» с грохотом проехала по римской дороге от Санса до Шартра. Появились признаки богатства – ухоженный плодовый сад, широкая дорога, которая вела к замку. Каменщики проехали через Арпажон и Лонжюмо, чуть не оглохли от грохота колес в узком, как туннель, пространстве между стенами, потом миновали Антони и Со, куда сгоняли скот перед тем, как ввести его в город. Увидев ожидающего у дороги пассажира, кучера всегда кричали: «Еще один до Со!», потому что «до Со» по-французски pour Sceaux – «пур Со». Это звучит как «пурсо» (pourceau), что значит «боров» или «грязнуля», и получалось: «еще одна свинья». После Бур-ла-Рена с его гончарными мастерскими и Аркёя с его акведуком поверхность дороги стала лучше и движение на ней стало интенсивнее. В Монруже с дорогой из Орлеана соединились дороги из Версаля и с запада. Тяжелые кареты с сонными кучерами выезжали из Парижа в деревню.