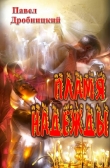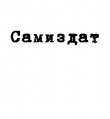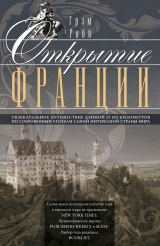
Текст книги "Открытие Франции. Увлекательное путешествие длиной 20 000 километров по сокровенным уголкам самой интересной страны мира"
Автор книги: Грэм Робб
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Сейчас нам кажется, что ларьки с сувенирами, туристские автобусы и целая армия неуклюжих водителей-новичков в домах-автоприцепах портят высокогорные перевалы Альп и Пиренеев, но все это – лишь бледная тень тех временных паломнических городков, которые когда-то возникали каждый год. Богородица из Эаса (Héas), безлюдного и унылого места в Пиренеях, когда-то привлекала к себе по 12 тысяч человек одновременно. Паломники приходили пешком, устраивались на время в зловонных лачугах, пили всю ночь и рассказывали истории про местную Богородицу и про то, как каменщики, строившие здесь часовню, питались молоком коз, которые загадочным образом вовремя убегали, чтобы каменщики их не съели. На рассвете служили мессу, и давка была такая, что помощник священника отгонял людей от алтаря палкой. В это время другая толпа паломников облепляла скалу, на которой Богородица явилась людям, и стучали по камню молотками, трудясь и грохоча, как кузнецы: они откалывали от скалы кусок, чтобы потом размолоть этот святой камень в порошок и проглотить, смешав со святой водой.
Было много попыток прекратить эти шумные вульгарные празднества. Если толпа благочестивых людей, собравшихся на праздник, могла бы целиком заполнить маленький город, она, разумеется, представляла угрозу для порядка. С 1798 по 1800 год полицейские и солдаты три раза приходили и закупоривали колодец святой Клотильды, который был выкопан на месте дольмена в Лез-Андели на Сене, потому что каждый год 2 июня в город врывалась «дикая орда» паломников, собравшихся со всей Нормандии. Они раздевались и соскальзывали в воду, но при этом не выпускали из рук свои корзины и зонтики, потому что святая Клотильда привлекала также и воров. После купания они выхватывали из костра горящие ветки, и некоторые получали сильные ожоги. Известны случаи, когда дети умирали после того, как падали в холодную воду целебного источника. Во время последней попытки закрыть святое место 2 тысячи купальщиков вооружились камнями и обратили солдат в бегство, а потом откупорили колодец и стали барахтаться в воде «с бешеными криками торжества».
Излечивались паломники от болезней или нет, но они в любом случае были жизненно необходимы для процветания и счастья многих местностей. На ярмарках бывали в основном мужчины, а на богомолье могла пойти вся община. Паломничество давало возможность обменяться новостями, увидеть другие места и отдохнуть. Отчасти именно поэтому жители Лурда всегда отправлялись лечиться у Девы Марии куда-нибудь еще. До появления велосипедов и железных дорог паломничество расширяло и объединяло в одно целое территории торговли, и, возможно, этим объясняется, что очень много Пресвятых Дев явились людям в местах, расположенных между территориями, сельское хозяйство которых отличалось по набору производимых продуктов. Как ярмарки помогали улучшить породу скота, так паломничество, которое некоторые наблюдатели грубо называли «оргиями», способствовало улучшению породы людей. Во время паломничества к святой Боме в Сент-Бом на юге Прованса жители каждой деревни устраивали в лесу отдельный лагерь и обороняли его, но влюбленные приходили на свидание по ночам, и репутация святой Бомы, специалистки по устройству браков, никогда серьезно не страдала.
Паломничество прежде всего было обрядовым походом, о котором человек потом вспоминал с гордостью. В той части Бургундии, где вырос Ретиф де ля Бретон, юноша, который никогда не бывал в Мон-Сен-Мишеле (до него было 300 миль), «считался трусом», а девушка, ни разу не посетившая гробницу святой Рэн (Регины), «казалась недостаточно скромной». Паломничество могло быть единственным долгим путешествием за всю жизнь человека. В Провансе в течение бесчисленных веков голые пустынные склоны многих гор были усеяны маленькими кучками из камней и принесенных по обету даров: так люди отмечали свою единственную в жизни дальнюю дорогу. Теперь большинство мест паломничества вычищены и аккуратно убраны, и почувствовать, какое пронзительное личное чувство было связано с этими дарами, легче всего на верхних склонах горы Мон-Венту. Через это похожее на лунный ландшафт место все лето едет поток полных спокойной радости велосипедистов. Они оставляют там бутылки с водой, камеры шин или камни в память об английском гонщике Томе Симпсоне, который не выдержал нагрузки и умер на этих склонах во время гонки «Тур де Франс» 1967 года. Футболка, которая была на нем в момент смерти, находится среди других реликвий в Арманьяке, в часовне, посвященной Богородице велосипедистов.
Приезжий, оказавшись в этой стране независимых святых и паломников, мог бы вполне обоснованно спросить: где же во всем этом церковь? Где же золотой век религии, когда смиренные крестьяне шли к священнику за руководством и спасением?
Любимый деревенский священник, главный персонаж художественной прозы романтиков, на самом деле был большой редкостью. Большинство людей считали, что человек в черной рясе должен быть полезным – так же, как врач, змеелов или ведьма. Он должен был охотно писать рекомендательные письма и не быть в них слишком точным, читать газету и разъяснять указы правительства. Он также должен был уметь привести в действие нужные нити в мире духов, влиять на погоду и излечивать людей и животных от бешенства. (Этим частично объясняется то, что Луи Пастера стали почитать почти как бога, когда он в 1885 году изобрел вакцину против бешенства.) Разумеется, священник оказывался в трудном положении. Если он откажется звонить в колокола, чтобы предотвратить град, он бесполезен; если зазвонит, а град все же посыплется, он бессилен. В 1874 году приходский священник деревни Бурньяк в Лимузене отказался присоединиться к «языческой» процессии, когда местные жители молились о хорошем урожае. Разумеется, пошел град, урожай пропал, и священника пришлось спасать от разгневанной толпы. Бедняку-издольщику, который был во главе этой толпы, поведение служителя церкви казалось лишенным всякого смысла: «Почему священник, который проповедует религию, пытается ее уничтожить?»
Если у священника было мало магической силы, его считали назойливым ворчуном, который лезет в чужие дела и портит людям удовольствие. Никто не мог хорошо относиться к чужаку, который пытается запретить людям отмечать праздники на кладбище, разговаривать и ходить по церкви во время обедни и приводить своих животных в церковь, чтобы они получили благословение. Знаменитый приходский священник из городка Ар Жан-Мари Виане (1786 – 1859), к которому стали ходить на богомолье, был единственным священником, который сумел отучить своих прихожан от танцев и выпивки. В 1925 году он был канонизирован католической церковью и стал святым покровителем приходских священников, но это не было типичным явлением. Большинство других священников, которые добились любви своих прихожан, завоевали их сердца тем, что заключили молчаливый компромисс с языческим миром. Поскольку священники по большей части были сыновьями ремесленников и крестьян, у многих из них были те же страхи и мечты, что у их паствы. В 1770-х годах священник из одного прихода возле города Ош возглашал перед мессой: «Чародеи и чародейки, колдуны и ведьмы, покиньте церковь: начинается Святая жертва!» При этом несколько человек из паствы вставали и уходили.
Никто не может точно сказать, что значила церковь для людей, которые жили в страхе перед злыми духами, ставили свечи своему святому и окропляли свои поля святой водой. Статистические карты духовной жизни Франции, кажется, показывают определенную стойкую закономерность. В 1790 году власти потребовали, чтобы священники дали присягу на верность конституции и признали, что они в первую очередь слуги государства. Больше половины всех приходских священников присягнули, но в некоторых местностях более трех четвертей отказались это сделать, вероятно при поддержке своей паствы. На тех территориях, где сопротивление было самым сильным, – запад Франции от Вандеи до Кальвадоса, север и северо-восток, южная часть Центрального массива и значительная часть юга, – через сто лет посещаемость церквей была самой высокой.
Однако это предположение не обязательно соответствует действительности. То, что человек просто пришел на службу в церковь, доказывало его религиозность тогда не больше, чем сегодня. В департаменте Вар на юго-востоке Прованса многие священники присягнули на верность правительству, и посещаемость церквей была низкой, но на народных праздниках было очень много людей и паломничество совершали тоже очень многие. В соседнем департаменте Нижние Альпы посещаемость церквей была высокая, но прихожане вели себя так, что лишь самый большой оптимист среди епископов мог бы истолковать их присутствие как признак преданности народа церкви. В 1759 году капеллан из Рибье угрожал своим прихожанам, что отлучит их от церкви, если они откажутся сотрудничать с полицией в расследовании преступления. Женщины-прихожанки ворвались в алтарь, сорвали со священника парик, разломали на части кресты, предназначенные для процессий, и избили его обломками. Они явно беспокоились не о своих бессмертных душах, а о том, как его священническая магия может повлиять на урожай. Не все акты насилия против служителей церкви были делом рук атеистов-революционеров.
Кажется, достоверно известно лишь одно: Франция была католической страной в том смысле, что не была страной протестантской. И даже эта характеристика не была такой четкой, как кажется[21]21
В середине XIX в. протестанты составляли примерно 22 процента населения Франции, то есть чуть больше 833 тысяч человек. Четыре пятых протестантского населения было сосредоточено в Эльзасе и вокруг Монбельяра (лютеране), в районе Нима и Западном Провансе и в узкой, похожей на полумесяц полосе от Монпелье до Ла-Рошели и Пуату (кальвинисты, иначе гугеноты). (Примеч. авт.)
[Закрыть]. Военные действия против протестантов в Севеннах после отмены Нантского эдикта (1685) имели некоторую поддержку в народе. Во время революции в Тулузе и Ниме были люди, которые верили, что Эдикт о терпимости (1787) и присяга на верность конституции (1790 – 1791) – часть протестантского заговора. Через пятьдесят лет после этого в Ниме и Монпелье, в основном среди буржуазии, следы старой религиозной вражды проявлялись в том, кому из политиков человек хранил верность, в какой части города жил и из какой семьи мужчина выбирал себе жену или женщина мужа. Но немало было и проявлений веротерпимости или равнодушия к религии. В начале 1800-х годов священники в Перигоре и Борделе были очень огорчены, обнаружив «взаимную любовь» между католиками и протестантами. В Эльзасе еще в 1860-х годах действовали «смешанные» церкви, где хоры предназначались для католиков и закрывались занавесом или решеткой во время протестантского богослужения. В Оверни, Лимузене и Перигоре некоторые общины за одну ночь в полном составе перешли в протестантизм, когда католическая церковь сделалась слишком требовательной, начала навязчиво вмешиваться в их дела и стала обходиться им слишком дорого.
В истории гонений за веру есть особые даты и памятные эпизоды. Следы веротерпимости найти труднее, если не считать случайные наблюдения посторонних людей. В 1878 году в дни преследования протестантов Роберт Льюис Стивенсон со своим ослом вошел в пограничный городок Флорак (департамент Лозер). Приехав из страны, где часто учинялось насилие по религиозным причинам, он посчитал местное сочетание долгой памяти с веротерпимостью замечательным:
«Я заметил, что протестанты и католики очень легко общаются друг с другом, и был очень удивлен, когда увидел, как жива здесь до сих пор память о религиозной войне…
Позже в тот же день один из протестантских пасторов был так добр, что зашел ко мне. Он сказал мне, что часть Флорака протестантская, а часть католическая и что различие в вере обычно подкрепляется различием политических взглядов. Можете себе представить мое удивление… когда я узнал, что горожане очень мирно живут рядом друг с другом и даже бывает, что разделенные этими двумя преградами семьи оказывают одна другой взаимное гостеприимство… Они рубили и стреляли, жгли, грабили и убивали, их сердца пылали от гнева; и вот через 170 лет протестанты по-прежнему протестанты, католики по-прежнему католики, но терпимо относятся друг к другу и живут между собой тихо и мирно».
Многие миссионеры, которые начинали «заново обращать в христианство» население Франции в начале Средних веков или в начале XX века, не подразумевали автоматически, что Франция – христианская страна. Религия, известная под названием «друидизм», или, по меньшей мере, ее «официальная» разновидность была уничтожена римлянами. Но похоже, что «языческие» боги маленьких сельских краев продолжали существовать почти так же, как раньше. (Не зря латинское слово paganus – «язычник» первоначально означало «сельский житель» и образовано от слова «pagus» – «деревня» или «сельский округ», того самого, от которого произошло слово «край» – «pays».) Даже для жителей Бретани, которая считалась опорой католицизма, церковь была важна примерно в том смысле, в каком торговый центр важен для покупателей. Потребителей не очень интересует создатель и владелец торгового центра, их интересуют продавцы. Так и верующие приходили увидеть святых, которые продавали свои услуги в маленьких часовнях вокруг нефа. В XIX веке народ по-прежнему провозглашал новых святых, не обращая никакого внимания на догматы церкви. Это были долго страдавшая от мужа женщина, труп которой хорошо сохранился; жертва шуанского восстания – человек, который отправился на задание, зная, что оно означает для него смерть, и погиб; волосатый отшельник, живший внутри дерева, и даже несколько популярных священников – на их могильные плиты клали больных детей. Даже в более близкие к нам времена разрушенная доисторическая погребальная камера в лесу Пемпон в Бретани, которую рекламировали туристам как «гробницу Мерлина», стала предметом религиозного поклонения. Люди постоянно кладут вокруг этой гробницы листки бумаги с молитвами «чародею Мерлину» или вставляют их в трещину в камне.
Эти верования росли и процветали на учении официальной церкви, как омела на дубе. У них не было своих религиозных учреждений, но они представляли собой достаточно целостную и логичную систему, и потому их можно назвать формой религии. Эта безымянная вера, которая существовала во всей Франции и в значительной части Западной Европы, заимствовала некоторые элементы христианства, но почти ничего не взяла из его моральных и богословских основ и изменила иерархический порядок святых существ.
Дева Мария в этой вере всегда была выше Бога, а Бог и Его сын не предлагали людям ни искупления грехов, ни прощения. Было известно, что Бог уничтожал города и устраивал крупные катастрофы на дорогах лишь для того, чтобы достичь Своей цели. Он был не более популярен, чем епископ. В 1872 году в Шартре женщина оказалась на пути церковной процессии. Ее попросили отойти в сторону «ради Бога». Она ответила: «Вот еще! Я пришла сюда не ради Него, а ради нее» – и указала на Богородицу.
Дьявол был почти таким же могущественным, как Бог, и гораздо более сговорчивым. Не все из сорока девяти Чертовых мостов Франции были названы так потому, что внушали адский страх. Любой счастливый случай – если человек нашел в земле клад, если ему досталось наследство, если его скот не погиб во время эпидемии и также если упавшая скала удобно для людей легла между берегами реки и стала мостом, – вероятно, был делом дьявола. Несмотря на свое могущество, дьявол, который обычно имел облик дворянина или богатого фермера, был известен своей доверчивостью; иногда люди с помощью хитрости заставляли его построить церковь или аббатство. Большинство мостов он строил, договорившись, что получит за это душу первого, кто пройдет по мосту, но его надувают – подсовывают ему кошку.
Иисус Христос играл относительно малую роль. Не в таком уж далеком прошлом он ходил по земле и давал людям практические советы. Было известно, что он жил как нищий, и этим объяснялись его выносливость и сообразительность. В якобы евангельских историях, которые рассказывались так, словно произошли где-то рядом, Иисус старается вбить немного ума в тупую голову своего неразлучного приятеля, святого Петра, такими словами: «Что ты за дурак! Никогда не болтай на ярмарке о недостатках скотины, пока не продашь ее и не получишь деньги!»
Бог, дьявол и Иисус, так же как Гаргантюа и фея Мелюзина, были главными героями народных рассказов, которые часто можно было услышать в недавнем прошлом. Эти рассказы были главным развлечением на veillées и chambrées – «посиделках» и «беседах», неформальных встречах, когда односельчане собирались вместе и начинали рассказывать истории о существах из потустороннего мира, чтобы пугать друг друга или чтобы прогнать страх перед ночью. В их рассказах появлялись небесная охота, которая со странным криком проносится над головами людей в вечернем небе, волки-оборотни, Чертова корова, «вуивр» (vouivre) – летающая змея с карбункулом вместо глаза, «люпё» (lupeux) – искривленное существо, похожее на сучковатую ветку, которое часто видели сидящим на кривом стволе дерева, рогатые мужчины, которые крали человеческих девушек потому, что рогатых женщин нет, водяные духи, которые рвали сети рыбаков, безвредные зеленые люди и, конечно, Жеводанский зверь[22]22
Жеводанский зверь – прозвище необыкновенно свирепого и отважного волка, он бродил по малонаселенной территории примерно 900 квадратных миль, убил по меньшей мере двадцать человек за два года (1764 – 1765) и два раза стал причиной паломничества. Теперь этот зверь вносит большой вклад в туристическую отрасль экономики юга Оверни. Именно из-за него в Жеводан вновь завезли волков, но, конечно, держат их под контролем. (Примеч. авт.)
[Закрыть], который действительно существовал.
Главная разница между христианскими персонажами и языческими феями была в том, что люди, как правило, ждали возвращения фей в следующем веке или когда перестанет существовать христианство.
Эти легендарные или полулегендарные персонажи заметно уступали святым и по численности, и по своим возможностям. Святые, в отличие от Бога и фей, были частью повседневной жизни. На своей земле святой был сильнее Бога. Приходский священник из Этапля возле Ле-Турке писал своему епископу о местном святом чудотворце: «В Этапле есть два «господа наших» – настоящий Господь и святой Жос. И я совсем не уверен, что святой Жос не главный из двоих».
Выбирая себе святого, люди руководствовались его отличительным признаком или именем. Святого Антония часто изображали со свиньей – символом чревоугодия, и это сделало его популярным у свинопасов. Иоанн Креститель держал в руках ягненка – Агнца Божьего и потому был любимым святым пастухов. Святой Писсу излечивал инфекции мочевой системы, святой Бавар («болтливый») помогал немым, а святой Клер («ясный») – близоруким. Если не было подходящего имени, создавали нового святого: святой Сурдо («сур» (sourd) по-французски «глухой») заботился о глухих, святой Плурадо[23]23
Святой Плурадо – имя, вероятно, образовано от диалектного варианта слова «плёрар» (pleurard – «плакса»). (Примеч. пер.)
[Закрыть] успокаивал плачущих детей, святой Секвер (первый слог звучит как слово «сек» – «сухой») делал так, чтобы враги просителя исхудали и умерли. В Нормандии верили, что произнесение тех молитв, которые читают во время службы в День Всех Святых, по-французски называемый «Туссен» (Toussaint), полезно для больных простудой, потому что «Туссен» похоже на «туссе» (tousser), что значит «кашлять».
Огромным преимуществом святых было то, что они действительно существовали в материальном мире. Некоторых из них до сих пор можно увидеть в церквях, где на них часто смотрят зрители двух типов – прихожанин или паломник, который общается с реальным существом, и турист, который смотрит на произведение религиозного искусства. Святой не был ни богословским понятием, ни художественным произведением. Статуя или статуэтка – это и был святой. Вот почему люди так горевали, когда их приходский священник заменял грязный бесформенный, а иногда частично обуглившийся кусок дерева сияющим новым святым, только что изготовленным на фабрике. Новый святой Эгюльф в соборе города Брюск возле Грасса (христианизированный языческий бог, который мог вызывать дождь; те, кто шел к нему помолиться, всегда несли с собой при этом зонт) имел золотой епископский посох, плащ и лилию, розовый цвет лица и был совершенно бесполезен. Известно, что новая Черная Богородица в Ле-Пюи-ан-Веле совершила меньше чудес, чем прежняя, хотя прежняя оказалась статуей Исиды, привезенной из Крестового похода.
Вполне логично, что жизнь святого определялась тем, из чего было сделано его изображение. Некий святой Грелюшон начал жизнь в качестве памятника на могиле знатного дворянина в Бурбон-л’Аршамбо. (Другие Грелюшоны, или Герлишоны, – от слова, означающего пенис маленького мальчика, – были популярны в Берри и Бурбоне.) Бесплодные женщины соскребали немного пыли с его гениталий и выпивали ее с небольшим количеством белого вина. Более решительные женщины, желавшие родить близнецов, приходили к нему с рашпилями и ножами. Когда гениталии закончились, просительницы начали скрести его подбородок, и в 1880 году, когда святого поместили в местный музей, он был всего лишь изуродованным бюстом. Одну из служащих музея позже уволили за то, что она скребла его новый подбородок.
Святые чудесным образом исцеляли больных, но их надо было иногда упросить, а иногда припугнуть, как ленивых слуг. По словам Эрнеста Ренана, молитва святому Иву в Трегье звучала как вызов: «Ты был справедливым человеком, когда был жив. Докажи мне, что ты до сих пор справедлив». После такой молитвы человек «мог быть уверен, что его враг умрет в течение года». Отца Ренана в детстве однажды привели в часовню святого, который исцелял от лихорадки.
Пришел также кузнец с горном, гвоздями и щипцами. Он зажег горн, нагрел щипцы и поднес раскаленную подкову к лицу святого, сказав при этом: «Забери прочь лихорадку от этого ребенка, или я подкую тебя, как лошадь». Святой немедленно выполнил то, что ему велели.
Если святой отказывался сотрудничать с людьми, его следовало наказать. В Одиомоне, когда виноградные лозы замерзли в День святого Урбана (25 мая), статую этого святого протащили через крапиву, которая росла вокруг церкви. Жители Музона в Арденнах, когда филоксера уничтожила их виноградные лозы, бросили статую своего святого в реку Мёз. Даже в некоторых монашеских общинах унижали святых, если тем не удавалось исполнить молитву. В 1887 году в монастыре одного крупного провансальского города посетитель заметил, что статуя святого Иосифа стоит лицом к стене. Ему объяснили, что святой Иосиф «отбывает покаяние» за то, что не убедил одного землевладельца, чтобы тот в завещании оставил монастырю некий участок земли. Если он снова не справится с этим, его отнесут в погреб и будут пороть.
С Девой Марией из Лурда никогда так не обращались, но даже она должна была пройти проверку. Во время ее второго явления Бернадетта плескала в нее святой водой, пока бутылка не опустела, говоря при этом: «Если ты пришла от Бога – оставайся, если нет – уходи». Поскольку Богоматерь появилась высоко на стене пещеры, это было не легкое обрядовое окропление, но вполне разумный эксперимент, проведенный девочкой, жившей в мире, где духи были так же реальны, как полицейские, священники и сборщики долгов.
Почитавшие святых язычники не умерли все в один момент, не исчезли, как феи. Они превратились в жителей современной Франции. Стоит вспомнить, что в XIX веке католическая церковь всегда становилась на сторону авторитарных режимов, а правительства, которые, как предполагают, превратили Францию в светскую страну, были избраны демократически. Эти правительства были представителями людей, чьи интересы и заботы были по большей части практическими, а верования имели более прочные корни в реальной жизни, чем увлечение высших слоев общества месмеризмом, астрологией и досками Уиджа, предназначенными для спиритических сеансов.
Жизненный опыт доказывал этим людям, что молитвы не действуют на физический мир. Болезнь была реальностью, и против нее нужно было реальное лекарство. Взгляды, на которых были основаны «чудесные» исцеления, лучше подготавливали умы к эпохе научного мышления, чем отвлеченные построения теологии, которые были непонятны для многих священников, особенно приходских. Люди верили, что у всего есть причина, которая или известна, или может быть узнана. Даже приходский священник всегда имел дело с физическим воздействием или реальным веществом. Вот почему знахари и их пациенты так легко приспособились к новому миру научной медицины и почему образование так легко уничтожило неверные представления народа, но не бросило его в пропасть религиозного сомнения. Разница между теми поколениями, которые глотали пыль святых, и теми, которые ходили к квалифицированному врачу, была не в умственных способностях, а в информированности.
Конечно, можно было бы составить бесконечный список смешных верований. Многие думали, что больные люди не должны носить чистую одежду и что вши помогают детям расти. В Бретани ежей сжигали заживо, поскольку верили, что они высасывают молоко у коров и едят уток. Повсеместно приносили в жертву животных, чтобы вылечить человека от болезни, а это доказывает, что магическими лекарствами пользовались не только бедняки. В конце XIX века в некоторых семьях из высших слоев общества еще пытались лечить воспаление легких народным способом: разрезали живого белого голубя и клали еще трепещущие половины птицы на грудь пациента. Жестокость к людям встречалась так же часто. Вера в магию часто становилась предлогом для преследования чужаков и чудаков. После 1862 года уже не было сообщений о сожженных ведьмах, но были попытки преследовать людей за то, что они будто бы сглазили скот, который стал от этого чахнуть. Кроме того, сочетание нищеты и невежества было золотой жилой для мошенников. Торговец-разносчик мог скопить целое состояние, продавая бесполезные секреты – например, как найти волшебную светящуюся траву, владельца которой никто никогда не сможет обмануть.
Однако в «магии» было больше смысла, чем видят глаза образованного человека. К 1876 году во Франции был один врач на 2700 человек, но большинству врачей надо было платить деньгами, а не продуктами, и лекарства стоили дорого. Многие больные звали врача только в качестве последнего средства, и это укрепляло веру в то, что доктора приносят смерть. При таких обстоятельствах доверчивость обладала целебной силой. Некоторые приемы народной медицины явно имели полезный психосоматический эффект. Два ученых, которые сейчас составляют полный список народных лекарств, применяемых во Франции в XIX веке, полагают, что он составит от 20 до 30 тысяч различных снадобий. Самые смертоносные яды были устранены методом исключения, а некоторые из лекарств обязательно должны были оказаться либо эффективными, либо настолько безвредными, что желающий верить в чудо исцеления имел для этого все основания. Более жестокие способы лечения, – например, парализованному человеку скребли рот бритвой и потом натирали солью, – по крайней мере, искоренили симулянтов и ипохондриков.
Вера в магию не всегда была ошибкой даже по стандартам науки. В Оверни были знахари, которые назывались rabouteurs («костоправы») или metzes («врачи» или «волшебники»). Они отлично разбирались в основах медицины и могли лечить ожоги, извлекать пули и останавливать кровотечение (это часто приходилось делать во время обрезки виноградных лоз). Некоторые из них умели определять болезнь по моче больного. В отличие от большинства врачей они не всегда просили плату за свои услуги. Многие из этих знахарей были также кузнецами – а ремесло кузнеца традиционно считалось связанным с магией – и содержали что-то вроде клиники для беременных женщин. Некоторые женщины меньше страдали от боли при родах, если во время беременности постоянно приходили в кузницу и какое-то время лежали на дрожащей наковальне, а рядом кузнец взмахивал молотом и в воздухе летали искры. Таким образом испуганные, страдавшие неврозом пациентки избавлялись от губительных проклятий и на время оказывались в центре внимания. Даже в конце XIX века 8 тысяч людей в год приезжали на железнодорожную станцию Омон, к дорожному рабочему из городка Несбиналь, совершавшему в свободное от работы время чудесные исцеления.
Французская история, как только сходишь с ее шумных и залитых кровью главных дорог, оказывается неожиданно спокойной, основанной на компромиссах и терпимости, а не на страхе и ненависти. Священники вели паломников к галло-римским святыням, прихожане исполняли языческие обряды на глазах у сельского священника. Самые известные эпизоды истории религии во Франции полны крови и насилия – Варфоломеевская ночь, разрушение западного фасада Нотр-Дама, казнь священников на гильотине и удаление слова «святой» со всех улиц и из всех городов Франции. Но есть и тысячи других картин, слишком странных и не похожих на наше время, чтобы их можно было легко запомнить, и они-то дают более верное представление о недавнем языческом прошлом: в Клермон-д’Эксидёй (департамент Дордонь) молодая мать прижимает к груди мягкий сыр, пока приходский священник читает отрывок из Евангелия, а потом оставляет священнику этот сыр в уплату; в Дарнаке, в провинции Лимузен, больные ревматизмом паломники бросают мячи из шерсти в святого, который стоит внутри железной клетки, и стараются попасть в то место его тела, которое у них самих страдает от ревматизма, а потом дарнакский священник собирает эту шерсть и вяжет себе теплую одежду к зиме.
Устойчивые изменения в мире святых и фей начались, когда люди перестали быть беззащитными жителями маленьких изолированных миров, где неизвестные существа жили своей собственной сложной жизнью. Главный символ превращения Франции в светскую страну – не операционная врача и не урна для голосования, а ровные, как ряды мегалитов, широкие автомобильные дороги, которые проходят мимо городов и деревень и позволяют лишь мельком увидеть летящий над пейзажем шпиль собора. Новые дороги, предназначенные для высоких скоростей, стерли с лица земли языческих духов и уничтожили знание о местах, где они жили. Сами эти места существуют до сих пор, и, когда маленькая дорога, указанная на карте, оказывается тропинкой, а небо бросает вызов прогнозу погоды, нужна вера, чтобы считать, что их священные обитатели никогда не существовали.