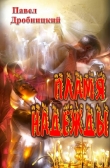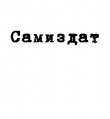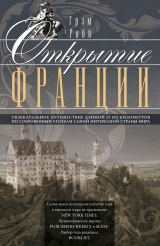
Текст книги "Открытие Франции. Увлекательное путешествие длиной 20 000 километров по сокровенным уголкам самой интересной страны мира"
Автор книги: Грэм Робб
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
8. Мигранты и сезонные рабочие

Даже через три или четыре десятилетия после революции 1789 года пустые территории и молчащие города, с рассказа о которых началась эта книга, видимо, оставались нормой. Возвращаясь из Мадрида в Париж в 1826 году, экономист Адольф Бланки проезжал через города, в которых жизнь «или увядала от недостатка движущих сил, или фактически двигалась назад». В Ангулеме – жалкая крошечная речушка, по которой могут двигаться только маленькие лодки; в Пуатье – кривые средневековые улицы, в Туре монастырей и семинарий больше, чем фабрик. Настоящие признаки жизни, по мнению Бланки, были «в центре, под которым я имею в виду Париж, и в нескольких точках по периметру» – в Руане, Бордо и Марселе. Все остальные города были похожи на системы крошечных астероидов в начале существования Вселенной.
«В Блуа так же, как во многих других городах… либо никто не сдвигается с места, либо люди ощущают необходимость вращаться вокруг планеты, присланной из Парижа. Сельский полицейский вращается вокруг мэра, тот вращается вокруг супрефекта, а супрефект – вокруг префекта. И у каждого из этих разнообразных небесных тел есть значительное число спутников. В результате получается однообразие, которое с трудом может понять человек, привыкший к парижской жизни».
Во второй части этой книги будут описаны формы жизни, более похожие на современные. Города Франции придут в движение. Появление обязательного образования, капиталовложений в промышленность, каналов, железнодорожных линий и дорог, которые пригодны для проезда большую часть года, привело к таким сильным изменениям, что прежняя Франция по контрасту с новой кажется почти неподвижной страной заросших грязью деревень и не отмеченных на карте просторов, словно созданных для того, чтобы администраторы, врачи, учителя и любители лезть в чужие дела прорубили себе путь через густой лес и освободили ее от древнего заклятия. Скоро горожане с трудом будут верить, что было время, когда буржуа почти не двигались со своих мест, будто врастали в землю своих городов, и сидели за стенами своих домов, «как Робинзон Крузо на своем острове», а значительное число крестьян и рабочих передвигались по стране.
В нашем пути по не нанесенной на карты стране мы уже видели некоторых из того многочисленного меньшинства населения, которое бродило по ней, неутомимых паломников, странствующих торговцев, нищих и бандитов. Но гораздо больше было тех, кто остался невидимым. Их перемещения трудно обнаружить с помощью средств, разработанных для более позднего мира, когда все пути вели в Париж, торговля пользовалась дорогами, которые можно найти на картах, и почти никто не путешествовал без билета.
Стоять у главной дороги и ждать, пока эти мигранты и пригородные пассажиры появятся на ней в удобном для статистики виде, было бы долгим и безрезультатным занятием. Лучше использовать как исходную точку те неожиданности, которые обычно случаются в жизни путешественника, – особенно неожиданности, которые кажутся необъяснимыми или неважными. Особенно ярко вспоминаются два факта. Первый из них имеет отношение к любопытному сходству между путешествиями до XIX века и сюжетами тогдашних романов.
Рассмотрим лишь один из многих примеров. Осенью 1834 года искусствовед Огюст Жал сидел рядом со своей женой в дилижансе, который, подпрыгивая и раскачиваясь, катился вниз по долине Роны к Марселю. Шел дождь, но летняя засуха только что закончилась, и уровень воды в реке оставался слишком низким для парохода, который был бы быстрее и удобнее, чем дилижанс. Кроме супругов, в дилижансе ехали в тесноте еще пять человек: член Марсельской академии, парижский адвокат и два его молодых друга, которые ехали в тулонские доки, и простоватый торговец шелковыми тканями, который «с 11 по 13 октября – время необходимое, чтобы доехать от Лиона до Марселя, – немного чаще, чем надо бы, возвращался в разговоре к своей любимой теме – чану, в котором окрашивают шарфы». Значительную часть пути дорога была пуста, если не считать «нескольких крестьянских телег, которые тянули бык или корова в лошадиной сбруе».
В Оранже Жал пришел в ужас, увидев, как неумело там восстановлена римская арка. Он записал в дневник, упоминая нового правительственного инспектора исторических памятников Проспера Мериме и известного эрудита, историка и критика Клода Фориеля: «Какого мнения был об этом г-н Проспер Мериме, который только что обогнал нас в почтовой карете, болтая с г-ном Фориелем?»
Значение этой обычной встречи именно в ее обыденности. Жала не удивило то, что он увидел два знакомых лица в окне проезжавшей мимо него кареты в 450 милях от Парижа. Он упомянул об этом лишь случайно, потому что думал о памятниках прошлого. Совпадения, которые писатели-романисты придумывали, чтобы связать части сюжетов или сюжетных линий, не всегда казались невероятными первым читателям романов: они являлись частью их жизни. Мир обычного крестьянина редко был шире 12 миль в диаметре, что равно по площади примерно двум Парижам XIX века, но и мир богатого путешественника, по сути дела, был не больше. Маршруты крестьянина – это круги, расходившиеся в разные стороны из одной точки. Буржуа, если бы вообще передвигался, ездил, вероятно, по прямым коридорам с четкими границами. Пожелай он исчезнуть, ему достаточно было бы просто покинуть эту систему коридоров и скрыться в другом измерении.
Второй факт дорожной жизни объяснить труднее. Задолго до появления железных дорог и современного телеграфа новости о важных событиях разлетались по стране с поразительной быстротой. Обычная скорость распространения потрясающей новости, проделавшей более 100 миль, – от 4 до 7 миль в час. В Гавре услышали о взятии Бастилии (которое произошло в конце дня 14 июля 1789 года) рано утром 17 июля. До Бреста, который находится на узкой оконечности полуострова Бретань, из Парижа надо было скакать на коне 54 часа. А с увеличением расстояния средняя скорость езды резко падала даже на почтовых дорогах, где уставших лошадей и их всадников сменяли новые. Город Безье – от него до Парижа было 520 миль по почтовым дорогам – узнал о взятии Бастили почти через семь дней (средняя скорость меньше 4 миль в час). Небольшие по размерам города могли быть ближе к столице в пространстве, но дальше по времени, если только какой-нибудь местный житель случайно не привозил туда новость. Жители города Витто в области Оксуа к востоку от Дижона, 165 миль от Парижа, узнали о Бастилии от городского портного, который ехал без остановки два дня и две ночи со средней скоростью 3 1/2 мили в час. Даже нанятые группами торговцев гонцы, которые передвигались с высокой скоростью, на больших расстояниях достигали лишь средней скорости 7 миль в час.
Несмотря на это, есть несколько хорошо подтвержденных свидетельствами случаев, когда скорость распространения новости была гораздо больше. Когда королевская семья была арестована в городе Варенн в Аргонах, в семь часов утра 24 июня 1791 года об этом уже знали в Кемпере, на другом конце Франции. По почтовым дорогам от Варенна до Кемпера 540 миль; значит, новость мчалась до этого дальнего, с плохим обслуживанием угла Франции со средней скоростью почти 11 миль в час, и эта скорость не менялась два дня и две ночи. Даже новость о битве при Ватерлоо, которую принесли бежавшие солдаты, была медленнее. А ведь молодой Александр Дюма в Вилле-Котре считал их скорость – полторы лиги (чуть больше 4 миль) в час необыкновенно высокой: «Кажется, что у этих посланцев несчастья есть крылья».
Величайший в XIX веке специалист по сплетням и доиндустриальным средствам связи Оноре де Бальзак предполагал, что слухи могут распространяться со скоростью 9 миль в час. В отрывке из «Маранов» Бальзака, который процитирован ниже, речь идет о сонном островке провинции в центре Парижа; тишину этого квартала до середины XIX века охраняли подъемные мосты.
«Не спрашивайте, где находится тот таинственный телеграф, который мгновенно – глазом мигнуть не успеешь – сообщает всем городам одновременно о какой-нибудь истории, скандале или новости. Не спрашивайте, кто приводит в движение этот телеграф. Наблюдатель может лишь заметить признаки его работы. Этот телеграф – загадка общественной жизни. Можно привести несколько невероятных примеров его действия, но достаточно лишь одного: когда герцог де Берри был убит в Опере (в 1820 году), о его убийстве уже через десять минут сообщили в глубине острова Сен-Луи».
Эти скорости были практически недостижимы на больших расстояниях для обычного транспорта. До середины XIX века скорость выше 10 миль в час при большом расстоянии обычно означала применение какого-то средства дальней связи, например голубей, которых некоторые биржевые спекулянты использовали, чтобы сообщать цены акций, или глашатаев, которые криком передавали от одного к другому сообщение о победе Цезаря возле Ценабума (нынешнего Орлеана) до страны племени арвернов, на расстояние 150 миль, со скоростью более 12 миль в час. (Эксперимент, проведенный в XIX веке, показал, что для передачи сообщения из Орлеана до границ Оверни нужны всего лишь 352 человека.)
Имея неисчерпаемый источник данных, можно найти логическое объяснение необычно высоким скоростям. Чтобы привезти новость об аресте короля в Кемпер, всадник был должен выехать из Парижа – как только новость добралась туда из Варенна, где остановили королевскую карету, и скакать две ночи без перерыва, или его сменяли другие всадники, скакавшие ночью. Можно предположить, что в этот раз все дороги каким-то образом оказались удобны для проезда и на всех станциях были сытые и оседланные сменные лошади, причем не маленькие лошадки бретонских пород.
Это не выходит за границы возможного. По-настоящему удивительная особенность распространения новостей – непредсказуемость, никак не связанная ни с одной известной сетью путей сообщения. В 1932 году Жорж Лефевр изучал распространение «Великого страха», охватившего две трети страны в конце июля – начале августа 1789 года. Революция породила в пяти или шести разных местах слухи о том, что в страну вторглись иностранные войска и бандиты, которым жаждавшие мести аристократы заплатили, чтобы те уничтожили урожай. Началась такая паника, что вполне разумный человек мог принять и действительно принял стадо коров за банду грабителей-головорезов. Когда Лефевр нанес на карту пути распространения всех этих слухов, он обнажил артерии гигантской муравьиной сети, о существовании которой раньше никто не подозревал.
Похоже, что карты распространения «Великого страха» позволили увидеть систему сообщения, которая, как ни странно, не была связана ни с какой инфраструктурой. В сети распространения слухов не играли никакой роли ни Париж, ни естественные пути, такие как долины Роны и Гаронны. Даже система дорог не имела к ней отношения. На холмах Лангедока один и тот же слух в один и тот же день стал известен в местах, которые находились на расстоянии 20 миль одно от другого и не были связаны дорогой. «Великий страх» мчался по Вандее и Нормандии, по Пикардии и Шампани с одинаковой необъяснимо огромной скоростью. Начинались бунты, несколько замков были сожжены до основания. Покинув район города Труа, слухи не двинулись вдоль реки Соны, а проникли во Франш-Конте через горы Юры. Веркор, расположенный на высоком плато, будто затерянный мир, и бывший белым пятном на карте миграции, вдруг оказался активно связан с внешним миром.
Высота замедляла, но не прекращала распространение слухов. Центральный массив – высокие горы, их обходили стороной странствующие подмастерья, короли и ездившие по стране театральные труппы, Наполеон Бонапарт и несколько эпидемий, а до 1951 года объезжали и велосипедисты гонки «Тур де Франс». Но слухи проникали в эти горы с севера, востока и запада. Слух о том, что король Сардинский начал вторжение во Францию, за один день покинул Бриансон, поднялся на перевал Коль-д’Изоар, на высоту 8 тысяч футов, пронесся по Кейра и Юбе, потом спикировал вниз, в средиземноморский Прованс и, что невероятно, проник дальше на запад, перелетая через тесные ущелья с отвесными стенами. Слухи угасали, только когда против них объединялись две силы – малочисленность населения и труднопроходимая местность. (Так было на плато Мильваш, в некоторых самых высоких массивах Альп, в Солони, Домбе и Ландах.)
Эта загадочная своей эффективностью сеть продолжала действовать и после падения Наполеона. В 1816 году пошли слухи, что свергнутый император бежал с острова Святой Елены и вернулся в Париж. Один из этих слухов возник – кажется, одновременно – в Немюре и некоторых местностях Бургундии и Бурбоне. Разумеется, власти предположили, что это был умело организованный заговор. Провокаторы работали активно, но этот случай не обязательно был делом их рук. Новость, которая не двигалась из точки А в точку Б, а растекалась как пятно, могла распространиться на большие расстояния за очень короткое время. До маленького рыночного города Шарлье, который находится среди холмов между Форезом и Божоле, слухи доходили из нескольких источников, расположенных далеко один от другого (об этом было сказано на собрании горожан 28 июля 1789 года). Получается, что слух мог охватить район площадью 3 тысячи квадратных миль. В том районе, о котором шла речь, жители говорили на пяти или шести главных диалектах, принадлежавших ко всем трем главным языковым группам французских наречий, но ни один голубь, конь или локомотив не смог бы нести новость так быстро.
Частичное объяснение этим совпадениям и связям можно найти, проследив за некоторыми из тысяч странствующих рабочих, которые бродили по Французской земле.
Та сторона их мира, которая сейчас так бросается в глаза своей экзотичностью, была официально открыта и описана лишь в начале XIX века. Когда статистики Наполеона впервые осмотрели самый западный департамент Бретани, Финистер, они с изумлением увидели, что почти пятая часть его территории занята «тропами и проселочными дорогами» – колеи, тропы, дороги для телег и большие полосы утоптанной земли пропали для сельского хозяйства и часто не могли быть использованы даже как тропы. Позднейшие исследования подтвердили эту невероятную цифру. Финистер был крайним случаем, но многие другие департаменты тоже оказались изрезаны тропами. «Малые дороги» занимали 12 процентов площади в Нижнем Рейне, 4 процента во Вьенне, 3 процента в департаменте Нор, чуть меньше 2 процентов в Верхней Марне и 1,4 процента в Па-де-Кале. В некоторых местах Франции это можно увидеть и сейчас. Из множества когда-то существовавших дорог из Бове в Амьен шесть существуют до сих пор. Иногда они проходят так близко одна от другой, что человек с одной дороги может помахать рукой человеку, который находится на другой.
Огромное несоответствие между едва заметным движением на главных дорогах и количеством товаров, попадавших на рынки и в порты, заставляет предположить, что в начале XIX века три четверти всех товаров доставлялись по этой всеохватывающей сети. Именно по этой системе хрупких капилляров двигались слухи и новости. Многие из этих троп не смог бы увидеть даже тот, кто стоял на них. Французское слово route («рут») может означать и «маршрут» и «дорога», и такая многозначность позволяет легко принять один вид пути за другой. Некоторые пути, обозначенные этим словом, например тропы контрабандистов в Бретани и Стране Басков, были лишь передававшейся от отцов детям памятью о том, по каким местам следует идти. Луг без особых примет на высоком плато в Провансе, где посторонний человек не увидел бы ничего, кроме травы, мог быть важным перекрестком европейских путей и связывал между собой Альпы, Средиземноморье, долину Роны и Северную Италию. Когда Роберт Льюис Стивенсон в 1878 году устало плелся по Севеннам от Ле-Монастье до Сен-Жан-дю-Гар, ему казалось, что он находится за 100 миль от цивилизации.
«Моя дорога шла по одному из самых убогих краев в мире. Он был похож на самые худшие места горной Шотландии, только еще хуже – холодный, голый, гнусный край, где мало вереска, где мало жизни. Лишь дорога и несколько заборов нарушали неизменную пустоту; вдоль дороги стояли столбы, отмечавшие ее в снежное время».
На самом деле значительная часть Тропы Стивенсона, как теперь называют его маршрут, совпадает с дорогой длиной 140 миль, часть которой носит название «дорога Регордан» (происхождение названия неизвестно). Это был один из главных путей с севера на юг; он появился еще до возникновения человека, в те времена, когда вдоль линии сброса возникла цепочка перевалов, которые связали Центральный массив со Средиземным морем. В середине XVIII века сто погонщиков регулярно вели по «дороге Регордан» вереницы мулов, которые, звеня и бренча, везли металлы и различное сырье вниз, в находившийся в глубине страны порт Сен-Жиль, или возвращались обратно, нагруженные корзинами и мехами из козьих шкур с товарами для Оверни и для главной дороги, которая вела в Париж. В некоторых из этих затерянных в глуши горных городков Стивенсон мог бы купить вино, оливковое масло, соленую рыбу, миндаль, апельсины, инжир и изюм, не говоря уже о соли, мыле, бумаге и подходящем вьючном седле для своего осла.
На самом деле Стивенсон видел достаточно осовремененную часть Оверни. Он мог платить за вещи деньгами. В гостиницах, где он останавливался, тикали часы. Он наслаждался роскошными завтраками с шоколадом, бренди и сигаретами. Идя по дороге, он слышал, как гудит ветер в телеграфных проводах. Группы жнецов, шагая по полям, смотрели, как он проходит мимо. Между Ле-Буше-Сен-Николя и Праделем, на достаточно большой высоте, единственными путешественниками, которых он увидел на дороге, были «вереница всадниц, сидевших на лошадях по-мужски, и два почтовых курьера». Но он также видел несколько нитей другой сети, по которой проходило основное движение:
«Тропинки, протоптанные скотом, блуждали по местности, то соединяясь, то расходясь, делились на три или четыре, угасали в болотистых низинах и случайным образом появлялись опять на склонах холмов или на опушке леса.
Прямой дороги до Шейлара не было, и было нелегко пробираться через эту неровную местность по этому рваному лабиринту троп».
Этот лабиринт – причина того, что города и деревни Франции были одновременно отрезаны друг от друга и связаны между собой. Товары и продукты перемещались по этой системе троп и дорожек и в результате этого броуновского движения медленно переходили из рук в руки, перемещаясь на большие расстояния. Когда главные дороги стали лучше и были проложены железные дороги, торговля ушла из этой сети капилляров, прежние связи были разорваны, и значительная часть населения вдруг оказалась более отрезанной от внешнего мира, чем раньше. Сейчас многие территории Франции оказались в таком же положении из-за TGV – сети скоростных поездов.
Понадобились бы тысячи отдельных карт, чтобы показать передвижение мигрирующего населения по этому лабиринту троп, но хороший общий обзор даст любая крупномасштабная карта рельефа или фотография со спутника.
С этой высоты можно увидеть линию, которая пересекает Францию по диагонали от западной части Пиренеев до Вогезов, отмечая самую высокую часть территории, и резко делит страну пополам. Люди, родившиеся южнее и западнее этой линии, устремлялись вниз, как тающий снег с гор, и отправлялись на заработки как раз в те дни, когда козы уходили в горы. На западе Лангедока была поговорка, которая хорошо описывала это: «Crabas amont, filhas aval» – «Козы идут вверх, девушки вниз». В этой половине Франции главным водоразделом был древний обрушившийся вулкан, который называется Канталь. Этот горный массив занимает площадь почти в тысячу квадратных миль и является самой большой вулканической структурой в Европе. Из департамента Канталь, который назван в честь этих гор, тысячи мужчин, женщин и детей каждый год уходили на равнины Гаскони и Испании, к Средиземному морю и в Марсель, в Лион и долину Роны, в Пуату и Парижский бассейн.
Это была область, откуда мигрировали на дальние расстояния. К северу и востоку от этой линии расстояния сезонных миграций обычно были короче. В этой половине Франции было больше людей, умиравших там, откуда была видна колокольня их родной деревни, и больше тех, кто знал о внешнем мире, но сам в нем не бывал. О том, что происходило в нем, они узнавали от тех полукочевников, которые бродили по стране, – мастеров, отливавших колокола, точильщиков ножей, винокуров и странствующих торговцев, посредников в торговле вином и зерном, странствующих певцов, циркачей и знахарей, скупщиков волос для париков, изготовителей деревянных башмаков, которые устраивали себе временные поселки в лесах, и нищих, которые добивались для себя хорошего приема, принося новости и сплетни, а иногда и любовные письма. Некоторые из этих кочевников с короткими путями упомянуты в армейском руководстве, изданном в 1884 году как важнейший источник информации о местности: «Дезертиры, прохожие, не живущие в этих местах, бездомные, которых арестовала полиция… охотники, браконьеры, пастухи, угольщики, лесорубы… Лучше всего захватить нескольких и допросить каждого отдельно. Контрабандисты и бродячие торговцы становятся особенно хорошими шпионами».
Массовые передвижения жителей этой равнинной половины страны были не слишком дальними, хотя для тех, кто в них участвовал, это все же было великим странствием. Весной длинные вереницы бургундских девушек с вьючными ослами, на которых они везли свой багаж и ехали сами, если уставали, направлялись в Бри, Бос и Гатине. Там девушки мотыжили поля, пока не наставало время вернуться в Бургундию и собирать виноград. Пшеничные поля Парижского бассейна тоже привлекали большие отряды сельскохозяйственных рабочих из Северной Франции. До сих пор в конце лета и начале осени на дорогах появляются группы странствующих жнецов, которые переезжают с места на место в грузовиках или живут в фургонах, создавая на границах виноградников маленькие пригороды с веревками, на которых сушится белье, и спутниковыми антеннами. Иногда можно увидеть семью странствующих сельскохозяйственных рабочих. Члены семьи идут цепочкой друг за другом и внимательно смотрят вперед, на дорогу; их походка может показаться медленной лишь на расстоянии.
Когда-то эти сезонные мигранты были заметны и в сельской местности, и в городах. В некоторые дни главные площади маленьких городков и больших городов на рассвете бывали заполнены сотнями прошагавших всю ночь семей со свертками в руках – сменой одежды, в которую был завернут серп. Такие «биржи труда» назывались «лу» (loues) или «луе» (louées). Жнецы прикрепляли к одежде колосья, а пастухи – клочки шерсти; возчики вешали себе на шею плеть. Домашние слуги надевали свои лучшие наряды и держали в руке знак своей профессии – букет цветов или пучок листьев. Работодатель приказывал им пройтись перед ним, чтобы увидеть, не калека ли перед ним, и смотрел, есть ли на ладонях мозоли: если есть, человек – старательный работник. Монета, положенная на ладонь работника, служила печатью на договоре найма. Постепенно толпа соискателей становилась меньше, а люди в ней – мельче, старше и дряхлее. Те, которые остались не нанятыми даже в самом конце дня, все же могли найти себе работу на уборке урожая – стать сборщиками колосьев. В этом случае им предстояло пройти сотни миль за месяц или два до того, как они вернутся домой.
В горной половине Франции торговля людьми выглядела более драматично. Во второй половине XIX века, причем во второй его половине, путешественники, направлявшиеся осенью на запад, видели большие отряды маленьких мальчиков, среди которых могли быть и несколько переодетых девочек. Одежда этих детей была из грубого коричневого сукна, на головах – широкополые шляпы, а на ногах – подбитые гвоздями башмаки. Все они шли в Париж из Дофине, Савойи и Пьемонта. Некоторым было всего пять лет. В столице им дали прозвище «зимние ласточки», потому что они появлялись на улицах Парижа как раз в те дни, когда ласточки улетали на юг и начинались холода.
За месяц до этого дети из разных деревень собирались на равнине у подножия Альп. Родители давали каждому из них немного денег, две или три рубашки, завязанные в шейный платок, буханку твердого как камень черного хлеба, паспорт и некоторым еще грубую карту, на которой было показано, где вдоль дороги живут родственники или друзья. Дети проходили до 50 миль в день, спали в амбарах и дополняли свою неистребимую буханку крадеными яйцами и яблоками. За время долгого пути от Савойи до Лиона, а потом дальше – до Парижа они имели время отрепетировать свои песни и уличные крики, а может быть, и какие-нибудь фокусы. Мальчики из Пьемонта часто несли с собой треугольник или шарманку, у других был сурок в клетке или хорек для ловли крыс. Большинству мальчиков из Савойи было суждено следующие десять лет выскребать сажу из парижских дымовых труб или носить в квартиры воду в оловянных ведрах. Многие из них работали также рассыльными, чистильщиками обуви и продавцами в лавках.
Позже эту детскую миграцию начали считать разновидностью рабства и угрозой общественному порядку, хотя эффективно работающие законы против нее появились только в 1870-х годах. Но для народа это была строго организованная, уважаемая и необходимая работа. В провинции Дофине, в тех деревнях, где земли и средств к существованию было мало, многие семьи отдавали своих детей внаем работодателям, а те платили родителям от 50 до 80 франков в год. Мальчики должны были сами явиться в тот город, куда были наняты, – Париж, Лион или Марсель, иногда Турин или Милан. В Париже они направлялись в грязную и бедную часть Латинского квартала вокруг площади Мобер или на улицу Герен-Руссо возле ворот Сен-Дени. Там им давали постель и учили искусству просить милостыню. На следующее утро они группами по трое или четверо выходили на улицы с сурками и чашками для сбора подаяний. Так они жили следующие три года или шесть лет – в зависимости от того, на какой срок заключили договор родители. Если, вернувшись ночью в свое общежитие, они приносили меньше чем 1 франк, им ничего не давали, но с суммы больше франка они получали комиссионные от 10 до 20 процентов. Каждый день им, согласно договору, давали уроки чтения и катехизиса. Парижане из среднего класса хорошо знали об этих условиях и считали нормальным помогать малышам из самых дальних уголков Франции, пока рабочие-иммигранты не стали предметом политических споров.
Савойские трубочисты жили несколько в иных условиях. Придя в город, они разбивались на группы по деревням. У жителей каждой деревни в столице были свои общая спальня и общая столовая. Аскетического вида дом на какой-нибудь парижской улице мог казаться частью Парижа, а на самом деле был савойской колонией, которой управлял савойский учитель трубочистов. Этот учитель мог также продавать горшки и сковороды и следить за мальчиками, когда они шли по городу, выкрикивая: «Haut en bas!» («Сверху вниз!»). Если мальчик крал деньги или плохо вел себя, его наказывали так, как полагалось по савойским обычаям. Мальчиков, убегавших в глухие закоулки, всегда находили: трубочисты знали Париж так же хорошо, как любой полицейский, и лучше многих парижан. В тяжелых случаях виновного изгоняли из общины.
Мальчик, подвергнутый этому «изгнанию во время ссылки», мог найти работу, если становился со своими наколенниками и скребком в толпу безработных сорванцов у ворот Сен-Дени и на улице Бас-дю-Рампар, там, где позже возникла площадь Оперы. Если ему везло, его могло взять на воспитание какое-нибудь благотворительное общество и обучить какой-нибудь профессии. Если не везло, какой-нибудь сутенер мог обучить его мужской проституции, одеть подходящим образом, и он становился одним из сотен «petits jésus» («мальчиков по вызову»), которые работали на Елисейских Полях и в других местах на окраинах Парижа.
Если трубочист не погибал от удушья, не заболевал болезнью легких, не становился слепым и ни разу не падал с крыши, он мог однажды стать печником и начать работать самостоятельно. Почти все трубочисты возвращались домой, чтобы жениться. Они никогда не порывали связь со своей родиной. Вылезая из трубы на крышу парижского многоквартирного дома, савойский трубочист всегда видел с нее Альпы.
Отряды жнецов и армии детей составляют около 15 процентов от примерно полумиллиона людей, передвигавшихся по Франции. Эти группы мигрантов концентрировались на сравнительно небольших пространствах и жили совместно. Другие «движущиеся» люди, например упомянутые в армейском учебнике странствующие торговцы и контрабандисты, охватывали более обширные территории и двигались по лабиринту дорог, как сок по дереву.
До 1870-х годов тысячи colporteurs (странствующих торговцев) покидали горные деревни, неся на спине корзины емкостью 100 фунтов или сундуки из соснового дерева. Сзади была привязана палка, чтобы торговец мог отдыхать, не снимая свою ношу. Внутри были меньшие корзины, каждая с одним из товаров, а сверху все это было накрыто запасной одеждой. Разумеется, вес был главной проблемой. Корзины странствующих торговцев были шедеврами упаковочного мастерства. В 1841 году у одного из них в корзине было 9800 булавок, 6084 катушки, 3888 пуговиц, 3 тысячи иголок, 36 наперстков, 36 гребней, 24 отреза шелка, 18 табакерок, 96 стальных перьев и карандашей, 200 гусиных перьев, 40 ножниц и еще большой выбор коклюшек, записных книжек, подвязок и брусков мыла. Другими популярными вещами были безделушки религиозного характера, лекарства из трав, любые изделия из шелка, а также альпийские растения и их семена – когда их начали приобретать увлекающиеся ботаникой туристы. В 1788 году странствующий торговец из нижней Нормандии умер в Лонгпоне, в области Перш. Перед смертью он оставил свой сундук на хранение местному священнику. Этот сундук был размером 3 фута на полтора, к нему были приделаны кожаные ремни для спины. Сундук имел семь отделений и семь выдвижных ящиков, в которых лежали 82 вещи 41 разновидности (два ящика были пусты). В числе этих вещей были цепочки для часов, ножницы, печати, серьги, очки, бритвы, ножи, ленты, перчатки, чулки и долговая расписка на серебряные часы.
Некоторые из самых прибыльных товаров не весили ничего. Так, считалось, что горцы умеют колдовать, и торговцы, уходившие с товаром на большие расстояния, извлекали выгоду из этой веры. Заклинание могло звучать очень убедительно, если его произнести на странном непонятном диалекте. Некоторые странствующие торговцы оказывали медицинские и ветеринарные услуги. Торговцы прокалывали уши, вырывали зубы и предсказывали будущее. Даже после 1756 года, когда закон запретил кастрировать мальчиков, странствующие торговцы из Беарна делали это в Испании по просьбе родителей, которые надеялись устроить сына в хор того или иного собора. На обратном пути торговцы, идущие от Сантьяго-де-Компостела в сторону Рокамадура и Ле-Пюи-ан-Веле, могли выдавать себя за паломников и, прося милостыню то в одном, то в другом монастыре, дойти так до самого дома.