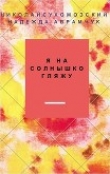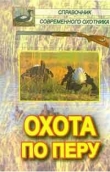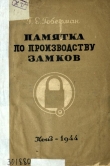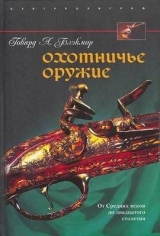
Текст книги "Охотничье оружие. От Средних веков до двадцатого столетия"
Автор книги: Говард Блэкмор
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Охотничьи клинки
В начале XVIII в. сабельных дел мастера из Золингена практически стали монополистами, поставлявшими лезвия почти для всех изготовителей рукояток в Европе. В соответствии с потребностями покупателей они производили изделия практически любой формы и величины. Лезвия отличались длиной (от 18 до 30 дюймов), некоторые были прямыми, другие закругленными, но все они редко доходили до величины сабли. Большинство оказывались чернеными, наиболее практичные образцы имели зазубренные края. Количество, глубина и длина желобов различались в каждом изделии.
Обычно изготовители клинков оставляли свои отметки или писали имена, но встречается и множество фиктивных надписей. Скорее всего, они просто отпечатывались на лезвиях, причем вид штампа зависел от прихоти покупателя. Во многих странах некоторые марки, например изображение бегущего волка, рассматривались как гарантия качества лезвия. Во время сражений и охоты от клинка требовалась гарантия прочности.
Сабля должна была обладать и мистическими свойствами, позволявшими пронзать больших оленей и совершать великие подвиги или хотя бы приносить удачу. С этой целью на лезвие сабли наносились магические знаки или числа (рис. 14). Их можно определить как стандартные астрологические символы. Так, один комплект был специально сконструирован как «талисман, чтобы заставить влюбиться и отгонять все дурные помыслы врагов».
На других изделиях имеются каббалистические знаки, известные только владельцу или тому чародею, кто продал заговор. На лезвиях XVII-XVIII вв. часто штампуются цифры «1414», которые трактуются различным образом – как сочетание счастливого числа семь или как дата смерти богемского героя Яна Гуса. К сожалению, другие подборы цифр типа «1441», «1506» и «1515», которые также используются, не поддаются никакому логическому объяснению.
Большинство магических знаков встречается на охотничьих саблях, изготовленных в Германии или первоначально использовавшихся именно там. Обычно охотничьи сабли определяются по выгравированным на них охотничьим сценкам и соответствующим девизам. Во второй половине XVIII в. отделка на саблях часто ограничивалась лентой пересекающегося орнамента с небольшими веточками с листьями или изображениями военных трофеев.
В Музее Виктории и Альберта в Лондоне находится книга образцов, скорее всего выполненных английским художником Робертом Уилсоном. В ней содержатся порядка сотни рисунков для сабель. К тому времени сложился обычай создания универсальных изделий, поэтому в таких общепризнанных центрах по изготовлению клинков, как Золинген, Клингенталь, Бирмингем, рукоятка оставлялась часто неотделанной. Отделка завершалась после приобретения изделия по желанию заказчика. Обычно, выгравировывая узоры, французские и немецкие мастера помещали свои имена на клинках, а английские ножовщики гравировали их на задней стороне верхнего медальона футляра.

Рис. 14. Магические знаки, выгравированные на лезвии немецкого кинжала XVIII в.
Распространение в XVIII в. оружия с колесцовым замком и небольших пистолетов с кремневым замком побудило оружейников создать комбинацию из пистолетов и клинкового оружия.
Из множества разновидностей сабель чаще всего такой тандем представлен в виде кинжала и пистолета. На некоторых из них ствол пистолета прикреплялся к одной из сторон лезвия, а затворный механизм устанавливался на рукоятку так, чтобы не соприкасался с захватом (фото 38). Только два пистолета того времени не имеют описанной конструкции. Такая двойная конструкция требовала разработки подходящих ножен, способных обеспечить должную защиту и не выглядевших слишком громоздкими, что являлось определенной проблемой. Поскольку у многих не оказывалось подходящих захватов, некоторые мастера-оружейники просто прикрепляли пистолет к лезвию кинжала. В результате получалось нескладное оружие, с помощью которого можно было только нанести грубый режущий удар.
Охотничьи сабли XIX В.
В начале XIX в. Наполеоновские войны вызвали временный перерыв в производстве прекрасных охотничьих сабель. Сам Наполеон учредил мастерские по производству представительского оружия на Государственной военной фабрике в Версале. Здесь возродили великолепие Римской империи, проявившееся в убранстве сабель, изготовленных для трех консулов главным мастером Никола-Ноэлем Буте. Правда, изготовивший до этого несколько превосходных охотничьих ружей, Буте не смог подняться до таких же высот в создании каких-либо охотничьих сабель.
Под патронажем Наполеона появилась и другая фабрика, находившаяся в Клингентале в Эльзасе. В 1792 г. ее назвали «Фабрикой по производству парадного оружия для войны», в 1805 г. ее посетил Жозеф Бонапарт. Затем фабрикой управлял подрядчик Жюльен Куло. После Реставрации семья Куло основала компанию и наряду с другими европейскими производителями перешла на изготовление прекрасных охотничьих сабель. Они ввели рукоятки из оленьего рога, сохранявшие грубую природную поверхность, на которой гравировались барельефы с охотничьими сценками. Фон подкрашивался таким образом, что фигурки выступали необычайно четко. Предприниматели также возродили производство гард XVII в., изготовленных из рога с вырезанными из кости фигурками животных.
Точно такие же рукоятки изготавливали и в фирме Вейерсберга из Золингена. Немецкие и французские фирмы воссоздали практически все старые стили декорирования охотничьих сабель. Так, например, у сабли, находящейся в Коллекции Уоллеса, имеется рукоятка из отделанной стали, которую можно считать подлинным шедевром XVIII в.
Ножны из слоновой кости покрыты сложной рельефной композицией, повторяющей старую саксонскую тему с борзыми, загоняющими диких животных. На лезвии выгравированы узоры, явно свидетельствующие о работе XIX в. Ножны вполне могут представлять собой работу одной из дьепских семей резчиков по кости, которые сохранили традиции своего мастерства и специализировались на имитации стиля XVI-XVII вв.

Рис. 15. Эфес парадного охотничьего меча, изготовленный Марелем (Париж). Выставлялся на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 г. (в настоящее время находится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне)
Когда дело дошло до изготовления специальных сабель, предназначенных для презентаций или выставок, то разработчики как бы сняли все ограничения. На французской охотничьей сабле, подаренной Наполеоном III маркизу Хертфорду примерно в 1860 г. и находящейся сегодня в Коллекции Уоллеса, рукоятка выполнена из серебра в виде фигурки американского индейца, борющегося с горным львом, у его ног лежит второй лев, пронзенный стрелой. Ножны выполнены из окисленного серебра в пару с эфесом.
На Всемирной выставке, проводившейся в Лондоне, Париже и Берлине во второй половине XIX в., показали изделия с придумками Викторианской эпохи. В 1851 г. на выставке в Лондоне представили серебряную охотничью саблю, изготовленную Маррелем Фрером из Парижа, с литым эфесом, украшенным изображениями персонажей легенды о святом Губерте, а также другими символами охоты. Она вызвала всеобщее восхищение и была приобретена для постоянной экспозиции за сумму в 200 фунтов.
В викторианский период изготовители сабель давали простор своей фантазии. Появление небольших доступных и надежных пистонных пистолетов побудило изобретателей изготавливать причудливые сочетания из сабли и огнестрельного оружия.
Хотя основная часть изделий направлялась прямо на военный рынок, но охотничьему кинжалу было суждено претерпеть многочисленные усовершенствования. В 1840 г. Джозеф Селестен Дюмонтье из Парижа оформил французский патент за номером 11875 и зарегистрировал «нож для охоты с пистолетом». Выданный в Англии В. Дэвису патент признавал его автором сабли, оснащенной револьвером под патрон Боксера, ножны были с шарнирным устройством, чтобы можно было поместить ружейный ствол.
Современные охотничьи сабли
Внедрение массового производства не проявилось на фабриках по изготовлению сабель так же, как и в других областях. Они по-прежнему стремились следовать традиционным методикам и индивидуальным образцам, в каталогах таких фирм, как «Карл Эйкхорн» из Золингена, приводятся многочисленные образцы охотничьих сабель, доступных и широкой публике. Отмечаются две базовые группы, одна с защитой для пальцев и другая без. Манера отделки менялась в соответствии с местом изготовления в одной из земель Германии – Баварии, Саксонии, Гессена, Брауншвейга. Изделия различались по качеству, отделка соответствовала статусу и той сумме, которую мог выложить будущий хозяин. Следует отметить охотничий кинжал Эйкхорна 1908 г., во многом сходный с английским кинжалом XVII в. (рис. 16).

Рис. 16. Охотничьи мечи из Каталога 1908 г. Карла Эйкхорна, Золинген. Слева направо: саксонский меч для охоты на оленя, саксонский усиленный меч, олений кинжал из Брауншвейга
Приход нацистов к власти стал огромным стимулом для ношения церемониальных сабель и кинжалов, что сильно вдохновило изготовителей сабель из Золингена. Возрождение охотничьих сабель и кинжалов произошло благодаря необычайному интересу к охоте Германа Геринга. Среди множества других титулов он носил звание рейхсъегермейстера. Под его началом находились Национальная лесная служба и Национальная охотничья ассоциация. Именно по его инициативе в 1937 г. в Берлине прошла большая Всемирная охотничья выставка. Страстно любивший помпезность и украшательство, Геринг лично разработал фасоны многих церемониальных изделий, которые носили члены обеих ассоциаций.
Основное различие сабель двух этих организаций было в том, что чиновники Национальной лесной службы имели сабли с чашей, а у чиновников Национальной охотничьей ассоциации стандартные сабли имели лишь небольшие гарды в виде копыт животных. На рукоятках «лесников» имелись заклепки в виде желудя, национальный орел и знак свастики, оправа имела золоченую окраску. Ножны изготавливались из черной кожи. Эфесы кинжалов «охотников» имели только эмблему общества из серебряной головки оленя и свастику. Подложка отделывалась серебром, а цвет самых ножен был зеленым. Младшие члены обеих организаций отличались по захватам из слоновой кости или белого пластика, а не по стандартным захватам из оленьего рога.
Естественно, что каждый производитель представлял свои версии основных вариантов. Встречается множество специальных презентационных моделей сабель и полуофициального оружия. Все лезвия гравировались общим сюжетом, представляющим собой различные охотничьи сценки. Единственным обязательным приспособлением оказался правосторонний захват, изготавливавшийся из слоновой кости или рога оленя, его следовало отделывать в соответствии с рангом его владельца.
Неясно, станет ли когда-либо производиться такое множество охотничьих сабель в одном месте, но золингенские кузнецы продолжают торговать своими изделиями, и именно в Германии сегодня производится основная масса охотничьих сабель.
Восточные сабли
В отличие от европейских изделий у нас нет документальных свидетельств того, что восточные сабли применялись только для охоты. Так, на японских гравюрах, изображающих сцены охоты на кабана и оленя, можно увидеть охотников с традиционным самурайским мечом. Обычно для охоты использовали рубящие сабли или ножи для джунглей, типа дао из Ассама или малайского паранга. На персидских и индийских иллюстрациях представлены в основном самые распространенные восточные сабли, изогнутый тальвар и шамшир. Лезвия последних украшены изображениями животных или охотничьими сценами, отчего и сабли именуются охотничьими, но на самом деле они ничем не отличаются от остальных.
Восточные оружейники особенно гордились качеством своих клинков. Если судить по индийским и персидским источникам, то охотники великолепно с ними обращаются, на иллюстрациях видно, как они наклоняются с седла, чтобы нанести сильные резкие удары, которые почти пополам рассекают животных. На портрете Умеда Сингха, бундского раджи из Северной Индии (1749 – ок. 1773), хранящемся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, он изображен верхом на лошади, разрубающим глотку гигантского медведя своим тальваром, до этого он неудачно нападал на него с луком и стрелами. Отметим и другое бундское изображение примерно 1820 г., на котором изображена охотница, придворная дама, ударяющая тигра тальваром с широким лезвием.
В 1840 г. английский чиновник в Индии писал: «У сикхов встречается любопытный обычай ловли диких свиней, с которым мне не доводилось встречаться ни в одной другой части Индии. Они делают нечто вроде западни из прочных прутьев и, спугнув боровов и заставив их бежать, обычно ловят прекрасные экземпляры. Когда же, разъяренные, не видя ничего, они устремляются из этих ловушек, к ним приближается охотник, которому достаточно нанести всего лишь один удар саблей, чтобы покончить с боровом».
К восточным рукояткам часто приделывались европейские лезвия, существовала достаточно динамичная торговля между золингенскими кузнецами и колониальными рынками. Вот что говорит преподобный Дж.Г. Вуд о сабле хамранских арабов: «Она прямая, с двойным лезвием, оснащена перекрестной рукояткой, наподобие тех, что были у древних крестоносцев, откуда пришла эта традиция. Арабы считаются истинными знатоками стали, ценя хороший клинок превыше всего остального. Обычно они доводят лезвия до остроты бритвы и доказывают это, бреясь саблями…
Длина лезвия составляет 3 фута, рукоятка длиной примерно в 6 дюймов, так что оружие выглядит очень внушительно. Если сильно ударить, то его острым лезвием можно перерубить человека пополам… Вооружившись только саблей, эти царственные охотники нападают на любую дичь и весьма хладнокровно атакуют слона, носорога, жирафа, льва или антилопу.
Обычно на слона нападали два вооруженных охотника, один заманивал, гарцуя перед слоном, второй нападал из засады, наносил колющий удар по передней ноге животного, обездвиживая его.
Во время охоты в Абиссинии с арабами сэр Самуэль Бейкер одолжил покрытую серебром семейную саблю у возглавлявшего экспедицию Тахира Нура, который попросил его обращаться с саблей аккуратно и не наносить ею удары по камню. Когда на него неожиданно напал молодой носорог, Бейкер нанес подобный молнии направленный вниз удар с помощью любимой сабли Тахира Нура. Молодой носорог упал замертво как подкошенный. Все арабы подбежали. Тахир Нур аккуратно вынул саблю из моей руки, вытянул ее во всю длину и осмотрел края, затем вытер кровь о тело носорога. Чтобы доказать, что его оружие безукоризненно, он сбрил несколько волосков со своей обнаженной руки. С облегчением вздохнув, он воскликнул: «Аллах велик!» – и вновь поместил саблю в ножны».
Бейкер обнаружил, что сабля перерубила позвоночник или шею объемом до 15 дюймов, причем голова продолжала висеть на тоненькой полоске кожи.
Глава 2. Ножи и штыки
Характерной особенностью большинства бронзовых критских кинжалов XVI-XVII вв. считаются охотничьи сценки, выгравированные или нанесенные на лезвие посредством интарсии золотом или серебром. Однако не следует придавать этому слишком большое значение. Дело в том, что мастера часто пользовались уже готовыми изделиями для своих собственных работ. Так, известное лезвие, украшенное изображением охоты на львов, найденное в Микенах (шахтная могила IV), сегодня хранящееся в Национальном музее в Афинах, возможно, принадлежало церемониальному кинжалу. Сам же плоский бронзовый кинжал, безусловно, составлял часть охотничьего вооружения минойской культуры. Он представляет собой защитное колющееся оружие, подходившее как для развлечения (охоты), так и для битв (войны). Ни в доисторическое время, ни в начале новой эры еще не появились ножи или кинжалы, специально предназначавшиеся для охоты.
Скрамасакс
Предком средневекового охотничьего ножа, использующегося и сегодня, считается скрамасакс, длинный универсальный нож, известный в Северной Европе по крайней мере с VIII в. до н. э. Его прочный однолезвийный клинок треугольного сечения позволял легко наносить не только колющие, но и режущие удары.
Лезвие прекрасно защищало его владельца и от людей, и от зверей, им можно было не только убить зверя, но и освежевать его, расчленить дичь или срубить дерево. В случае необходимости ножом пользовались и для еды. Незаточенная кромка ножа шла параллельно лезвию, образуя в передней части острие. Длина лезвия варьировалась от нескольких дюймов до размеров короткой сабли, на некоторых прекрасных образцах выгравированы надписи или геометрические узоры.

Рис. 17. Скрамасакс в ножнах. Так называемый охотничий нож Шарлеманя, хранящийся в Кафедральном соборе Ахена
В качестве примера можно привести небольшую по величине саблю примерно 900-1000 гг., хранящуюся в Британском музее, на которой надписано имя изготовителя Biorhtelm (Биорхелм) и владельца Sigebereht (Зигиберехт). С косым концом, медными и серебряными накладками она удивительным образом напоминает сингальский кинжал– нож XVII-XVIII вв. (пиха-кета). Загнутый хвостовик скрамасакса вставлялся в деревянный рог или рукоятку из кости и имел металлическую головку, обычно у него не было гарды.
У некоторых скрамасаксов лезвия слегка вогнуты, с небольшим вырезом в конце, имеют также углубленные в клинок желобки или пазы вдоль краев. Хотя у них отсутствовал соответствующий ложный край, все же они удивительно походили на длинный охотничий нож XIX в. Ряд таких скрамасаксов обнаружили в погребениях VII-VIII вв. в Нидершторцингере в Германии.
Лучше других сохранился образец так называемого охотничьего ножа Шарлеманя, хранящийся в Кафедральном соборе Ахена, ножны которого надписаны «Byrhtsige mec fecit» («меня сделал Бирхсиг») (рис. 17). Сделанный с задней части надкос стал отличительной особенностью изделий, изготавливавшихся вплоть до XV в. С такой разновидностью лезвий мы встречаемся, например, в алтарных изображениях XV в., в Северной Германии и Скандинавии.
Правда, к тому времени появились и другие разновидности ножей с присущими им особенностями рукояток. У некоторых появляются сферические гарды и обоюдоострые лезвия, в основном они применялись как поясное оружие. Другие же формы, использовавшиеся гражданскими лицами, были более удобны для защиты, чем для хозяйственного применения.
Хозяйственные ножи
В конце Средних веков наиболее распространенной формой гражданских кинжалов по-прежнему оставались однолезвийные кинжалы, использовавшиеся в качестве оружия и для домашних надобностей. Лезвия скрамасаксов стали шире и тоньше, конец закруглялся к обуху. В большинстве случаев остроконечный хвостовик скрамасакса заменялся плоской рейкой, к которой приклепывались две пластинки подходящего материала (из кости или дерева), образуя рукоятку. Такую форму ножа можно увидеть на изображении магазина торговца ножевыми изделиями из рукописи 1476 г., хранящейся в городской библиотеке в Нюрнберге.
Особое значение придавалось рубящим и проникающим способностям ножа, поэтому и от рукоятки требовалась поддержка удара. Когда приделывалась головка, то она часто была асимметричной, с выступом на конце, защищая пальцы от соскальзывания с захвата во время работы. Пальцы отчасти защищала также небольшая гарда, выступающая с боковой стороны рукоятки. Опираясь на нее, можно было увеличить давление на нож. К этой гарде часто приделывали небольшой диск. Он становился частью гарды и прикрывал малые ножи, находившиеся в ножнах. Концы гарды слегка отгибались вверх, к концу рукоятки. Трудно сказать, какое это имело значение, скорее всего чисто декоративное, но традиция сохранялась, отделка такого типа продолжала появляться на охотничьих ножах вплоть до конца XVIII в.
Типичные ножи-кинжалы конца XV и начала XVI в. можно увидеть и на гравюрах Альбрехта Дюрера («Повар и его жена», «Три крестьянина», ок. 1495) и Урса Графа («Танцующая крестьянская пара», 1525). Похожими характеристиками обладают и ножи у охотников на гобелене, известном как «Охота Максимилиана», вытканном примерно в 1525 г., сегодня хранящемся в Лувре в Париже. Ножны всех ножей дополнены меньшими по форме футлярами для столовых приборов.

Рис. 18. Охотник, успокаивающий свою собаку. На его поясе кинжал с клепаной рукояткой и прикрепленным к ножнам столовым ножом. Фрагмент гравюры из книги Weisskunig (1526)
На поясах у охотников на серн и каменных козлов с гравюры Х. Бургмайера «Триумф императора Максимилиана» висят дополнительные футляры, позволяющие хранить специальные лезвия для дротиков. Такие ножи-кинжалы использовались как крестьянами в их повседневной жизни, так и охотниками, преследовавшими животных. Доказательство сказанного можно найти в некоторых немецких и шведских документах XVI в. Сегодня их обычно называют Hauswehr (рис. 18).