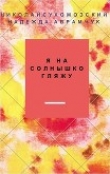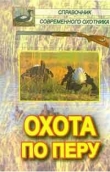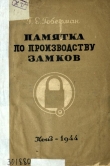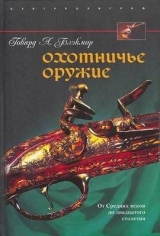
Текст книги "Охотничье оружие. От Средних веков до двадцатого столетия"
Автор книги: Говард Блэкмор
Жанры:
Энциклопедии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Кинжалы
Одно из первых упоминаний кинжала содержится в завещании Томаса де ля Мара Йоркского от 1358 г. («мой нож или, точнее, кинжал»). Слово «кинжал» можно найти во многих английских завещаниях XV в. Например, в документе 1427 г. назван «золотой кинжал». В другом завещании, от 1450 г., упомянуты «охотничий нож» и «кинжал с рукояткой из слоновой кости». В наши дни это слово используется только для обозначения оружия, у которого гарда и рукоятка точно сбалансированы с лезвием, однако раньше оно имело и дополнительные значения. В завещании Джона Эстерфилдского от 1504 г. указан «нож, именуемый кинжалом». В Описи 1579 г. движимого имущества сэра Томаса Батлера перечислены «кинжалы или ножи». Спустя восемь лет Роберт Брайен описывает свою любимую саблю и называет ее «мой ножик или кинжал».
В Описи Генриха VIII, о которой говорилось выше, там, где упоминаются его ножи для охоты, также включены (в Вестминстерском собрании) «короткий кинжал с костяной рукояткой в ножнах из белой замши, защелкой и двумя серебряными обоймицами». В королевском гардеробе хранился «один небольшой короткий кинжал с бронзовыми кольцами, прямой гардой, блестящей рукояткой и ножнами из замши с ножом и шилом». В 1532 г. в качестве новогоднего подарка лорд Рошфор подарил королю два кинжала с бархатными портупеями.

Рис. 8. Возвращение с охоты. Изображен охотник с коротким охотничьим мечом. Из книги Ander Theil des neuen Kunstbuchs (1580)
Несмотря на многочисленные упоминания, не совсем ясно, какая разница существовала между кинжалом и охотничьим ножом, и если она действительно существовала, то в чем же она заключалась? В завещание сэра Уильяма Волстонкрофта 1518 г. включено следующее пожелание: «Я передаю Кристоферу Борингу мой кинжал, или охотничий нож». Точно так же два обозначения встречаем в Описи арсенала в Стамфорде от 1557 г. Под заголовком «кинжалы» там помещены следующие изделия:
охотничьи ножи в бархатных ножнах, один длинный, один короткий;
один кинжал с инструментами от моего отца; один кинжал с ножом, шилом, компасом и молотком.

Рис. 9. Гравюра на памятной медной дощечке, находящаяся в Уолтоне на Темзе, в графстве Суррей. Увековечен подвиг Джона Селвина, когда тот сумел оседлать и убить оленя в Отлендском парке, демонстрируя свое искусство перед Елизаветой I в 1587 г.
Очевидно, что слово «кинжал» использовалось широко и применялось ко всем разновидностям коротких мечей или длинных ножей, которые применялись во время путешествий или охоты.
Особое распространение кинжалы получили у англичан. Французский посол маршал де Вьевиль так описал английские развлечения в письме Генриху II (1547-1559): «Англичане вовсе не так искусны в охоте на оленя, как в морских сражениях. Они повезли меня в огромный парк, где обитало множество оленей. Верхом на роскошно убранном сардинском коне я охотился в сопровождении сорока или пятидесяти лордов и джентльменов. Мы убили порядка пятнадцати или двадцати животных. Меня страшно позабавило, как англичане серьезно относились к охоте, с кинжалом в руке они кричали так громко, как будто преследовали врага в тяжелой битве и с трудом добивались победы».
В приходской церкви в Уолтоне на Темзе находится гравированная медная дощечка, на которой запечатлен подвиг Джона Селвина, лесничего Отлендского парка. Во время охоты он перепрыгнул со своей лошади на спину оленя. Направив животное к королеве, он затем вонзил свою саблю ему в шею, так что тот замертво упал к ее ногам (рис. 9).
В других частях Европы по-разному относились к идее создания удобной сабли для охоты. Так, сабля эрцгерцога Фердинанда II Тирольского, датируемая примерно 1560 г., находящаяся в Музее искусств в Вене, имела ту же самую длину и форму, что и сабля, принадлежавшая Генриху VIII и находящаяся в коллекции в Виндзоре, однако ее рукоять была выточена из куска ярко-алого коралла и увенчана весьма непрактичной кисточкой. Такая же рукоятка и у небольшого ножа, находившегося в ножнах. Похожие рукоятки имели и нож, вилка и ложка, изготовленные в 1579 г. и хранящиеся в Историческом музее в Дрездене.
Очевидно, что описанные нами эксцентричные проявления причуд состоятельных хозяев явно отражали стремление превратить охоту в красочное зрелище.
Сабли с календарями
В первые десятилетия XVI в. появились интересные мечи, на лезвиях которых выгравированы или вырезаны календари с перечнем имен святых, иногда дополнявшиеся зодиакальными знаками. Большинство таких мечей оказались именно охотничьими. В 1532 г. в качестве новогоднего подарка сэр Эдвард Сеймур (его сестра Джейн позже вышла замуж за короля) подарил Генриху VIII саблю с позолоченным эфесом и календарем, нанесенным на поверхность клинка.
В лондонском Тауэре хранится охотничий меч со стальным эфесом XVI в., украшенный золотым и серебряным цветочным орнаментом. Позже по этому орнаменту был выгравирован григорианский календарь, на отдельных квадратиках изображены священные дни, отделенные картушами со знаками зодиака. Внутри круга рядом с эфесом содержится инструкция по пользованию календарем на примере 1686 г. Зажим изготовлен из оленьего рога.
Скорее всего, в то время, когда был преподнесен подарок, календарь в виде рисунка наносился достаточно часто. Ряд таких лезвий подписаны или имеют инициалы Амброзиуса Гемлиха, мастера из Мюнхена. Среди его работ отметим нож, объединенный с пистолетом с колесцовым замком, хранящийся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке (фото 64), похожий нож (только без пистолета) находится в Национальном музее в Кракове, кортик, хранящийся в Музее искусств в Вене, охотничий нож, находящийся в Национальном музее в Мюнхене, и еще один, раньше бывший в Цейхгаузе в Берлине. Все изделия были изготовлены с 1528 до 1540 г.
Появление календаря на орудиях для охоты объяснить непросто. Известно, что человек издревле связывал успех на охоте с благоприятствованием тех или иных потусторонних сил. В языческие времена это были духи леса и соответствующие боги, а позже успешную охоту связывали и с расположением святого, покровительствующего охотнику. Джон Ди в «Тройном альманахе на 1591 год по христианскому исчислению» приводит праздничные дни римского и григорианского календарей и зодиакальные знаки наряду с информацией о фазах Луны, восходе и заходе солнца.
Одновременно называются «правильные дни», подходящие для посадки и рубки деревьев, кровопусканий и т. д. В одной заметке говорится, что «для очищения желудка более всего подходит время, когда Луна находится в треугольнике Ватри, то есть в созвездиях Рака, Скорпиона или Рыб». Хотя там нет рекомендаций, когда проводить охоты, но очевидно, что хорошо тренированный охотник мог провести необходимые подсчеты исходя из собственного календаря.
На лезвиях мечей календари гравировали вплоть до XVII в. Меч из собрания Кречмара фон Кинбуша в Нью-Йорке с выгравированным на лезвии календарем датируется примерно 1630 г., а другой, из Метрополитен-музея, представляет собой широкий нож с плоским лезвием и рукояткой из оправленного в серебро оленьего рога, имеет выгравированный на лезвии календарь, относящийся к 1678-1700 гг.
Комбинированные мечи
Среди других интересных новинок XVI в. отметим соединение сабли и ружья, в котором обычно использовался колесцовый замок.
Выше уже говорилось о комбинации охотничьего меча и пистолета с колесцовым замком, однако известно не много образцов такого оружия. Создавая оружие двойного действия, мастера хотели максимально защитить охотника, дав ему возможность в случае необходимости убить животное.
Несмотря на все очевидные преимущества подобных соединений, их введение ограничивалось несовершенством пистолета и его большим весом. Колесцовый замок имел сложное устройство, и никто не был уверен в том, что в нужный момент он сработает так, как нужно. Чем дольше исследуешь такие изделия, особенно образцы с длинными охотничьими рапирами и копьевидными мечами для охоты на медведей, тем более склоняешься к мнению, что они относятся к механическим безделушкам и диковинкам.
Более простой и, несомненно, полезной новинкой можно считать зубчатую заточку задней стороны некоторых мечей. Она сильнее травмировала животное, при необходимости ее можно было использовать для распиливания дерева или кости. Поэтому зубчатый край обычно делался у небольших охотничьих сабель, которые носили слуги, обслуживающие охотников. Прорубание тропы через подлесок или заготовка дров для костра считались рутинной работой, и благородные охотники вовсе не стремились ею заниматься.
Как мы сможем убедиться в дальнейшем, охотник с большей радостью занимался разделыванием туши. Именно для этого предназначались большие рыцарские охотничьи мечи, снабженные пилообразными зубцами. Иногда зубцами снабжались и широкие мечи с большими рубящими лезвиями.
Интересные образцы хранятся в лондонском Тауэре и в Немецком музее охоты в Мюнхене (фото 39-40). В Описи Генриха VIII 1547 г. указывается на охотничий нож с рукояткой из слоновой кости, позолоченной рукоятью в форме головы грифона и «задней частью лезвия в виде пилы».
Примерно в то же время, когда ввели пилообразный задник, наступил период возрождения опущенного вниз полукруглого клапана, который можно найти на некоторых больших мечах XV в. Они служили прикрытием для убиравшихся в ножны ножей и инструментов. Одним из первых образцов такого меча, имевшего обе особенности – особый вид защиты и пилообразный конец, является охотничий меч из коллекции герцога Брунсвикского.
Над лезвием расположены плоская, повернутая вниз гарда, щиток для пальцев и отражатель в форме завитка раковины, нависающий над лезвием. Имеется также одно прямое лезвие с пилообразным задником. Костяная рукоятка покрыта гравировкой с охотничьими сценами, металлические части эфеса также гравированы, кроме того, позолочены и инкрустированы серебром.
Отделка мечей
Во все времена оружейники стремились применять богатую отделку. В начале XVI в. художники начали печатать эскизы для изготовителей ружей и торговцев мечами, чтобы они смогли использовать их для украшения и рекламы своих изделий. Так, Ганс Гольбейн-младший, чей рисунок «танца смерти» (ок. 1530) представлен на ножнах ряда шведских и южнонемецких кинжалов, сделал несколько рисунков пером для эфесов и ножен рапир, кинжалов, кавалерийских или охотничьих сабель.
Другие мастера того же периода, Генрих Альдеграфер, Урс Граф и Ганс Зебольд Бехан, также делали свои рисунки. В «Книге образцов» Филиппа Орсо из Мантуи, датированной 1554 г., содержатся несколько выразительных рисунков, предназначавшихся для украшения эфесов мечей. Один из таких его рисунков с рукояткой эфеса в виде фигурки орла на головке скопировал Лука Пенни (прозванный Романо) в своей известной гравюре «Орион и Диана» (1563).
Вошедшее в моду приобретение больших комплектов вооружения, выполненных по эскизам одного художника, стимулировало интерес к отделке охотничьего оружия. В Копенганене сохранились остатки трех комплектов охотничьих сабель, изготовленные для Фридриха II Датского между 1584 и 1586 гг. Сегодня они разделены на два комплекта и хранятся в Тойгусмузеуме (фото 13) и в Розенборге. Каждый комплект состоит из двух кинжалов (один с прямым лезвием, у другого лезвие слегка закруглено), эстока и короткого меча или рапиры с рубящим и прокалывающим лезвием.
Хотя гладко отполированные стальные эфесы мечей покрыты золотым и серебряным орнаментом, рукоятки украшены золотыми насечками и розетками, весь ансамбль производит впечатление сдержанной элегантности, сравнимое только с необычайными комплектами, изготовленными для эрцгерцогов Саксонии. Некоторые из них и сегодня можно увидеть в Историческом музее в Дрездене.
Самые удивительные чувства испытываешь при виде изумрудного гарнитура. Он состоит из охотничьей сабли и ножа для разрезания туши, сумки, охотничьего рога с ремнем, охотничьих ремешков для обвязывания небольшой дичи и собачьего ошейника. Все металлические части позолочены и оживлены прямоугольными вставками из изумруда, образующими охотничьи сценки.
В свое время изумрудный гарнитур и еще два комплекта из бирюзы были заказаны Кристианом II, эрцгерцогом Саксонским, у золотых дел мастера Габриэля Гипфеля и затем подарены братьям Иоганну-Георгу и Августу между 1607 и 1609 гг. в качестве рождественского и новогоднего подарков.
Среди самых великолепных из когда-либо изготавливавшихся видов оружия считаются те, что изготовлены группой мастеров, трудившихся при дворе баварских герцогов. Они отделаны совершенно иначе, совсем не так, как предполагала ренессансная роскошь, отличающая саксонское оружие. Мастера были известны своей чеканкой по железу, высекали рисунок или сценку на металле и затем делали его выпуклым с помощью позолоты, наносившейся как фон.
Первым мастером, применившим такую технику, считается Эммануэль Садлер, или Саттлер, сын антверпенского мастера-ножовщика, переехавший в Мюнхен, чтобы стать придворным мастером по металлу при герцоге Вильгельме V в 1594 г. После его смерти в 1610 г. его сменил на этой должности младший брат Даниэль, который до этого состоял мастером у императора Рудольфа II Габсбурга в Праге.
Именно Даниэль изготовил необычный подбор, состоявший из замковых ружей, пистолетов, мечей, фляжек для пороха и других аксессуаров, со временем подаренный эрцгерцогом Максимилианом Баварским герцогу Карлу Эммануэлю Савойскому в 1650 г. Сильно напоминающая другие его изделия сабля хранится в Историческом музее в Дрездене.
Мастерская Садлера была захвачена в 1635 г. Каспаром Спатом, работавшим в похожей манере и по тем же рисункам. На изготовленном им охотничьем кинжале, хранящемся в Венском музее искусств, имеется покрытый чеканкой эфес, позолоченный в соответствии с традициями мастерской Садлера.
В первой половине XVI в. в Восточной Европе развились разные типы отделки мечей, но особого разнообразия искусство украшения оружия достигло в Англии. В данном случае металлическая поверхность оставалась гладкой, декоративные мотивы в виде цветочного орнамента, розеток, херувимов и изображений правителей наносились в форме инкрустации и покрывались серебром, иногда золотом.
Хотя именно иностранные мастера познакомили английских кузнецов с этим видом отделки, правительство всячески поощряло местных умельцев, чтобы они смогли превзойти иностранных конкурентов. В соответствии со Статутом 1563 г. был строго запрещен ввоз «поясов, рапир, кинжалов, ножей, эфесов, рукояток, запоров, лезвий для кинжалов, рукояток, ножен, уже изготовленных и приобретенных в любом месте за пределами острова». Из имеющихся реестров королевского гардероба и отчетов лорда – управляющего двором короля ясно, что работавшие в Хонслоу и Лондоне ножовщики должны были, если использовать язык Статута, «не допускать никакого чужеродного влияния, чтобы ничего не заимствовать».
Отмеченная нами тенденция обусловливалась личными пристрастиями правителей. В начале своего правления Яков I Английский был страстным поклонником охоты. Один из его придворных, граф Вустерский, иронически писал своему другу в 1604 г.: «Сев в седла с рассветом, уже в восемь часов утра, мы начали загонять одного зайца за другим, пространствовав до четырех часов вечера».
В 1606 г. королевскому ножовщику Роберту Сауту заплатили за охотничий меч, эмалированный и покрытый серебром, описанный на ломаной латыни: «Рукоятка меча стальная, покрыта эмалевым узором, клинок железный, украшен серебрением, ножны из зеленого бархата».
Другой ножовщик по имени Натаниэль Мэтью представил королю в 1614 г. охотничий меч, покрытый серебром и золотом следующим образом: «На клинке дамасковое изображение херувима с позолотою, рукоятка серебряная с позолотою, ножны крыты зеленым бархатом, устье и носок позолочены».
Поскольку в Европе были широко распространены тяжелые инкрустированные и покрытые серебром рукоятки, не так-то просто выделить изделия именно английского производства. Обычно характерной особенностью считают шарообразное навершие рукояти. Так, односторонний меч с эфесом от рапиры из лондонского Тауэра, скорее всего, является образцом большого охотничьего меча.
По рисункам и гравюрам в книгах и рукописях XVII в. можно сделать вывод, что практически все типы мечей использовались в качестве охотничьих. Некоторые изделия, отличающиеся великолепием отделки, с изображениями охотничьих сцен, вряд ли имели практическое применение. Так, охотничья сабля императора Фердинанда II, датируемая 1633 г., теперь находящаяся в Венском музее искусств, имеет крестообразный эфес, на конце высечен двуглавый орел, а также защелку, гарду и большие щитки в виде створок раковины из оленьего рога. Трудно представить, как можно было пользоваться такой саблей, она бы сразу же поранила руку.

Рис. 10. Отрывок из немецкой записи, посвященной охотничьим подвигам, и календарь XVII в. На листах отмечены количество и породы использовавшихся во время охоты собак. Собрание Вадестона, Британский музей
Любопытную группу образуют охотничьи сабли, украшенные специальными счетными таблицами. Неизменным компонентом любой охоты было соревнование в количестве убитой дичи и величине пораженных животных, поэтому велись самые тщательные подсчеты. В Британском музее хранится исключительный образец немецкого охотничьего меча с календарем и счетчиком. Он состоит из восьми медных, прикрепленных на шарнирах страничек, большинство из которых посвящены определенным разновидностям охоты – на обыкновенного оленя, кабана, вожака стаи и т. д.
На каждом листе вырезана табличка, причем желобки заполнены красным воском, и пронумерованные шкалы. Нанося на шкалу отметки в определенных местах, можно было зафиксировать количество убитых животных, общий вес, количество миль, которые успел пробежать заяц, спасавшийся от охотников. Фиксировалось и время восхода и захода солнца, длина дня и ночи для каждой недели года. Другие секции оставлены для записей применяемых средств, например, указывалось количество использованных во время охоты собак.
Для ведения подобных записей использовались практически все разновидности сабель с прямыми лезвиями и небольшими гардами. Круглые таблички размещались в специальном футляре. У сабли, находящейся в коллекции Скотта в Глазго (фото 37), и той, что раньше была в собрании принца Карла Прусского, имелись три таких счетчика.
Английский кинжал
К середине XVII в. ружья вытеснили арбалеты и копья и в большинстве случаев меч как основное атакующее охотничье оружие. Заметим, что хранящийся сегодня в Историческом музее в Дрездене прекрасный охотничий гарнитур Иоганна-Георга II состоит из ружья с колесцовым замком и двух пар кремневых пистолетов, причем один носился в кобуре, а другой в кармане. Из клинкового оружия в него входили только кинжал и широкий нож. Но в Англии кинжал продолжал пользоваться популярностью именно как охотничье оружие.
В качестве примера сошлемся на комментарий XVI в. некоего английского спортсмена, любившего охоту и верховую езду. Иностранные путешественники поражались страсти англичан к охоте. Один из них так описывал землевладельца из Кента: «Он проводит все время в седле, не снимая сапог для верховой езды со шпорами и плисовых штанов».
Кинжал оказался самой удобной разновидностью меча для защиты во время путешествия, а также и для охотника, который в основном гонялся за оленями и зайцами с помощью своры гончих. В данном случае ему оказывался полезным именно короткий клинок, в отличие от континентальных охотников, чаще сталкивавшихся с кабаном, медведем, волком и даже зубром.
В 1629 г. Генри Хоппи и Петр Инглиш открыли в Хонслоу мастерскую по изготовлению сабель. Об этом свидетельствует поданное ими прошение, хотя сама мастерская могла начать работать и раньше. Вскоре подобные предприятия организовали и другие мастера – Бенджамин Стоун, Ричард Хопкинс, Иоганн Киндт, или Кеннет, Джозеф Дженкс. Как и лондонские мастера-ножовщики, они сосредоточились на изготовлении трех основных разновидностей клинкового оружия. Рапиры отличались завитыми гардами и длинными рукоятками с бороздками. Мечи для кавалерии имели эфесы корзинчатого типа и были известны как «разящие наповал». Кинжалы, или кортики, отличались наличием или отсутствием зазубренного заднего края.
Что касается эфесов, то рукоятки первых групп обычно представляли собой плоскую железную конструкцию, не украшенную даже примитивной гравировкой. Однако большинство кинжалов были украшены серебряной инкрустацией, характерной для английских оружейников, использовавших ее в начале XVII в. Такие изделия находим в лондонском Тауэре, в Музее Виктории и Альберта, Коллекции Уоллеса и частных собраниях, где размещены изделия 1630-1650 гг. с типичными плоскими шляпообразными рукоятками с завитком в том месте, где прикреплена чаша.
У одного меча тройная гарда, прикрепленная к вазообразной чаше. Большие по размеру секции закручены справа налево, меньшие – наоборот. Лезвия кинжалов слегка закруглены, отличаются по размеру, их длина составляет от 20 до 30 дюймов. Разнообразие отметок не позволяет их точно идентифицировать, одни изделия могли изготовить лондонские ножовщики, другие – золингенские кузнецы. Часто изделия подписаны и датированы как «Лондон» или «Хонслоу», что означало лишь место поставки.
Накладки рукоятки сделаны из оленьего рога, иногда посередине разделяются железной лентой. Если они изготовлены из дерева, то связаны железной или серебряной проволокой. В лондонском Тауэре (фото 14) хранится прекрасный образец, где рукоятка покрыта разноцветным контрастным серебряным узором, а гарда – пересекающимся орнаментом из серебряных точек. О распространенности подобного типа изделий свидетельствует объявление, данное в «Лондонской газете» в 1679 г. Томасом Хафпенни и сообщающее о потере кинжала с рукояткой, покрытой серебряным узором.
Скорее всего, другую разновидность рукояток изготавливали ножовщики Хонслоу. Их кинжалы легко узнать по навершиям рукояток в виде головы льва. Приведем в качестве примера меч из Тауэра, датируемый 1634 г., другое изделие имеет надпись «Меня изготовили в Хонслоу». К характерным особенностям относят использование медных головок, сильно выступающие вниз шейки над рукоятками отполированы, имеют бороздки. Такое сочетание медных головок с железными гардами необычно и связано с особой историей.
Рассказывают, что в тот период компании кожевенных и кинжальных дел мастеров, озабоченные тем, что их привилегии ограничены небольшой территорией города, обыскивали места изготовления сабель и конфисковывали товары иностранного производства. Они руководствовались Статутом 1563 г.
Однако им пришлось не только соревноваться с иностранцами, но и представить новую методику изготовления, начать украшать рукоятки и аксессуары бронзой. Фактически гильдия кожевников 12 января 1633 г. смогла получить Королевскую прокламацию от Карла I, в которой запрещалось производство поясных подвесок для кинжалов и бронзовых пряжек, на основании того, что «бронзовые пряжки слишком ломкие и не такие удобные, как железные».
Настоящая причина опасений мастеров заключалась, как они сами признавались, в том, что те, «кто украшает медными пряжками, в один день делает их вдесятеро больше, чем железных пряжек».
Закономерно, что в свою очередь гильдия ножовщиков решила, что они обладают похожими возможностями, и начала конфисковывать все разновидности эфесов и части изделий, изготовленные из бронзы. В мае 1650 г. суд присяжных подтвердил их позицию, обнародовав распоряжение, что «все эфесы и рукоятки, выделанные в бронзе или сплавах из этого металла, для мечей, рапир, кинжалов, кортиков и скейнов непрактичны, неудобны и их изготовление противозаконно».
Решение было принято из-за ложного убеждения, что оно соответствует ранним Статутам Генриха IV и Генриха V. Его влияние оказалось настолько значительным, что в течение нескольких лет никто не осмеливался противоречить этому распоряжению, кроме мастеров из Хонслоу, спокойно работавших в отдаленных землях.
Однако решения гильдии ножовщиков имели и другие последствия. В 1670 г. Коллегия по техническому и вещевому снабжению, в обязанности которой входило обеспечение оружием британской армии и флота, обязала лондонских ножовщиков выпускать штыки с бронзовыми креплением и гардой. Комиссия была прежде всего озабочена тем, чтобы использовавшееся в армии оружие было дешевым и удобным.
Оказалось, что медные изделия отвечают обоим требованиям, поэтому начиная с 80-х гг. XVII в. поясное клинковое оружие повсеместно начали оснащать рукоятками из меди или других мягких металлов. В распоряжении коллегии, датированном 30 апреля 1686 г. и адресованном Питеру Инглишу, говорится о рукоятках сабель с оплеткой.
Одним из ведущих подрядчиков оказался лондонский ножовщик Томас Хаугуд, чьи мастерские постоянно обыскивались чиновниками гильдии. К 1683 г. их сопротивление достигло такого накала, что коллегии пришлось вмешаться, подтвердив свое прежнее решение. Стало очевидно, что согласно старым уложениям просто запрещалось серебрение или золочение меди, чтобы нельзя было выдать получившееся изделие за предмет, изготовленный из драгоценного металла. После отмены ограничений изготовители сабель смогли сами выбирать методику, которую использовали в своих мастерских.
Необходимо заметить, что, хотя некоторые английские кинжалы с железными рукоятками датируются последним десятилетием XVII в., большинство все же имеют рукоятки из бронзы или серебра. В основном мастера следовали имевшимся старым образцам и изготавливали короткие, слегка загнутые мечи с рукояткой из оленьего рога и повернутой вниз гардой с отражателем. Однако гарда в форме раковины не всегда отделана, рукоятка совершенно плоская, без традиционных выпуклых спиралей.
Самыми примечательными считаются серебряные рукоятки, на многих стоит клеймо изготовителя, а также, что особенно важно, обозначение Лондона как места производства. Так, клеймо с буквами «IH» в сердечке (неопределенное) проставлено на авторском мече (фото 22), на кинжале, находящемся в Музее Виктории и Альберта, и еще на одном изделии, описанном П. Каррингтон-Пирсом в «Справочнике» [7]7
«Справочник» издан в Лондоне в 1837 г., но некоторые исследователи ошибочно считают его немецким.
[Закрыть]. Рукоятки с клеймами 1702-1703 гг. можно увидеть в Музее Виктории и Альберта, в Виндзорском замке (1697-1698) и в Национальном морском музее в Гринвиче (1702-1703).
Необходимо отметить характер отделки на серебряных и медных рукоятках. Необычайно выразительны те изделия из серебра, где отливка покрыта гравировкой (фото 20). Бронзовые рукоятки, напротив, не отличаются особым разнообразием декоративных мотивов, поскольку отливались в одних и тех же формах, где варьируется только расположение узоров.
Например, батальная сцена с чаши одного меча могла затем повториться на отражателе другого. Обычно на головках устанавливались сочетания тюдоровских роз, лилий, херувимы или головы королей. И снова отлитые в одних и тех же формах головки отличались только своими комбинациями на гардах. Взаимозаменяемость декоративных отливок присуща не только разнообразным кинжалам, стремление к разнообразию и созданию разных вариантов базового узора отличает байонеты, малые мечи и боевые сабли. Отметим необычный мотив, изображающий музыканта, играющего на флейте, на гарде меча, что хранится в лондонском Тауэре. Точно такой же мотив мы обнаружили на кинжале и кавалерийской сабле, находящихся в частной коллекции.

Рис. 11. Литой бронзовый ограничитель с гравировкой и украшение для гарды (оба конца) английского охотничьего кинжала. Ок. 1700 г.
Среди покрытых серебром кинжалов конца XVII в. отметим небольшую группу, которую раньше относили к изделиям, сделанным в Шотландии. Несомненно, такая разновидность кинжалов была популярна как в Шотландии, так и в Англии. Они упоминаются в отчетах гильдии ножовщиков и дворцовых описях. Именно с таким кинжалом сэр Джон Рамсей бросился защищать Якова VI во время нападения Александра Метвена в церкви Святого Джонсона.
Кинжалы данной группы отличаются рукоятками из оленьего рога и гардами, покрытыми плоскими серебряными чашами. Необычен серебряный футляр у основания рукоятки, прикрывающий рикассо (фото 18-19). Однако не следует утверждать, что вся группа имеет шотландское происхождение, как это делает Драммонд в книге «Старинное шотландское оружие» на основании того, что на одном мече встречается клеймо «WS», принадлежащее абердинскому мастеру. Подобные мечи широко производились и использовались в Англии.
Попробуем высказать свои суждения по данному поводу. Роговые рукоятки напоминают изделия английских мастеров. Вспомним портрет сэра Фрэнсиса Виннингтона (1634– 1700), написанный сэром Питером Лили, выставленный в Южном Кенсингтонском музее в 1866 г., где он изображен в охотничьем костюме с одним из мечей с роговой рукояткой. Вероятно, кинжалы, изготовленные на севере, мало чем отличались от тех, что производились на юге. Редкий кинжал, который можно определить как кинжал шотландского типа, изготовленный около 1680 г., обладает множеством общих особенностей, свойственных обычным английским кинжалам того же периода.
Сохранившиеся английские кинжалы свидетельствуют о том, что они были популярны. Следует признаться, что многие образцы, которые сегодня обозначаются как охотничьи мечи, первоначально использовались как боевые или в качестве защиты гражданских деятелей. В начале 1682 г. кинжалы были табельным оружием артиллеристов британской армии.
Правда, документально подтвержденных описаний нет, за исключением докладной записки, поданной лондонскими ножовщиками Томасом Хаугудом и Джоном Хиллом:
«Для артиллеристов новые сабли с рукоятками из оленьего рога, медными отражателями и гардами в ножнах с медной оковкой;
для матросов новые кортики с медными рукоятками и гардами, в ножнах с медной оковкой у каждого».
Скорее всего, эти сабли были такими же, как выдававшиеся артиллеристам. К сожалению, их описание совпадает с описаниями так называемых охотничьих сабель, поэтому пока что это поясное оружие еще толком не описано. «Новые кортики» с рукоятками, целиком изготовленными из бронзы, вполне могли быть теми, которые позже определяли как кортики с львиными головами или собачьими головами на рукоятках.
В 20-х гг. XVIII в. они были заменены ножовщиком Томасом Холлиером. Затем сотни изделий послужили для украшения стен Виндзорского замка, Тауэра и Хэмптон– Корт. Некоторые сабли были покрыты голубой, черной или белой эмалью (фото 17).
В большинстве европейских армий кинжал с небольшой медной рукояткой сначала ввели в качестве дополнительного оружия для пехоты и затем включили в качестве оружия в специализированные войска разведчиков и стрелков и стали использовать как штык. Похожие кинжалы, но более высокого качества носили пехотные и морские офицеры. На портретах работы Майкла Дала и сэра Годфри Кнеллера, находящихся в Национальном морском музее в Гринвиче, изображены несколько морских офицеров, имеющих при себе как прямые, так и украшенные кинжалы, внешне неотличимые от охотничьих сабель.