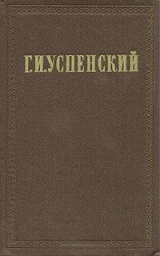
Текст книги "Живые цифры"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
«В 10 часов встаю, вожусь с детьми до 12, в 12 – „luncheon“, за которым обязательно ничего не ем. До 3-х – всевозможныезанятия; в 3 – „luncheon“ настоящий. После него – обязательная прогулка с детьми и их „governess“ в коляске или карете; иногда я их отвожу и продолжаю сама скитаться или возвращаюсь домой с ними и принимаю посещения; есть некоторые очень интересные, но другие – чистое наказание. В 6 часов – обед с церемониалом; мои тетки, или, вернее, церберы в юбке, выползают на свет божий; обыкновенно еще заходят двое-трое; муж часто отсутствует – в клубе пропадает; детей тоже нет, они обедают наверху в „nursery-room“. После обеда такое разнообразие во времяпрепровождении, что мне и не перечислить всего.Скоро балы начнутся; теперь их пока нет. Езжу часто в театры, концерты, на симфонические и квартетные вечера, на званые вечера, и у себя принимаю. Тихие вечера мне редко выпадают, а только именно таким доктор приписывает благотворное влияние на мою болезнь… Но где же, где мне раздобыть этих тихих дней и тихих вечеров? Благодаря моей живости я успела стать вне стеснительной рамки условий моей жизни и опять-таки только сравнительно, да, наконец, мне нравится волноваться. Я усердно занимаюсь делами благотворительности, пою, кормлю, одеваю массу старух».
Это скромное перечисление всего, что требует от человека ординарный, будничный день (балы еще не начинались), уже одно оно заставляет вас подумать, какая масса впечатлений нужна более или менее нормальному человеку, чтобы он мог, не стесняя себя, применить к жизни свою живую силу: тут и хлопоты с детьми, всевозможныезанятия от 12 до 3-х, и всевозможныескитания тоже не без причины и надобности от 3 до 6, а после 6-ти такое разнообразие времяпрепровождения, что и «не перечислить». Остается еще время и желание употребить его на заботу о чужом деле благотворительности. Но этот исполненный, как видите, всевозможными делами день – только будничный. Всего этого мало для нормального человека.
«Встречу я новый год, повидимому, весело. Восемь троек повезут всю нашу компанию в Озерки; там зал уже удержан, и будут цыгане и танцы. Если не будет очень холодно, всю дорогу буду петь: ужасно люблю кататься на тройках и в санках и петь! NN прекрасно вторит, найдутся еще голоса, нам и цыган не нужно. 25 декабря была у меня елка и танцы, разошлись в 7 часов утра – и вот таким образом каждый день» (74).
Каждый божий день этаким-то вот родом – до седьмого часу! Стало быть, уж много дано от бога! Да и это еще не все; иной раз и не то надумают:
«Я пишу в саду, в так называемом „Охотничьем домике“. Дождик льет, как из ведра, и знаете ли, куда мы сейчас, всей компанией человек в двенадцать, отправляемся? Раков ловить сетками. У меня есть преинтересное короткое платье, высокие сапожки, настоящие мужские сапоги на мою ногу» (24).
И ведь в проливной дождик – и то ничего! А раз был такой случай:
«При приближении поезда X., желая удержать мою Бетси, поднял руку; лошадь, испугавшись взмаха руки и свистка машины, вдруг поднялась на дыбы и выбила меня из седла; я упала всей тяжестью на левую сторону. X., говорят, стреляться хотел (30)… Муж уверяет, что X. нарочно причинил мне мою болезнь, чтобы я обратила на него внимание. Он состоит безнадежным поклонником третью зиму (38). Меня доктора хвалят, говорят – терпеливая хорошенькая больная» (29).
Полежала немного, и опять все пошло как должно.
«Когда я пою, то вся пою от души, я сама себя слушаю, точно не я пою, а кто-то другой, и глубина и страстность этого, не моего, голоса удивляют меня. Я не люблю этих минут; я чувствую в себе тогда силу, с которой не умею справляться» (36).
Точно, силы много; и то, что мы уже перечислили по этой части, далеко еще не исчерпывает размеров, в которых она проявляется. «Больше всего все-таки люблю чтение» (12), и благодаря этому она узнала «томик» стихов одного поэта и написала ему:
«Я люблю моего мужа и постараюсь всегда быть достойною его любви и веры в меня; но в моем чувстве к вам так много хорошего, искреннего, что никто не смеет и не должен ничего дурного в нем и подозревать. Я так и объявила мужу, и, как всегда, он нашел, что я права» (60).
И действительно, любовь к поэту и к тому, что и о чем он писал, – самая душевная и возвышенная: героиня романа видит в нем «чистое сердце», которое вылилось в покорные звуки любви и утешения «усталому брату».
«Во многих отношениях, – пишет она (54), – судьба благосклоннее ко мне, чем к этим бедным (усталым) людям. Но в часы сомнений, сердечных гроз, душевной борьбы могу ли я причислять себя к тем „братьям“, которым посвящены ваши прочувствованные строки, и стать в число тех, для которых льется ваша песнь?»
Вот и еще новая сторона духовной деятельности человека, и деятельность эта сказывается в размерах, говорящих о не маленькой силе души. «Сердечные грозы» и «душевная борьба» переживаются не «как-нибудь», а настоящим образом, глубоко и в самом деле трудно. И тут видно, что и по части совести тоже дано от бога немало всего хорошего.
Совесть совестью, страданье страданьем, а и еще все-таки есть «остача», которую надо куда-нибудь девать. И эта остача также пополняется кой-какими почти детскими средствами:
«Вышепоименованные messieurs – X, Z и NN – три моих самых ярых поклонника, все трое, замечательно изящные молодые люди. Моей симпатией пользуется больше всех NN. Высокий, стройный брюнет, прелестный мазурист, бонмотист и флейтист, в высшей степени bon enfant, надоедающий мне только тем, что, где бы я ни была, дома ли, у знакомых ли, он неотступно следует аа мной по пятам. Я не могу сделать движения, чтобы NN сломя голову не бросился в мою сторону; недавно, задев шпорой столик с разными куклами, он повалил их и все разбил. В наказание я заставила его на четвереньках собрать все осколки и чуть не умерла от смеху, когда этот большой мальчик ползал у моих ног. Z более сдержан; ему раз навсегда принадлежат все первые мои кадрили, где бы я ни танцевала. X я вам описывала, он меня давно знает, давно любит, и я его давно мучаю, впрочем иногда целует мою руку. Для него двери всегда открыты, он балует моих детей, дразнит моих древних теток и двух левреток, прелестно поет, с мужем на „ты“. Когда муж уезжает, то X обыкновенно считается нашим factotum'ом: приносит конфет, ноты, новые книги, читает, когда я разрешаю, ваши стихи…» (69).
Еще есть какой-то моряк, «имеющий дерзость меня любить», который привез героине романа в подарок японское опахало из павлиньих перьев, висящее как раз «над моим диванчиком и устроенное так, что оно плавно и тихо веет хоть без конца, если прижать пружину» (26).
Вот под этим-то опахалом, в комнатке, которая называется «фонариком» и действительно чрезвычайно изящна, в комнатке, где играют «большие мальчики» и левретки и где стоят статуэтки, – здесь любимое место героини; здесь так удобно наблюдать в окно шумную жизнь города, читать, писать и заниматься рукоделием. Да, и на это еще находится время и охота. В течение полугода графиня вышила себе русский костюм: «начиная с первой бусинки кокошника и кончая последним шелковым крестиком рубашки и передника из че-чун-чи, – я все вышила сама». И как вышила-то!.. «Если у вас найдется другое полотенце (она подарила поэту полотенце), то бросьте его в море, а мое оставьте» (53), потому что во всяком случае работа превосходная. Золотые руки бог дал!
Однакож всего не перечтешь. «Роман графини» тем и, хорош, что в нем фигура героини и ее нравственная личность очерчены до мельчайших подробностей. Читая эти легкие наброски, маленькие записочки, из которых состоит роман, поражаешься той непомерной массой живых сил человека, которые этому человеку необходимо проявить в жизни и действии, чтобы жизнь эта не была исполнена прорех и пустых мест. Как художественное произведение «Роман графини» тем и привлекателен, что в нем рисуется пред вашим воображением образ человека, живущего полною жизнью, без прорех, пустых мест, и читателю нельзя не любоваться этим художественным образчиком жизни, ничем не стесненной, не притиснутой, не поставленной малейшим образом в какое-нибудь ложное положение и дающей волю духовной деятельности раскрываться и развиваться во всей полноте.
Образчик такой полной, цельной жизни так приковал к себе мое внимание, что я, вместо того чтобы подвести, наконец, итоги и «подсчитать», что именно нужно человеку, желающему чувствовать себя «целым», а не дробью, – вместо этого я, забыв мои статистические обязанности, продолжал по окончании чтения любоваться художественно изображенным обликом и радовался, что автору удалось так удачно выбрать лицо, поставленное в современном строе жизни в наилучшие условия; радовался, видя, что полно живущий человек – большая приманка любить живую жизнь на земле.
Думал, думал я об этом целом человеке, думал, припоминая подробности романа, думал и так вообще о том же деле и скоро почувствовал, что мои мысли, нисколько не прерываясь в своем течении и не сбиваясь с пути, сосредоточиваются на чем-то уже совсем не подходящем к облику героини романа, облику, который как бы даже затуманился какими-то новыми обликами, ни на волос и ни в чем не подходящими к источнику моих мыслей, к роману и его героине, и в то же время вовсе не нарушающими правильности течения мыслей о «целом человеке».
3
– Эх, беда, Ваське-то года не вышли, женить нельзя! А без бабы не совладеть с домом!
Неведомо как и почему вспомнилась и даже послышалась мне довольно-таки давняя жалоба моего деревенского соседа, крестьянина, у которого захворала жена. Крестьянин этот уже пожилой человек, начинавший раскисать и слабнуть; он со своей старухой успел уже выдать замуж трех дочерей, одного сына сдал в солдаты, другой женился и отошел, а теперь на руках стариков остался сын, которому нехватало полутора года, чтобы жениться, две внучки от одной из умерших дочерей да сам старик со старухой.
Жалоба о том, что Ваське не вышли годы, началась тотчас после того, как Аксинья, жена соседа, стала хворать. Прихворнула она в первый раз года четыре тому назад, но ни на минуту не останавливалась в работе. Она постоянно перемогалась, стала жаловаться соседкам на боль то в боку, то в животе, то в спиие, но продолжала делать свое дело без малейшего опущения.
Мало-помалу недомоганье стало одолевать Аксинью все сильнее и сильнее, и бывали дни, когда она по полудню не могла встать на ноги. А по мере того, как шло недомоганье Аксиньи, дом моего соседа как-то омрачался; старику приходилось делать иной раз и бабье дело, а молодому парню случалось и белье полоскать на речке: все это становило мужиков в неловкое положение, затрудняло, нарушало порядок жизни; от всего этого было им и неловко и скучно.
Беда моего соседа и его дома заключалась, между прочим, и в том еще, что и сам он, отец семьи, и его сын, да и вообще вся мужская половина семейства – были не из бойких, не быстрых умом и не расторопных людей. Аксинья чувствовала эти свойства своего мужа, перешедшие потом и в детей, с самого первого дня свадьбы; она знала, что муж ей попался не ахти какого достоинства, хотя и был добр, и тих, и не пьющ. Сама имея добрый характер и непрестанно занятый ум, она не позволяла себе срывать зло на мужнину и детскую «нескладность» – и прожила всю жизнь, вплоть до болезни, почти молча, в беспрерывном труде. Теперь же, когда она стала прихварывать, недальний ум и природные нескладности «мужиков» стали сказываться в обиходе жизни всего дома ежеминутно. По мере того, как в Аксинье замирала энергия труда, в отце и в сыне просыпались ничем не препятствуемые свойства нескладности. Оба они стали больше скучать, жалеть Аксинью, чем работать. Старик в унынии целые дни твердил:
– Эх, Васька-то не дорос!.. Как без бабы можно!..
Он убивался, охал, а хозяйство понемногу расстраивалось и шло к упадку.
– Иван Андреич! – скажешь, бывало, охающему соседу. – А ведь забор-то ваш валится… Надо бы вам поправить!
– То-то Васька-то не вышел! Как тут одному сладить? Вестимо, валится!
Подойдет к забору, посмотрит на его разрушение собственными глазами; оказывается, забор, точно, еле жив.
– Ишь, – скажет Иван Андреич, – и то! Эво как его разломило!
Возьмется обеими руками за накренившуюся верхушку столба и «попробует» поставить его прямо. Но от этой пробы подгнивший столб только трещит в корню и еще ниже опускается к земле.
– Ишь, вот!
– Теперь он совсем повалился!
– И есть, что совсем. Ах, баба-то захворала! Эко горе, Васька-то не дорос!
На том дело с забором и оканчивается; а если через несколько времени и продолжается, то непременно в том же самом роде:
– Иван Андреич! Ведь твои свиньи стали ко мне шляться! Сам ты посуди – ведь огород!
– Да ведь конечно! Сам знаю! Ишь, как его повалило!..
– Совсем упал ведь! Надо же подпереть-то!
– Как не надо? вестимо, надо подпереть!
Удрученный тоскою, Иван Андреич опять подходит к столбу, бьет в него ногой, как бы желая убедиться в его гнилости, и, выбив его окончательно, – причем разрушаются и обе примыкавшие к столбу части забора, – с великим унынием говорит:
– Н-но! вон как уж! Ах, баба-то у меня хворает!.. Эх, Васька-то!
А Аксинье становилось все хуже и хуже, и она стала лежать, больная и недвижимая, по целым неделям.
Тем временем Васька, похожий на родителя по характеру и по «нескладности», хотя и добрый парень, не видя в отце ничего понуждающего к энергическому труду, ничего дисциплинирующего и вообще чувствуя, что при данных обстоятельствах пока «ничего не сообразишь», – также поослаб в труде и предпочитал чего-то ожидать, прежде чем действовать. Полюбил он в это время, от нечего делать, ходить к пастуху в гости и вести с ним разговоры о божественном, о святых, мучениках… Любил и сам рассказывать жития.
Иной раз сидит у развалившихся ворот и повествует между маленькими ребятами о разных чудесах.
Идет мимо какой-нибудь хозяйственный, деловой мужик, остановится, послушает и скажет:
– Эко лень-то в тебе, Васька, разыгралась! Некому вас с батькой приструнить, мать-то хворает… Нашел какое дело – разводы разводить языком!..
– Я про божьих угодников…
– Очень просто скажу, не твое это дело! Поди, поставь свечку, положи поклон и иди к своему делу. Ишь вон ворота-то как разломило, а ты на небо лезешь с разговорами? Нет, брат, возьми топор да вбей гвоздь, – лучше будет… Нам, брат, в угодники с тобой не попасть, а это лень тебя обуяла – вот что скажу! Тебе когда года-то выдут?..
– Да уж теперь скоро… Осенью войду в совершенные года.
– Женить тебя надо! Она, жена-то, снимет тебя с небеси-то… Авось ворота поправишь.
Ко времени совершеннолетия Василия Аксинья слегла совершенно.
Маленькое тело ее, скорчившееся под грудой всяких тряпок, тихо и недвижимо лежало на деревянной жесткой кровати и только удушливым кашлем, иногда по целому часу непрерывно «колотившим» ее грудь, давало знать о том, что она еще жива. Нетерпенье Васильева отца относительно его женитьбы возрастало с каждым днем, и когда, наконец, настали для Василия «совершенные года», он, положительно как полоумный, стал сватать за своего сына всех девок без разбора. Сватал он так неискусно, так бессмысленно торопил: «поскореича!», так бестолково упрашивал, бросался от одной невесты к другой, что только перепугал всех девок.
Накинулся было он впопыхах на молодую горничную, жившую в моем доме, и, не разобрав того, что она уже носит «дипломат» и «все такое», видя в ней только ее здоровье и способность к работе, пристал к ней неотступно, приходил к ней в день десять раз вместе с сыном, оба стояли без шапок, просили всячески, доказывали, что надо спешить, что мясоед скоро кончится, что затем косьба. Словом, между ними иногда бывали сцены истинно комические: отчаяние со стороны жаждавшего «бабы» отца и в ответ необычайное издевательство и кокетство петербургской горничной.
– Ополоумели они из-за бабы-то! – говорили в народе.
При «нескладности» как отца, так и сына вообще во всех житейских делах едва ли они оба могли бы сделать что-нибудь путное для своего дома. По обыкновению, в дело вмешались «добрые люди» и стали сватать им невест из других, весьма глухих деревень, вследствие чего отец и сын часто должны были на два и на три дня уезжать из дому. Две внучки, по одиннадцатому и двенадцатому году, да какая-нибудь старуха-соседка, взявшаяся покараулить дом, и умирающая Аксинья оставались дома одни. С каждым днем дом этот близился к полному запустению. Скотина шаталась по дворам, голодная и беспризорная, а на дворе был чистый хаос, и для деятельного крестьянина было даже нечто жуткое: при виде всего этого хлама – колес, жердей, телег, полуразвалившихся, кое-как связанных и сколоченных саней, словом, всего хлама, потерявшего вследствие прекращения в доме жизни всякий смысл и значение, – жутко думалось деятельному мужику: о суете сует начинал думать он, о смерти, о тщете жизни, и ему вообще становилось страшновато за ее бессмыслицу и тяготу. «Поскорей бы уйти в жилое место!» – думалось ему, и он спешил уйти… Смертью веяло от всего двора и от дома Ивана Андреева, и скучно было даже смотреть на этот дом.
Наконец пронеслась весть – «нашли!»
Весть эту привезли отец и сын, промчавшиеся по деревне в каком-то неистовом состоянии, погоняя измученную клячу из всех сил. Дело не откладывалось в дальний ящик; в тот же день сладили со священством, а через день состоялась и свадьба.
Привезли молодую красивую девушку, которая не уживалась с злой мачехой.
На наших глазах в разоренный двор, в развалившиеся ворота, на лошади, у которой в тощей гриве виднелся розовый бант, въехала молодая, красивая, также с цветочком в волосах девушка и не спеша вошла по расшатавшемуся крыльцу в разваливавшийся дом.
И в дом вошла жизнь.
Оживание – что будешь делать? – началось смертью Аксиньи.
Бедная, измучившаяся трудовою жизнью старуха если и дышала еще и глядела на белый свет, то только потому, что в ней жила забота о доме, тоска о разрушении хозяйства; эта печаль не давала прекратиться в ней жизни, двигала в ней последние капли крови, сжимала умиравшее сердце.
Но вот вошла в дом молодая сила, и достаточно было старухе «глянуть» на эту молодость, чтобы без малейшего сомнения дать этой молодости и силе дорогу. Как весенним резвым ветром пахнуло в лишенном жизни доме. Пахнуло им и на старуху, сдуло с ее сердца, как сухой листок, печаль и заботу, то есть все, от чего в ней еще сжималось сердце и двигалась кровь, и Аксинья испустила последнее, едва слышное дыхание.
Маленький дощатый гроб, в который ее уложили, легкий, как перо, и нечувствительный для четырех дюжих плеч, – легко и проворно бежал на кладбище, точно так же легко и проворно, как Аксинья, бывало, работала, ходила и все делала при жизни. Как будто и теперь она не хотела понапрасну тратить времени, зная, что оно дорого в хозяйстве. Она точно спешила теперь к своему новому дому, на кладбище, чтобы не мешать новой хозяйке оживлять ее старого пепелища.
Толстый, пышный, румяный пирог, закрытый плотным, как лубок, и расшитым петухами полотенцем («ейное»рукоделие), принесенный мне на второй день свадьбы молодыми, был первым знаком того, что в отжившем доме началась новая жизнь. Молодая женщина – вся живая сила, скромная и могучая – мгновенно преобразила «нескладных» людей. Они были неузнаваемы; даже лицо старика, начавшее походить на тряпку, сияло, налилось и лоснилось, а Василий держал себя с такой усиленной бодростью, точно солдат во фронте. Он также весь сиял, лоснился, но, видимо, почувствовал бесповоротно, что с миром чудес у него все сношения прерваны.
Со второго же дня свадьбы все соседи, все прохожие почувствовали, что в холодном и пустом доме, как в котле, под которым до сих пор не было дров, начинал разгораться горячий огонь. Из всех сил старик с приятелями хлопотал у ворот, приводя их в порядок; стук молотка, топора стал раздаваться поминутно то в том, то в другом углу двора. И отец и сын поминутно сновали по двору, появлялись на крыше развалившегося сарая или у трубы, которая почти развалилась. Не покладаючи рук, приводили они в порядок и трубу, и крышу, и заборы. Меланхолик Василий не имел минуты свободной для мечтаний и летал на кляче то на реку за водой, то в лес за дровами. Куры, которые в период безвременья бродили где попало, – все собрались в одном месте и открыли начало новой жизни непрерывным кудахтаньем. Всякая тварь радовалась теплу, которое исходило из начинавшего теплеть дома. С появлением молодой бабы весь хлам трудовых приспособлений, бесполезно загромождавший двор, получил смысл и значение и стал исполнять свои обязанности. Все оказалось нужным, необходимым, и до того необходимым, что весь дом начал жалеть, что у людей «рук нехватает» на то, чтобы управиться.
И именно «баба» дала смысл всей многосложности труда, составляющего жизнь крестьянского дома. Всем нужно быть сытыми, одетыми, обутыми; нужно ждать детей, нужно потом ходить за ними, одевать, обувать, нянчить, растить, беречь. Словом, вся перспектива жизни человеческой раскрылась вновь перед всеми живущими в доме, и потому именно раскрылась эта перспектива от появления молодой женской силы, что внесенное ею разнообразие, повидимому только «женских дел», – находилось в действительности в неразрывной связи с разнообразием всех дел мужиков и, только сливаясь воедино, давало смысл и содержание жизни целой семьи. Ездить за дровами и топить печь, чтобы было только тепло, – скучно; но ездить за дровами для того, чтобы и тепло было, и чтобы молоко оттопить ребенку, и чтобы спёчь хлеб, чтобы выстирать белье, чтобы вымыть ребенка, – это дело стоющее, и поэтому «беспременно» надо ехать за дровами, хоть даже воровать.
Вот, кажется, собственно на этом-то пункте, то есть на неразрывности женской и мужской трудовой жизни в народной среде, – я и утратил незаметным для меня образом то чрезвычайно радостное ощущение «полноты» существования, которое получилось от чтения «Романа графини». Конечно, полотенце она, графиня, вышьет такое, что все остальные действительно следует выбросить в бездну моря; но у деревенской женщины даже и такая, повидимому, бабья мелочь, как полотенце, все-таки дело не бабье только, а взаимное; даже и в этом пустяке ее муж должен принимать участие – пахать под лен, сеять и т. д. И если представить себе, что нет такого женского или мужского, большого или малого труда в народной среде, который бы не был неразрывно связан взаимным сотрудничеством, то полнота бабьей и мужской жизни во всех отношениях будет, пожалуй, поразностороннее, чем описано в романе.
Ставши на эту точку зрения, я невольно стал припоминать Марфу, молодую жену Василия, во всевозможных и разнообразнейших положениях ее трудовой жизни. Вот она едет на высоком возу сена и даже песню поет («Рябинушку»): это она помогала мужу сушить и сгребать сено, участвовала в мужицком труде; но, с другой стороны, когда она ставит хлебы и когда у нее заняты руки, муж ее должен взять ребенка, играть с ним, сказки ему сказывать, игрушку делать. Да и не в доме только делают они одно общее дело, а и в обществе. Она, Марфа, не вмешается в сходку, не предъявит своего бабьего мнения всенародно, но уж в стороне «от мужиков» непременно стоять будет и будет слушать в оба уха все, что галдят мужики, а почуяв какую-нибудь прикосновенность разрабатываемого вопроса к своему дому, непременно оттащит мужа за рукав и так «внушит» ему, что он не дастся в обиду и не продаст за стакан вина своего голоса в вопросах, касающихся, положим, деревенского бюджета. Да и непосредственно она не чужда связи с общественным делом, неразрывным с делом домашним: она вот теперь беременна, а ей надобно сегодня ночью идти молотить; неразрывность трудовой жизни сделает то, что пойдет молотить муж, а она исполнит за него обязанность ночного караульщика. Сидеть у ворот и стучать в колотушку ей легче и по силам.
Однако трудовая жизнь ее не исчерпывается одним только трудом рук; есть у нее и духовные интересы и знания. Она вот твердо знает, что когда захворают овцы, то надобно молиться угоднику Самоову,и хотя батюшка говорит ей, что такого угодника нет, а есть господь Саваоф, но она, не желая оставить овец без защиты и помощи, все-таки продолжает быть уверенной, что и угодник Самоов, самый овечий,настоящий защитник, – должен быть от бога дан непременно. Конечно, это не настоящее знание, да где же ей взять настоящего-то? И детей она сама лечит, и есть у ней на этот счет также собственные свои знания; знает она, когда и как и при какой болезни что надобно шептать, и как заговаривать воду, и какую пить траву. И эти знания, разумеется, совсем не настоящие, но и тут она опять не виновата: ни она до знания, ни, тем печальнее, само знание не дошли друг до друга и когда дойдут – неизвестно! А если бы дошли, то, разумеется, Марфа не стала бы шептать пустяков, а стала бы делать настоящее дело.
Мало-помалу достоинства жизни Марфы стали окончательно преобладать над достоинствами жизни графини. И Марфа умеет петь, и она до седьмого часу отлично отплясывала на вечеринках, а рыбу и раков они теперь с мужем ловят каждое лето и притом даже совсем без «сапожек»; умеет и она приготовить, во-первых, «маленький» ленч в четыре часа утра, потом (в рабочую пору) «настоящий» ленч в девять часов, потом обед, потом полдник, потом ужин; умеет и она привлекать сердца «больших мальчиков», но деревенские большие мальчики худа ей не смеют делать, и когда один хотел было, чтобы она «обратила на него внимание», столкнуть ее с дровней, на которых она ехала с бельем к проруби, – то она сделала такой веселый жест, что «большой мальчик» сразу стал на четвереньки и мог проговорить только – «однако!», чем и заставил Марфу хохотать до упаду. Словом, все, что может проявить в жизни богато одаренная натура героини романа, все проявляет и Марфа, с тою только разницею, что ее полнота жизни неразрывно и во всех подробностях слита, во-первых, с жизнью мужа, а во-вторых, далеко не отделена от жизни общественной, мирской, в которой она участвует своей мыслью и своей заботой.
Это последнее преимущество – неразрывность интересов семьи с «миром», обществом – окончательно помрачило передо мною очарование того самого фонарика, откуда видна вся кипучая (?) жизнь Петербурга и где веет опахало, привезенное моряком, который имеет смелость и т. д.
Но когда я исчерпал все достоинства Марфы, мне стало как-то жалко утраченного впечатления романа. Впечатление было хорошее, а в деревенской глуши, не часто балующей такими прелестями, и подавно. Мне сильно захотелось опять восстановить это впечатление, опять немного полюбоваться изображенным в романе, и я вновь стал его перелистывать. Но увы!.. Теперь мне стали попадаться такие строчки, которые я проглядел под первым впечатлением и не обратил на них никакого внимания. А теперь именно они-то и выступили с особенной ясностью и окончательно истребили во мне все, что я за полчаса еще считал таким прекрасным и поэтическим.
4
Темным облачком затемнилась сначала одна, час тому назад яркая и светлая страница, а за ней другая и третья. На одной мелькнула мне такая прозаическая фраза:
«Муж мой состоит при одном из министерств и из двенадцати месяцев в году восемь проводит вне дома. Сперва мне эти разлуки стоили горьких слез, теперь я привыкла…»
А на другой и еще прозаичнее:
«Когда муж приезжает, не наглядится на меня. А пройдет месяц, другой, смотришь – завязываются чемоданы, приготовляются, чистятся ружья, и – прощай! „Нельзя, мое дитя, долг службы!“» (27).
А третья страница так и совсем меня доконала:
«Отъезд мужа может расстроить мои намерения, а он скоро может уехать. Жалею очень, что мы не миллионеры;муж бы тогда не служил и не оставлял бы меня» (42).
Прочитал я эти строчки – и сразу все великолепное видение рассыпалось прахом!
Как старик в сказке о рыбаке и рыбке, когда золотая рыбка ушла в море, ничего старику не сказавши, «лишь хвостом по воде плеснула», – так и я очутился теперь в недоумении пред какой-то безотрадной пустотой. Передо мной, как и перед стариком, исчезли все сказочные чудеса, очутилась старая землянка, на пороге землянки не царица, а старуха,
А перед ней разбитое корыто!..
Тайна сказочного великолепия стала совершенно ясна. Была золотая рыбка – и великолепие было, а ушла рыбка в «глубокое море» – и осталось от всего только землянка, да старуха, да корыто!
Будет миллион или, проще, купон – будет и ленч; сначала малый, потом настоящий, потом «всевозможные» занятия (от 12 до 3), потом «всевозможные скитания» до 6, потом обед, потом увеселения, которых не перечесть, будет и воспитание детей, и благотворительность, и танцы до семи часов утра, и тройки, и раки, будет любящий муж, и поклонники, и певцы, и поэты, и вышивки, и фонарики, и все – все будет! А не будет купона – ничего не будет!
А вот Марфа…
Но нет! я положительно не смею говорить о Марфе. То, что я сказал бы в пользу полноты ее существования, могло бы показаться умышленным разукрашиванием ничем не разукрашенной «бабьей жизни». Это действительно так, и трудно пожелать кому-нибудь «отведать» на собственном опыте всю эту «полноту» теперешней деревенской нищеты, тяготы и всякой недостачи, одинаково знакомых как мужскому, так и женскому населению деревни.
Но если «действительность» народного строя жизни скудна и не дает возможности фактически подкрепить и разукрасить пред читателями особенности этого строя жизни – все-таки самая сущность этого строя заслуживает полного внимания. Отделив эту сущность от суровой действительности народной жизни, мы все-таки получим возможность довольно ясно представить себе основания, на которых может держаться более или менее полное,действительно цельное существование человека.
Откинув наличность нужды, нищеты и всякой тьмы, мы получим в совершенно ясном виде следующие основные черты народного строя жизни: во-первых, семья, в которой мужчина, как и женщина, необходимы друг для друга потому, что только неразрывная во всех отношениях трудовая жизнь их – и есть основание всего строя, жизни. Ни бабе, ни мужику жить друг без друга нельзя, и своегодома у них ие будет. Смысл существования и вообще жизнидля них обоих получается только тогда, когда они «вместе» и «вместе во всем». Это первая, отличительная черта народного строя жизни, а другая заключается в том, что жизнь семьи, доманеразрывна с мирскою, общественною жизнью; семья имеет на нее непрерывное влияние, точно так же как и сама постоянно чувствует влияние мира на себе.
В этих двух характерных чертах народного строя жизни заключаются все данные для многостороннейшего проявления человеком всего, что в нем есть божеского и человеческого.








