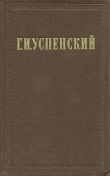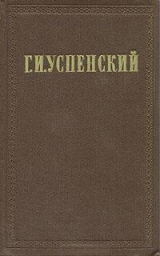
Текст книги "Письма с дороги"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Однако же и это прискорбное обстоятельство значительно смягчается еще третьим, кроме перечисленных выше, препятствием грядущему греховоднику. И препятствие это пожалуй что будет поценнее всех вышеупомянутых: это – бухта. Она действительно похожа на котел и кипит, как котел на огне, когда начнет здесь свирепствовать норд-ост или по-здешнему бора.Порожняки-извозчики, переезжая в такие бурные дни через горы, наполняют свои фургоны и телеги камнями, иначе ветер снесет их в овраги, перевернет и изобьет как ему угодно.
– Иной раз бывает такая штурма, – говорил мне сторож на пристани Русского общества пароходства, – не приведи бог! По целым неделям не заходят пароходы: не пускает буря. И якорь не держит, дно каменное, не за что зацепить.
Рассказал он мне, что будто бы хотят (не знаю, кто именно) рвать горы, окружающие бухту, динамитом, чтобы "вроде как отдушины сделать для воздуху, а то как надавит его сюда, в котел-то, так точно ад кромешный раскрывается!"
Не знаю, была ли "штурма" в то время, как я разговаривал со сторожем на пристани, но, пока шел разговор, я должен был изо всех сил держать одною рукой шапку, а другою держаться за фонарный столб, потому что, на мой взгляд, ветер рвал как бешеный. Да и не только на пристани, а вот и в гостинице, все-таки на некотором расстоянии от самой "штурмы", и то приходится иметь с ветром беспрестанные столкновения! Где-нибудь отворят дверь, а ветер так ее затворит, что точно из пушки выпалит, и потрясет все здание. Покуда выбьешься из подъезда на улицу, необходимо иметь продолжительную дуэль с дверью подъезда, необходимо нападать на нее, собрав все свои силы, бросаться очертя голову и вообще не бояться смерти.
Все это весьма меня радовало, и я с удовольствием подумывал о том, что, быть может, с божьей помощью, а также и с помощью трескуна, изнеженного зерна, неумолимой боры и капризной бухты – быть может, греховоднику-капиталу и не удастся замусорить этих девственных мест, не придется "почавкать" своею сладострастною пастью всякого свеженького мясца и "кровушки свеженькой из девственных мест повыточить".
Много, много здесь весьма благоприятных условий для того, чтобы греховодник "не солоно хлебал" (так мне казалось), но, к несчастью, не меньше есть и признаков того, что греховодник идет, что он близко, что он уже разевает свою пустопорожнюю пасть, и охотников свеженькой кровушки повыточить немало стремится в эти девственные места.
Еще по дороге к Ростову, затем на владикавказской линии и далее, по станицам и по большой конной дороге к Новороссийску, постоянно встречаются люди каких-то полутемных биографий, мечтающие и рассуждающие о Новороссийске. По разговору видно, что люди эти уже видали виды; бывали они в Бессарабии, и Петербург знают, да и в Ташкенте, в Закаспийском крае изучили положение дел и карманов и, убедившись, что вообще во всех виденных ими местах никакого карманного "толку нет" и что вообще все это "пустой разговор", в конце концов норовят "попробовать и Новороссийск". Иные из них откладывают эту пробу до того времени, когда будет открыта железная дорога, а другие и теперь едут и обнюхивают новое место.
Едут какие-то восточного типа верзилы в фесках, с удрученною походкой, с беспомощно болтающеюся головой, как бы притягиваемою к земле тяжеловесным восточным носом; едут они сюда с каким-то непостижимым товаром, напоминающим обсахаренный мусор, взятый с улицы, с какими-то маленькими ягодами, перепачканными в обсахаренную грязь; но их верзильный рост и воловьи, с тупым выражением, глаза заставляют думать, что им не чужд и тот род коммерции, в корне которого таится коммерческий прием, определяемый словами "секим башка".
И жидок, нервный, напряженно внимательный, проворный, как ртуть, шмыгая по девственным местам из угла в угол, норовит прицелиться своим проницательным взором к чему-нибудь свеженькому и сочному.
Наконец и наша великороссийская "бакалейная и мускательная" щетинистая рыжая борода по временам также сверкает здесь бураками своих молодцовских сапог.
Увы! Пришел-таки и разинул пасть. Выйдя с постоялого двора и перекрестившись большим крестом, она бодро отправляется разведывать и приценяться; там запускает она руку в воз сена: выхватит клок, понюхает и даже пожует; там в горсти у нее окажется пшеничка, ячмень, овес; все это борода попробует на зуб, разгребет пальцем, подует и на руку весом прикинет, а потом крякнет и пойдет в заведение пить чай, соображать и прикидывать "так и эдак".
Но пока все эти опыты всех охотников "свеженькой кровушки повыточить" не увенчиваются никакими положительными результатами. Сколько обнюхиватели новых мест ни упражняют своего обоняния – нет! пока ниоткуда еще не несет падалью. Напротив, все еще девственно, свежо и чисто. Попробуют они и "на зуб" и "на язык", и на руку привесятся, и глазом прицелятся, да с тем пока и должны отправляться в обратный путь, в какие-нибудь новые, уже тронутые "греховодником" места, например в Екатеринодар.
Этот город действительно уже тронут практическим человеком. И хотя железная дорога еще не открыта, но практический деятель уже свил себе здесь прочное гнездышко, и, глядя на "процветание" Екатеринодара, нельзя не порадоваться непроцветанию Новороссийска: бухта – слава создателю! – пустым-пустехонька; на пристани Общества пароходства всего только пять керосиновых бочек, с десяток лодок у берега, на самом берегу штук пять не введенных в воду купален – вот пока и все здешнее процветание. Вся синяя волнующаяся гладь залива, окаймленного девственными горами, пока, слава богу, чистехонька: ни лодочки, ни парохода, ни паруса! Ко всему этому ни у лодок, ни у купален, ни на пристани около керосиновых бочек нет ни единой человеческой фигуры: ходит ветер, да волны шумят, и никакой язвы покуда ниоткуда не видать…
Да и на берегу все, слава богу, честно и благородно: домики стоят кое-где, "как бог привел"; живет ли кто в них – неизвестно; но все, благодарение богу, тихо. Амбарчики кто-то выстроил на "предбудущие времена", но "пока что", – а амбарчики заперты наглухо, и напрасно норд-ост стучит в запертую железную дверь и рвет железный висячий замок, – ничего еще в этих амбарчиках нет, а бог даст, так ничего и не будет!
– Что-то бог даст завтра! – оканчивая свой торговый день, говорит наш российский мужичок, выдвинувший в упор норд-осту и грядущему греховоднику-капиталу свой деревянный шалашик с надписью: "Кислощейное заведение с продажею квасу". И нельзя не согласиться с ним, что "завтра" для Новороссийска покрыто полным мраком неизвестности.
Этот "кислощейный" мужик и этот девственный Новороссийск чрезвычайно похожи друг на друга: мужичок выстроил на самом юру ветров шалашик из шести-семи нестроганных тесин, прилепил вверху навеса кислощейную вывеску, повесил на стену "патрет" и вид Афонской горы, поставил на тесину, заменяющую стойку, бочонок с квасом, три толстобоких стакана, пяток бутылок с квасом, перекрестился и вместе с своею "бабой" стал ждать, "что будет". До сих пор пока ничего нет: только норд-ост забирается ему под рубаху, вздувает ее пузырем на его спине. Что касается его "бабы", то и она пока имеет дело только с норд-остом: чуть вышла из будки, так ветром ее подхватит, раздует весь ее "ситчик" и того гляди умчит неведомо куда. Идут и наши земляки мимо кислощейной, да ветрено и пить холодного неохота "пока", а носастые азиаты, так те, проходя мимо, только косят глазами и на бочку и на вывеску. Так и проходит день; а часов в семь мужик с бабой выберутся из будки, заставят ее досками, помолятся на небо, поклонятся на все четыре стороны и идут домой, на фатеру, "пожевать" весового хлеба наместо ужина, идут и говорят:
– Что-то бог даст завтра!
А завтра тот же ветер, и все то же, что и вчера. Так вот Новороссийск и живет, ничего не видя "настоящего" сегодня и не зная, что бог даст завтра!
Сегодня, чтобы как-нибудь истратить целый праздный день, остающийся в моем распоряжении до прихода парохода, я задумал совершить целых пять дел и зайти в пять разных мест, полагая, что на эти пять дел уйдет все-таки хоть два часа времени. Задумал я пойти на пристань, на почту, на телеграф, в лавку купить чаю и, наконец, остричься.
После кровопролитной и продолжительной битвы с дверью подъезда, во время которой я два раза почти уже одержал победу и проникал на улицу, но тотчас же был вдуваем или даже вбиваем ветром вовнутрь гостиницы, точно так, как пулю вбивает шомпол в дуло ружья, – после всех этих мучений я в конце концов очутился все-таки на улице и здесь, оглядевшись, к крайнему сожалению моему увидел, что все пять мест, которые я задумал посетить, находятся тут же, чуть не у самого подъезда, сосредоточиваясь таким образом все в одном месте: в двух шагах почта, еще два шага – телеграф, через дорогу "бакалейная и мускательная", а в десяти шагах и пристань. Все это при деятельном участии норд-оста я посетил не более как в пять минут, и мне оставалось одно утешение – парикмахерская, где уж наверное я пробуду минут пятнадцать и таким образом хоть эти пятнадцать минут отниму у совершенно праздного дня. Парикмахерская опять-таки оказалась "тут же", в двух шагах, и была также совершенно девственна; на дверях были нарисованы люди: одного бреют, у другого отворяют кровь – рисунки, как видите, почти столь же древние, как и византийские фрески. У самой двери на полочке стояли "банки" и лежали машинки для кровопускания – тоже инструменты, давно исчезнувшие из современной парикмахерской. В комнате было накурено, так как в ней от нечего делать и, очевидно, в ожидании, "что бог даст завтра", сидели разные люди восточного, еврейского и российского типа из числа "присматривающихся", "прицеливающихся глазом", пробующих и на язык и на зуб и вообще ожидающих у моря погоды. Делать им было, очевидно, ровно нечего, и они все свое внимание сосредоточили на мне и на парикмахере, который меня стриг; они так же, как и я, наклоняли голову в ту сторону, в которую парикмахер наклонял мою, делали такие же гримасы, какие приходилось делать мне, и даже делали замечания.
– Пожалуйста, уха барину не отрежь ножницам! – сказал какой-то азиат. – Ти мине уха резал!
– Зачем нам ухо резать! Слава богу, кажется, на своем веку довольно практиковал!
Но и это занятие, к сожалению, весьма скоро прекратилось. Прекратил его я сам, испугавшись какой-то горчичницы, из которой парикмахер хотел что-то вылить мне на темя. Поблагодарив его за услугу, я поспешил уйти, и затем мне ничего иного не оставалось, как возвратиться в гостиницу, то есть сделать еще только два шага.
Гостиница пуста; кроме меня и какого-то черного человека, очевидно с полутемною биографией и таинственным большим узлом с таинственным товаром, сидящего в темном нумере, никого нет. В зале накрыт общий стол и стоит открытое пианино; но никто не играет и никто ничего не ест. Лакей спит; поспит, встанет, обмахнет салфеткой лампу, графин, вздохнет и опять сядет к столу – дремать на своих локтях. Тишина мертвая; только ветер свищет в окнах, в дверях, в трубе, в заслонке, да кошка мяукает беспрестанно. Весь дом, в ожидании, "не будет ли чего-нибудь", предпочитает дремать и даже, кажется, спит. На площади перед окнами стоит один ломовой извозчик и идет один прохожий.
Надо спать. И спать здесь хорошо, да и проснувшись также хорошо себя чувствуешь: необыкновенно приятно побыть некоторое время в таком "месте", где ничего не знаешь о прошедшем, где нет ничего в настоящем и где поэтому не беспокоит мысль о будущем. Тишина, ветер – и ровно ничего такого, что бы могло навести на какие-нибудь личные воспоминания о прошлом и предаться поэтому невеселым думам о всяких пережитых тяготах и бесплодно утраченных годах. Правда, приходили терзать меня и такие думы и воспоминания, но систематическое отсутствие впечатлений, упорная тишина, упорный шум ветра, пустота улицы и дома преодолевали напряженность мысли о прошлом и делали мысль совершенно свободной, вольной. А раз ей, этой изболевшей мысли, выпала на долю такая счастливая минута, не захочет она добровольно утомлять себя, умственно возвращаясь к покинутым воспоминаниям о тяготе жизни. Почувствовав себя на полной свободе, она, как птица, выпущенная из клетки, летит к свету и к солнцу.
Вот такое-то стремление овладело и моею мыслью, которой в этом милом "месте", именуемом Новороссийск, не за что было ухватиться, чтобы заскучать и затосковать, и потому мне стало припоминаться только то, что оставило в душе светлый след. А на мое счастье, одна только неделя переезда от Петербурга до Новороссийска, то есть одна неделя самого поверхностного соприкосновения с живою жизнью русского народа, уже много дала мне радостных минут. Об этих-то радостных минутах я и стал думать среди моего прекраснейшего и ненарушимого одиночества и, думая, ясно понял, почему мне стало теперь так весело на душе, почему меня так обрадовали и эти тихие горы, и этот "трескун", и норд-ост, и вообще все, что видел мой глаз. Была этому началу радости серьезная причина, и заключалась она в следующем.
3
Наслушавшись в Ростове, на станции, разговоров между проезжими о том, что новая дорога от станции Тихорецкой до Новороссийска уже действует и что по ней уже ездят, хотя она официально и не открыта, я задумал и сам проехаться по ней и посмотреть на новые, не виданные мною места. Но при первой же справке у начальства оказалось, что поезда ходят только служебные, а пассажиров не принимают. Такой неласковый ответ начальства дал мне повод опять загрустить о чем-то.
Нужно сказать, что при всей моей радости видеть живую жизнь тоска, намучившая меня в Петербурге, постоянно мешала моим веселым впечатлениям в первые дни поездки. Маленькие радости поминутно омрачались привычною болью изломанного сердца, и на смену вот этой капельке тепла, живой радости – грубо надвигались черные и как лед холодные воспоминания. Мгновениями казалось, что в таком настроении и ехать-то некуда и незачем, и малейшая неприятность, даже простое неудобство положительно сокрушали и обессиливали, так как трогали уже изболевшие от черных впечатлений нервы, уничтожали надежду на что-нибудь радостное, обессиливали. Вот в такое-то обессиленное, близкое к полной тоске, состояние привел меня и такой пустяк, как отказ "начальства" в билете на проезд от Тихорецкой станции до Екатеринодара. Стало мне как-то непомерно скучно и тяжко, но это продолжалось по обыкновению только мгновение, тем более что и само провидение уже пеклось обо мне.
В то время, когда я шел разочарованный после разговора с начальством, на меня пристально и по-отечески смотрели ласковые глаза какого-то российского человека. Это был какой-то низший железнодорожный служитель в рабочей блузе, с бляхой и в черном картузе с белым позументом. Его доброе, мягкое сердце, вероятно, почуяло, что у меня на душе нескладно, что мне невесело, и он, как добрый человек, должно быть, подумал обо мне:
"Зачем ему начальник неприятные слова говорит? Лучше же ему приятные слова говорить, а не то что обижать!.. Все одно: на новую дорогу его не пустят, а ежели с ним по-приятному поговорить, так все же ему будет легче. Пойду-ка я ему поговорю по-прият-но-му-то!.. Пускай же он хошь повеселей… недоедет!"
Сообразив и обдумав все это, добрый человек кашлянул, поправил кожаный пояс, развеселил свое лицо и ласково сказал, подойдя ко мне с картузом в руках:
– Вы что такое, вашскобродие, у обера спрашивали?
Я сказал и спросил его:
– Дают ли по крайней мере на Тихорецкой-то билеты?
Добрый человек вместо ответа сделал такой вид (фыркнул в сторону и картузом закрыл пол-лица), что дал мне полную возможность видеть, до какой степени рассмешил его мой нелепый вопрос.
– Да сколько вам будет угодно, столько вам билетов и дадут! – как бы оправившись от комического положения, в которое я его поставил, сказал он самым успокоительным и убедительным тоном.
– Будто дадут?
– И, будьте так добры, оставьте!
– Вот это славно!
– И сколько вам угодно! И очень просто! Как сейчас приехали, и сейчас взяли билет, и больше ничего – поезжайте с богом!
– Отлично!
– И ни боже мой, нисколько! А как будет звонок, тогда я прибегу за вашим чемоданчиком, извольте только помнить седьмой номер… И билетик до Тихорецкого возьму и место займу!
– Ну спасибо! Отлично!
Он так приятно говорил, что я тут же счел нужным его поблагодарить "в руку".
– А вы, – продолжал он, изыскивая новые способы проявить свою ласковость, – а вы извольте спокойно гулять, чай кушать. Или порциями чего-нибудь, что потребуется, и нисколько не опасайтесь! Сколько потребуется билетов, столько и дадут, и поедете с богом, приятным манером… Даже и насмешили вы меня, господин, вашими словами, ей-богу!.. Да сколько только угодно!..
– Ну спасибо, спасибо! Благодарю очень!
Приятные слова доброго человека дали мне возможность в самом приятнейшем расположении духа провести время в ожидании поезда, в таком же приятнейшем состоянии ехать всю дорогу до Тихорецкой, да и там, когда оказалось, что добрый человек единственно только из-за своей доброты создал легенду о раздаче билетов, и там мне не было скучно, потому что легенда была веселая и выдумана не под влиянием дурных побуждений. "Добрый человек!" – думалось мне, когда я окончательно убедился, что билетов нет и что вместо них только одна приятная легенда. За эту приятную легенду я и сейчас благодарен доброму человеку, потому что ей я обязан хотя и совершенно случайной, но в высшей степени радостной встрече с одною переселенческою партией крестьян.
Когда эпизод с легендой о билетах (просьба у начальника станции, обер-кондуктора, даже буфетчика и постоянные ответы: "Нет! Невозможно! Не дозволяется!") был совершенно закончен, то есть когда поезд ушел, станция совершенно опустела и мне пришлось искать себе ночлега, тогда, оставив свои вещи у сторожа, я вышел со станции на какое-то огромное пустопорожнее, безмолвное пространство и, оглядевшись, заприметил вдали мелькание нескольких огоньков. На эти огоньки я и пошел. – Светилось, по русскому обычаю, в самом популярном и передовом во все времена и во всяком месте учреждении – в кабаке. Рядом с кабаком был и трактир с "номерами", где мне пришлось взять комнату, так как на станции не было ни малейших удобств для приезжающих. Но номер был так мал, душен, грязен и вообще невозможен во всех отношениях, что, помаявшись в нем часа два, я не выдержал и вышел на улицу.
Было темно; тучи застилали месяц, который как будто силился выглянуть и высвободиться из этой темноты, но темнота упорно в этом ему препятствовала. Едва можно было разглядеть человеческие фигуры, длинным рядом сидевшие на длинной лавке у забора, примыкавшего к воротам трактира. Кое-как оглядевшись в темноте и приметив на конце лавки кусок свободного места, присел в компанию к этим неясным фигурам и я. На мое счастье, месяц вырвался-таки из тюрьмы весенних туч и осиял всю окрестность на огромное пространство. Ясно очертились недостроенные корпуса будущей большой станции. Засверкали на двух-трех из нового теса сколоченных бивачных лавках золотые буквы вывесок, стали видны там и сям крыши бараков для рабочих и наскоро сколоченные помещения для служащих – вот и все, что осиял вырвавшийся из туч месяц. Никаких иных сооружений, кроме кабака и трактира, о которых я уже упоминал, на ровном бесконечном пространстве, очертившемся под сиянием лунного света, не было видно кругом. И несмотря на эту пустынность, к моему большому огорчению, уж и сюда набрело немало всякого случайного человека, который плетется на будущие греховодниковы приманки со всех концов Руси и во все концы Руси. Месяц, осиявший окрестности, осиял и моих соседей, и я увидел сразу, что народ этот – низший сорт, но непременный сопутник греховодника, вторгающегося во все наши "непочатые углы". Должно быть, что города наши, где греховодник успел уже развернуться вполне, накопили этого темного народа так много, что он вынужден расползаться не только по селам и деревням, но даже и по таким пустырям, как то место, где мы теперь находились вместе с моими соседями по лавке.
Соседи эти по временам вставали с лавки и уходили в кабак, и фонарь, висевший над дверью кабака, давал мне возможность довольно отчетливо рассмотреть моих соседей, их фигуры и костюмы: резиновая калоша на одной ноге, а на другой ничего, штанина, разорванная до колена, рукава каких-то разорванных во всех направлениях хламид, так же как и хламиды, разорванные до локтя, – вот костюмы, и ко всему этому охрипшие горла, сиплые голоса. Разговоры этих охрипших людей были совсем не крестьянские, то есть не о своих делах,а как раз наоборот – о чужих; мои собеседники обсуждали положение дел, обозревали текущие события, «новости дня», как бы ища в этом материале чего-то подходящего. И опять-таки ужасно: «новости дня» даже и в таком-то пустопорожнем месте, как недостроенная станция, уже изобилуют всякою несносною кляузой и мутью.
– Завтра, вишь, – хрипит и лает обозреватель тихорецких новостей дня, – следователь приедет.
– Н-ну? – могильным голосом, в котором слышится испуг и даже ужас, не вопрошает, а как-то стонет человек в резиновой калоше. – Чего ему?
– Хайкину лавчонку будут обыскивать… Заклады берет, деньги дает пустяковые, а выкупить не позволяет, упирается. У Сашки серебряный порцыгар так-то пропал.
– А чепочку тоже Сашка-то закладывал?
– Эта чепочка у Михайлы пропала. Сашка не закладывал.
Обозреватели полагают, что Хайка непременно должна вывернуться, так как Хайка заручилась отличнейшим адвокатом. Вон уж и адвокат завелся на пустом месте, и на том же пустом месте завелось адвокату дело. И сколько дел! Вот хоть бы этот кабак: ведь кажется, что и стоит-то он на этом пустом месте без году неделю, а уж "дело" опутало его со всех сторон! По закону выходит так, что трактирщик должен сломать целых полдома, именно ту часть, где находится кабак. Если он полдома разломает, то поступит по закону. Если же не разломает и не перенесет кабака на законное расстояние, то он поступит против закона и должен ответить. Без адвоката, как видите, выпутаться невозможно, и адвокат, как я слышал от обозревателей "дня", изловчается. Он хочет оставить и кабак и трактир на том же месте, причем все выйдет "по закону". Будет дело поставлено так: теперь крыльцо в кабак прямо с улицы, и если мерить от станции до крыльца, то кабак будет противозаконный. Адвокат, обороняясь бумагами, в то же время придумал следующее: дверь с улицы забить наглухо, а вход в кабак сделать сбоку дома из задних сеней. Таким образом, если смерить от станции до задних сеней, то окажется, что кабак имеет "против закона" еще преимущество на две с половиной сажени.
– Одно слово – башка! – хрипел обозреватель. – Здорово счистил с трактирщика, а уделает!
– Да, стоит!
Немало в самое короткое время наслушался я таких "новостей дня", и всё самого темного свойства; право, нельзя было не надивиться той поразительной быстроте, с которою "рубль" в столь короткое время умеет собирать вокруг себя такую пропасть всей этой мути.
Ведь давно ли, кажется, то самое место, где мы теперь сидим на лавочке, было все чисто и светло, и ничего здесь не было, кроме степной травы; но вот пришло "предприятие", запахло наживой, "оборотом", и уже все тут есть: "и часы пропали… и в залог принимает… и адвокат наживает… и следователь едет… и запечатывать хотят", а затем уж и суд и острог рисуются в перспективе. Какая пропасть "дел" и людей, которые живут "вокруг" этих дел! И какая скука от всего этого!
Опять затуманили мою голову тоскливые мысли, и я хотел было оставить моих соседей, господ обозревателей новостей дня, когда мое внимание было привлечено большой толпой простого народа, двигавшеюся по ярко освещенной месяцем площади. Ближе и ближе – слышен звонкий и частый женский и детский говор и смех – и целая масса женщин с грудными детьми, молодых девушек и девочек, мальчишек и подростков лет по двенадцати проходит мимо нас, проходит с живым говором всей толпы, писком ребят и смехом молодежи.
Дойдя до кабака, толпа остановилась, долго говорила тем чудным, общим говором, который приятен и радостен уже тем, что вам донельзя хочется проникнуть в его смысл, как хочется понять тайну того, о чем шумит река, о чем говорит лес, что творится в тайнах облаков и светлого неба. В этом говоре – не новости дня, а дело вечной, неумирающей жизни. Поговори у кабака про свои живые дела, толпа женщин прямо прошла в кабак, вытеснила оттуда всех оставшихся там посетителей и в одно мгновение заполонила обе его комнаты: одну, где пили водку, и другую – где стоял биллиард. Биллиард мгновенно был завален полушубками, кошмами, подушками, на которые бабы уложили своих детей, которых буквально были десятки. Скоро и на полу, и под биллиардом, и по лавкам – повсюду стали размещаться бабы, раздеваясь, молясь богу, нянчая и баюкая ребят. Как пчелиный улей, зашумел и зажужжал сразу сделавшийся тесным кабак, зашумел и зажужжал сотнею детских и женских звонких голосов.
Оказалось, что по ту сторону станции железной дороги, за полотном, разместилась большая партия переселенцев. На ночь, для ночлега женщин и детей, переселенцы сняли помещение у трактирщика в кабаке – по пяти копеек за ночь с человека, а мужчины ночуют около телег и лошадей в поле. Поговорить и порасспросить кого-нибудь из женщин о подробностях их переселения оказалось неудобным – все они устали, заняты были ребятами, и вообще им было не до разговоров. Волей-неволей пришлось отложить все разговоры и расспросы до утра, когда, по словам одной женщины, должны были прийти к ним мужики пить чай, брать воду. Нечего было делать, надобно было ждать до утра, и я, кое-как промаявшись ночь в моей клетушке, утром, часу в шестом, был уже опять на улице, уже разговаривал с переселенцами, и вот они мне что рассказали.
Они – бывшие крепостные крестьяне Кочубея, идут из Черниговской губернии, Борзенского уезда, в количестве ста восьмидесяти семей; идут они, конечно, от тесноты и недостатка земли, по направлению к Екатеринодару. В тридцати верстах от этого города, у некоего землевладельца г-на Воловика, купили они две тысячи десятин земли, из которых около двухсот десятин строевого лесу в предгориях. Покупка эта сделана по публикации самого г-на Воловика, кажется в "Сельском вестнике". Прочитав эту публикацию, они отправили ходоков осмотреть место; ходоки осмотрели, нашли место удобным и дали владельцу десять тысяч задатка. Но так как покупка земли была не общественная, а единичная, и сто восемьдесят домохозяев покупали каждый отдельно и "по деньгам", то для окончания этого дела г-н Воловик сам должен был (на счет переселенцев) приехать в Черниговскую губернию, в Борзенский уезд, и заключить с каждым отдельно особые частные условия, а затем все сто восемьдесят домохозяев, желая получить ссуду из Крестьянского банка, ходатайствовали об этой ссуде уже от имени целого общества.
За две тысячи десятин с лесом и пятьюдесятью избами (в этих избах жили, до покупки земли крестьянами, также крестьяне, только арендаторы; после продажи земли г-н Воловик перевел их на другой свой участок и будто бы хорошо вознаградил за постройки) они заплатили шестьдесят тысяч рублей; из них сорок пять тысяч рублей заплачены самими крестьянами, а пятнадцать тысяч, по семь рублей за десятину, дал Крестьянский банк. Количество купленной крестьянами земли распределяется между отдельными домохозяевами примерно так: самое меньшее – шесть десятин и самое большее – сорок. Откуда взяли крестьяне сорок пять тысяч наличных денег? Деньги эти получились от продажи земли на родине. Там они продали свою землю не менее 150 р. за десятину и до 200 р. Один переселенец продал только две десятины земли с усадьбой и взял за эту усадьбу две тысячи рублей. Денег от продажи земли и скота у них образовалось вполне достаточно для того, чтобы переселиться не с голыми руками; напротив, деньги на обзаведение, на покупку всего необходимого были у них в весьма достаточном количестве. Покупка состоялась в прошлом году, и тогда же, осенью, из Борзенского уезда они отправили на новую землю шестьдесят человек из своих товарищей, которые распахали часть земли под озимое, засеяли ее и воротились назад. Теперь, таким образом, переселенцы имеют уже хлеб на весь будущий год.
В Тихорецкой станции они очутились по тем же соображениям, по каким очутился и я, то есть думали проехать по железной дороге до Екатеринодара, но дорога не согласилась исполнить их желание, и они, нисколько, впрочем, не унывая, живут здесь, ожидая прихода по железной дороге вещей и разной клади, несколько сот пудов, закупая у окрестных жителей лошадей и подводы для перевозки ее и семейств. Прежде чем приступить к этой покупке, они пробовали еще раз по телеграфу ходатайствовать у правления дороги о перевозке, но все-таки получили отказ. Кстати сказать, телеграф много сделал им добра, и они очень навострились им орудовать; все важнейшие операции – относительно г-на Воловика, Крестьянского банка и железных дорог – они обделывали по телеграфу без проволочек. Благодаря разумному ведению дела они добились того, что переездка от станции Плиски Курско-Киевской дороги до Ростова обошлась им всего по восемь рублей на взрослого человека и по четыре рубля на подростка.
Все эти сведения я получил, повторяю, уже на другой день, разговорившись с переселенцами, пришедшими к женам и детям. И рассказы их и сами они произвели на меня самое радостное впечатление.
Как видите, эта переселенческая партия – партия совершенно не нищенская; у нее есть достаток; есть все, что нужно; все дела свои она сделала умно, расчетливо, без умопомрачения и приехала именно туда, куда ей следовало приехать, а не колесит неведомо где, прося "Христа ради" под окнами, как это часто бывает с нашими переселенцами, идущими на "Белые воды". Почти все сто восемьдесят семей были семьи молодые. За исключением нескольких стариков и старух, принадлежавших к большим семьям, положительно все остальные мужчины были никак не старше 30–35 лет. Это было уже новое, послереформенное поколение крестьян; гораздо больше половины взрослых были грамотные, а подростки – грамотны все; вся толпа мужчин и женщин, парубков и дивчат была просто как на подбор: молодые, здоровые, ни капельки не забитые, без малейших признаков какого-либо ярма, которое когда-то лежало на них. Единственное, что было в их прошлой, недавней жизни тяжкого и неприятно вспоминаемого, это, кроме малоземелья, "пан" вообще и, к сожалению, рядом с паном "жид". Но теперь, избавившись от наемной работы и от жидовской кабалы, они вспоминали о том и другом не иначе, как в смехотворной анекдотической форме. На панской работе, – для потехи рассказывают они теперь, – кормят таким борщом, что когда остатки его выльют на землю, то всякая собака, которая подойдет и понюхает, начинает лаять и бесноваться – такой славный у этого борща запах и вкус!