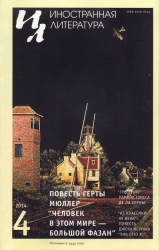
Текст книги "Человек в этом мире — большой фазан"
Автор книги: Герта Мюллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Бритва
Виндиш сидит в кухне у окна. Он бреется. Кисточкой намыливает лицо. На щеках шуршит белая пена. Кончиком пальца Виндиш распределяет этот снег вокруг рта. Глядится в зеркало. Он видит кухонную дверь и свое лицо.
Видит, что на лице слишком много снега. Рот весь в снегу. Из-за снега в ноздрях и на подбородке он, кажется, ни слова не выговорит.
Виндиш открывает бритву. Пробует пальцем лезвие. Проводит лезвием под глазом. Скула неподвижна. Другой рукой расправляет под глазом складки кожи. Выглядывает в окно. Зеленая трава на месте.
Бритва вздрагивает. Лезвие пылает.
Много недель у Виндиша была рана под глазом. Рана красная, у нее мягкие налитые гноем края. Каждый вечер в рану набивалась мучная пыль.
Уже несколько дней как под глазом засыхает корка.
Виндиш утром выходит с этой коркой из дому. Отперев дверь мельницы и засунув замок в карман пиджака, Виндиш ощупывает свою щеку. Корки больше нет.
«Наверное, лежит где-то в углублении», – говорит себе Виндиш.
Когда на улице светлеет, он отправляется к мельничному пруду. В траве опускается на колени. Рассматривает свое лицо в воде. Маленькие круги на поверхности захватывают уши. Всю картину смазывают волосы.
Под глазом у Виндиша кривой белый рубец.
Лист камыша надломлен. Он раскладывается и складывается возле его руки. Лезвие у камыша коричневое.
Слезка
Амалия вернулась со двора скорняка. Она шла по траве. Сжимая в руке коробочку, принюхивалась к ней. Виндишу виден край ее юбки, отбрасывающий тень на траву. Икры у Амалии белые. Он заметил, как ее бедра покачиваются.
Коробочка обвязана серебристой тесемкой. Амалия перед зеркалом, рассматривает себя. Отыскала серебристую тесемку в зеркале и дернула за кончик. «Нашлась у скорняка в шляпе», – сказала Амалия.
В коробочке зашуршала белая папиросная бумага. На белой бумаге лежит стеклянная слезка. На заостренном конце у нее отверстие, а внутри, в округлости, канавка. Под слезкой – записка от Руди: «Слезка полая. Заполни ее водой. Лучше дождевой».
Заполнить слезку Амалии не удалось. Стояло лето, в деревне все высохло. А в колодце вода не дождевая.
Амалия подержала слезку перед окном на свету. Снаружи она словно окоченела. Но внутри, вдоль бороздки, по ней пробегала дрожь.
За семь дней небо выгорело дотла. И Виндиш отправился на край деревни. Он поглядел на реку в низине. Небо выпило воду. Снова пошли дожди.
Во дворе вода текла по булыжнику. Амалия подставила слезку под водосток. Глядела, как вода затекает вовнутрь.
В дождевой воде обитал ветер. Он гнал вдоль деревьев стеклянные колокола. Колокола были мутными, там вихрилась листва. Дождь пел. Песок звучал в его голосе. И кусочки древесной коры.
Слезка заполнилась водой. Амалия принесла в мокрых руках слезку в комнату. Ноги у нее были перепачканы песком.
Жена Виндиша взяла слезку. В ней светилась вода. Свет был в самом стекле. А вода просачивалась у жены Виндиша между пальцев.
Виндиш протянул руку, и слезка перешла к нему. Вода поползла к его локтю. Жена кончиком языка облизывала мокрые пальцы. Виндиш смотрел, как она лижет палец, который тогда, в ненастную ночь, вытаскивала из волос покрытым слизью. Он посмотрел на дождь за окном. Ощутил эту слизь у себя во рту. Узлом рвоты стиснуло гортань.
Слезку Виндиш вложил Амалии в руку. Со слезки стекали капли, но вода в ней не убывала. «Вода соленая, – проворчала жена Виндиша. – Губы от нее горят».
Амалия лизнула запястье. «Нет, – сказала она, – дождевая вода сладкая. Это слезка выплакала соль».
Свалка падали
«Здесь и три института не помогут», – сказала жена Виндиша. Взглянув на Амалию, Виндиш подтвердил: «Руди хоть и инженер, но тут и вправду никакие институты не помогут». Амалия засмеялась. «И санаторий Руди знает не только снаружи, – не удержалась жена Виндиша. – Его туда забирали. Мне почтальонша рассказала».
Виндиш подвигал стакан по столу, заглянул в него и изрек: «Все от семьи идет. Дети появляются и тоже становятся психами».
Прабабку Руди прозвали в деревне Гусеничкой. Тонкая коса у нее всегда лежала на спине. Гребня она выносить не могла. Муж ее, не болея, рано умер.
После похорон Гусеничка отправилась его искать. Она пошла в трактир. Заглядывала в лицо каждому мужчине. «Это не ты», – повторяла она, переходя от стола к столу. Трактирщик подошел к ней и сказал: «Да ведь твой муж умер». Она стиснула в руке свою тонкую косу. Заплакала и выбежала на улицу.
Каждый день Гусеничка ходила искать мужа. Шла по домам и спрашивала, не заходил ли он недавно.
Однажды в зимний день, когда туман катил по деревне белые обручи, Гусеничка ушла в поле. Была она в летнем платье и без чулок. Только руки Гусеничка одела по снежной погоде, в толстые шерстяные перчатки. Она пробиралась через голый кустарник. Время уже близилось к вечеру. Ее заметил лесник и отослал назад в деревню.
На следующий день лесник сам направился в деревню. Гусеничка лежала в терновнике. Она замерзла. Лесник на себе донес ее до деревни. Окоченевшая, она была как доска.
«Такая безответственная, – поморщилась жена Виндиша. – Своего трехлетнего сына оставила одного на свете».
Этим трехлетним сыном был дед Руди. Он стал столяром. О своем поле даже не вспоминал. «И добрая земля заросла репеем», – подосадовал Виндиш.
Только дерево было в голове у деда Руди. И все свои деньги он на дерево потратил. «Делал из него разные фигуры, – припомнила жена Виндиша. – Каждой выдалбливал лицо: выходили какие-то чудища».
«Потом началась экспроприация, – рассказывал Виндиш. – Амалия красила ногти красным лаком. – Все крестьяне дрожали от страха. Приехали городские, стали мерить землю. Они записывали фамилии и говорили: кто не подпишет, пойдет в тюрьму. Ворота у всех были заперты. Не запер только старый столяр, отец скорняка. Ворота он широко распахнул. Когда пришли те, городские, он им сказал: и хорошо, что забираете. Возьмите и коней тоже, наконец от них избавлюсь».
Жена Виндиша вырвала у Амалии бутылочку с лаком. «Кроме него никто так не сказал, – взвилась она. Ее ярость срывалась в крик, набухающий голубой жилкой за ухом: – Ты слышишь, что тебе говорят?»
Столяр вытесал как-то из липы голую женщину. Поставил ее во дворе перед окном. Жена его плакала. После взяла ребенка и уложила в ивовую корзинку. «Вместе с малышом, захватив с собой пару носильных вещей, она перебралась в пустующий дом на краю деревни», – продолжил Виндиш.
«От деревяшек вокруг у ребенка уже тогда образовалась задумчивая дырка в голове», – добавила жена Виндиша.
Этот ребенок и стал скорняком. Едва научившись ходить, он стал каждый день отправляться в поле, ловил там ящериц и крыс. Чуть повзрослев, прокрадывался по ночам на колокольню. Он забирал из гнезда не умеющих летать совят и под рубашкой относил домой. Совят он выкармливал ящерицами и крысами. А когда они подрастали, убивал и, выпотрошив, клал в известковое молоко. Затем набивал из них чучела.
«Перед самой войной, – вел свой рассказ Виндиш, – скорняк на гулянье выиграл в кегли козла. С этого козла он здесь же, посреди деревни, живьем содрал шкуру. Люди бросились врассыпную. Женщинам стало дурно».
«То место, где из козла лилась кровь, до сих пор травой не зарастает», – вставила жена Виндиша.
Прислонившись к шкафу, Виндиш вздохнул: «Не героем он был, а просто живодером. Но на войне не с совами воевали и не с крысами».
Амалия причесывалась перед зеркалом.
«И в СС он не служил, – отметила жена Виндиша, – только в вермахте. Как война закончилась, снова ловил сов, аистов, дроздов и делал из них чучела. Забивал всех больных овец, извел всех зайцев в округе. Дубил шкуры. У него весь чердак – свалка падали».
Амалия потянулась к бутылочке с лаком. Виндишу показалось, что ему в череп набился песок. За лбом от виска до виска песчинки. Из бутылочки красная капля капнула на скатерть.
«Ты была в России шлюхой», – сказала матери Амалия и поглядела на свои ногти.
Камень в извести
Сова описывает круг над яблоней. Виндиш смотрит на луну. Он прослеживает направление черных пятен. Крут сова не замыкает.
Два года назад скорняк сделал чучело из последней совы с колокольни и подарил его пастору. «Эта сова из другой деревни», – думает Виндиш.
Всякий раз эту чужую сову в деревне застает ночь. Никому неведомо, где днем отдыхают ее крылья. Где она спит, сомкнув клюв.
Виндиш знает, что чужая сова чует птичьи чучела у скорняка на чердаке.
Скорняк подарил чучела городскому музею. Ему за них не заплатили. Из города приехали двое. Перед домом скорняка целый день простоял автомобиль. Весь белый и закрытый, будто комната.
«Эти птицы, – заявили те двое, – представляют животный мир наших лесов». Все чучела они сложили в коробки. Скорняку пригрозили большим штрафом. Тогда он отдал все свои овечьи шкуры. И ему сказали: все, мол, улажено.
Белый закрытый автомобиль наподобие комнаты неторопливо выехал из деревни. Жена скорняка со страху улыбалась и махала вслед.
Виндиш сидит на веранде. «Скорняк позже нас подал, – размышляет Виндиш. – Он в городе уплатил».
Виндиш слышит, как шелестит листок на мощеной дорожке. Листок скребется о камни. Стена длинная и белая. Виндиш закрывает глаза. Чувствует, как стена, вырастая, приближается к его лицу. Известь жжет лоб. Камень в извести разевает пасть. Яблоня вздрагивает. У нее листья – уши. Они вслушиваются. Яблоня питает свои зеленые яблоки.
Яблоня
За церковью до войны росла яблоня. Эта яблоня сама пожирала свои яблоки. Отец ночного сторожа тоже был ночным сторожем. Однажды летней ночью он стоял за буковой изгородью. Ему было видно, как вверху, где у яблони разветвляются сучья, открылась пасть. Яблоня пожирала яблоки.
Утром ночной сторож спать не лег. Он пошел к деревенскому старосте. Рассказал ему, что яблоня за церковью поедает свои яблоки. Староста расхохотался. Когда он смеялся, у него моргали оба глаза. В этом смехе сторож услышал страх. Крохотные молоточки жизни стучали в висках у старосты.
Ночной сторож отправился домой и, не раздеваясь, лег в постель. Уснул. Спал весь в поту.
Пока он спал, яблоня до крови натерла старосте виски. Глаза у него покраснели, во рту пересохло. Пообедав, староста избил жену. В супе ему привиделись плавающие яблоки. Будто он их проглотил.
Уснуть после обеда староста так и не смог. Закрыв глаза, он слышал за стеной древесную кору. Кора висела кусками в ряд, покачивалась на веревках и пожирала яблоки.
Вечером староста созвал общее собрание. Люди сошлись. Староста назначил комиссию для наблюдения за яблоней. В комиссию вошли четверо зажиточных крестьян, пастор, учитель и сам староста.
Слово взял учитель. Комиссии он дал название «Комиссия летней ночи». Пастор отказался наблюдать за яблоней позади церкви. Трижды перекрестившись, он попросил прощения: «Господи, прости мне, грешному». И пригрозил, что на следующее утро поедет в город и доложит об этом кощунстве епископу.
Вечером поздно стемнело. Солнце так распалилось, что не могло отыскать конец дня. Ночь просочилась в деревню из земли.
Комиссия летней ночи забралась в темноту вдоль буковой изгороди. И залегла под яблоней, уставившись в переплетение сучьев.
Староста прихватил топор, крестьяне положили на траву вилы. Учитель, накрывшись мешком, сидел с карандашом и тетрадью возле фонаря. Поглядывая одним глазом сквозь дыру в мешке величиной в палец, он писал отчет.
Ночь тянулась вверх. Она выталкивала небо из деревни. Настала полночь. Комиссия всматривалась в почти изгнанное небо. Под мешком учитель глянул на свои карманные часы. На церкви часы не пробили.
Пастор остановил церковные часы. Их зубчатым шестерням не полагалось отмерять время греха. Тишине следовало привлечь деревню к ответу.
В самой деревне никто не спал. На улицах стояли собаки. Они не лаяли. Кошки засели на деревьях. Они глядели оттуда сверкающими фонарями глаз.
Люди сидели по домам. Среди горящих в комнатах свечей расхаживали матери с детьми на руках. Дети не плакали.
Виндиш с Барбарой сидели под мостом.
Учитель на своих часах увидел, что уже полночь. Он высунул из-под мешка руку и подал комиссии знак.
Яблоня не шевелилась. У старосты першило в горле от долгого молчания. Одного из крестьян сотрясал кашель курильщика. Он быстро выдрал пучок травы и запихнул себе в рот. Под ней он закопал свой кашель.
Спустя два часа после полуночи яблоня задрожала. Вверху, где разветвлялись сучья, открылась пасть. И эта пасть сжирала яблоки.
Комиссии летней ночи было слышно чавканье. За стеной, в церкви, стрекотали сверчки.
Пасть сожрала шестое яблоко. К дереву подбежал староста. Рубанул по пасти топором. Крестьяне подняли вилы и встали за старостой. Кусок коры с влажной желтой древесиной изнутри упал в траву.
Яблоня закрыла рот.
Но никто из комиссии не заметил, когда и как яблоня захлопнула свою пасть.
Из-под мешка вылез учитель. Староста сказал, что как учитель он обязан был это увидеть.
В четыре часа утра пастор в длинной черной рясе, накрывшись большой черной шляпой, проследовал вместе со своим черным портфелем на вокзал. Он шел быстро. Глядел только на дорогу под ногами. Сумерки лежали у стен домов. На стенах белела известь.
Через три дня в деревню приехал епископ. Церковь была полна. Люди смотрели, как епископ между скамьями пробирается к алтарю. Он поднялся на кафедру.
Епископ не молился. Сказал лишь, что прочитал отчет учителя. Что советовался с Богом. «Богу это давно известно, – он возвысил голос. – Бог мне напомнил об Адаме и Еве, – тут епископ заговорил тише. – Бог мне сказал: в яблоне сидит дьявол».
Епископ написал пастору письмо. Оно было на латыни. Пастор с кафедры зачитал письмо пастве внизу. Из-за латыни казалось, что кафедра очень высоко. Отец ночного сторожа утверждал, что голоса пастора не слышал.
Дочитав, пастор закрыл глаза. Он сложил руки и помолился на латыни. Сойдя с кафедры, пастор будто стал низкорослым. У него было утомленное лицо. Повернувшись лицом к алтарю, он произнес: «Непозволительно такое дерево просто срубить. Нам нужно сжечь его стоймя».
Старый скорняк был бы не прочь купить это дерево у пастора. Но пастор сказал: «Слово Бога свято. Епископ знает».
Вечером мужчины подвезли солому. Четверо крестьян, что участвовали в комиссии, обмотали соломой ствол. На прислоненной к стволу лестнице стоял бургомистр, он разбрасывал солому по кроне.
За деревом пастор громко молился. Детский хор, выстроившись вдоль буковой изгороди, распевал длинные гимны. Было холодно, и напев дыханием возносился к небу. Женщины и дети молились тихо.
Горящей щепкой учитель подпалил солому. На нее сразу набросилось пламя. Оно разрасталось. Обгладывало древесную кору. От огня потрескивала древесина. Крона лизала небо. Луна скрылась.
Яблоки раздувало. Они лопались и шипели соком. Стонали в огне, словно живая плоть. Разило смрадным дымом. Дым ел глаза. А кашель разрывал песнопения.
До первого дождя деревню окутывал чад. Учитель все записал в тетрадь. Он назвал этот чад «яблочным туманом».
Древесная рука
За церковью еще долго торчал остов яблони, черный и скрюченный.
В деревне говорили, что за церковью стоит человек. Что он похож на пастора без шляпы.
По утрам ложился иней. Бук становился белым. Но остов яблони был по-прежнему черным.
Церковный служка, вынося за церковь завядшие розы с алтарей, проходил мимо. Остов казался рукой его жены.
Обугленная листва на остове вихрилась, хотя ветра не было. Листья утратили вес. Они вздымались до колен служки. И падали от его шагов. Распадались и становились сажей.
Служка рубил остов топором. Топор не издавал ни звука. Целую бутылку лампадного масла служка вылил на остов и поджег. Остов сгорел. На земле осталась пригоршня пепла.
Пепел служка поместил в коробку. С ней он отправился на край деревни. Руками выгреб ямку в земле. Перед глазами у него торчала кривая ветка. Она была будто древесная рука и тянулась к нему.
Поверх коробки служка сравнял ямку с землей. Потом зашагал по пыльной дороге в поле. Издалека ему были слышны деревья. Кукуруза высохла. Там, где он проходил, ее листья отламывались. Служка вдруг ощутил одиночество, все свои одинокие годы. Его жизнь просматривалась насквозь. Она была пуста.
Над кукурузой летали вороны, садились на кукурузные стебли. Они были тяжеловесные, словно из угля. Кукурузные стебли раскачивались. Вороны взлетали.
Вернувшись в деревню, церковный служка почувствовал свое нагое и окоченелое сердце. Оно повисло меж ребер. Коробка с пеплом лежала возле буковой изгороди.
Песня
Пятнистые свиньи у соседа громко хрюкают. Они будто стадо в облаках плывут над двором. Веранда оплетена листьями. У каждого листа своя тень.
Мужской голос поет на боковой улице. Песня ныряет среди листьев. «В такую ночь кажется, что деревня очень большая, – думает Виндиш, – но у нее повсюду окраина».
Песню Виндиш знает. «В Берлин поехал как-то раз на город глянуть в поздний час. Ха-ха-ля-ля в полночь». Веранда вырастает в высоту, когда темно, когда у листьев есть тень. Выталкивает себя из-под каменного настила. Она, как гриб, на ножке. Если поднимется слишком высоко, ножка подломится. И веранда упадет на землю. Точно на то же место. Когда наступит день, будет незаметно, что веранда поднялась и упала.
Виндиш ощущает толчок в камни настила. Перед ним – пустой стол. На столе – страх. Страх засел у Виндиша в ребрах. Лежит камнем в кармане пиджака.
Песня проскальзывает сквозь яблоню: «Пришли мне дочку на часок, хочу ей засадить стручок. Ха-ха-ля-ля в полночь».
Холодной рукой Виндиш лезет в карман. Нет в нем никакого камня. В пальцах у него песня. Он тихо подпевает: «Вам, сударь, лучше бы – молчок. Не ходит дочка на часок. Ха-ха-ля-ля в полночь».
Слишком большое стадо свиней собралось наверху в облаках, они плывут над деревней. Свиньи молчат. Песня одна в ночи. «Ах, мама, не моя вина, зачем та штука мне дана. Ха-ха-ля-ля в полночь».
Далек путь к дому. Человек бредет в темноте. А песня не прерывается. «Свою мне сможешь одолжить? Мою никак нельзя пробить. Ха-ха-ля-ля в полночь». Песня тяжела. У того, кто ее поет, низкий голос. В песне свой камень. Холодная вода течет по камню. «Не выйдет, дочь, у нас игра: отец искал мою вчера. Ха-ха-ля-ля в полночь».
Виндиш вынимает руку из кармана. Камень он выронил. Выронил песню.
«Амалия при ходьбе, – думает Виндиш, – ставит ноги на землю косо».
Молоко
Амалии было семь лет, когда Руди потянул ее за собой через кукурузу в конец огорода. «Кукуруза, – объяснил он, – это лес». Они вошли в сарай. «Сарай – это замок».
В сарае стояла пустая винная бочка. Амалия залезла в бочку вместе с Руди. «Бочка – твоя кровать», – сказал Руди. В волосы Амалии он воткнул высохший репейник. «Вот тебе терновый венец. Ты заколдована, но я тебя люблю. И ты должна терпеть».
Карманы у Руди были набиты разноцветными стеклышками. Он разложил их по краю бочки. Стеклышки сверкали. Амалия села на дно бочки. Руди встал рядом с ней на колени. Поднял ей платье. «Я буду пить твое молоко». Он пососал у нее соски. Амалия закрыла глаза. Руди куснул коричневые пупырышки.
Соски сразу опухли. Амалия заплакала, и Руди ушел в поле за огородом. А Амалия побежала домой.
У нее в волосах застрял репейник. Волосы спутались в клубки и сбились. Жена Виндиша срезала клубки ножницами. Соски она промыла ромашковым чаем. «Ты с ним больше не играй, – велела она Амалии. – У скорняка сын ненормальный. У него задумчивая дырка в голове от чучел».
Виндиш покачал головой: «Амалия нас еще осрамит».
Иволга
В жалюзи серели щели. У Амалии была высокая температура. Виндиш не мог уснуть. Думал о покусанных сосках.
Его жена села в постели. Сказала: «Мне приснилось, что я поднимаюсь на чердак. В руках у меня сито для муки. На ступенях лежит мертвая птица, иволга. Я подняла ее за лапки. Под ней – комок жирных черных мух. Все мухи разом взлетели и сели в сито. Сито я встряхнула, но они не улетали. Тогда я рванула дверь и выбежала во двор. А сито с мухами швырнула в снег».
Настенные часы
Окна у скорняка выпали в ночь. Руди улегся на своем пальто и спит. Скорняк с женой спят вместе на одном пальто.
На пустом столе Виндишу видно белое пятно стенных часов. В часах живет кукушка. Она чувствительна к стрелкам и оттого кукует. Часы скорняк подарил милиционеру.
Две недели назад скорняк показал Виндишу письмо. Оно пришло из Мюнхена. «Там живет мой шурин», – сказал скорняк. Письмо он положил на стол. Отыскал пальцем место, которое хотел прочесть: «Возьмите с собой посуду и столовые приборы. Очки здесь стоят очень дорого. И шубу нельзя себе позволить». Скорняк перевернул страницу.
Виндиш слышит крик кукушки. Он вдыхает запах птичьих чучел, проникающий сквозь потолок. Единственная живая птица в доме – кукушка. Своим кукованием она раздирает время. А от чучел лишь вонь.
Скорняк захохотал. Задержал палец на абзаце в конце письма. «Женщины тут ни на что не годны, – читал он, – готовить не умеют. Моей жене приходится резать кур для домовладелицы. Эта дама отказывается есть печенку с кровью. Желудок и селезенку она выбрасывает. Только курит целый день да разных мужчин к себе подпускает».
«Лучшая немка, однако, там ничего не стоит рядом с самой негодящей швабкой», – заключил скорняк.








