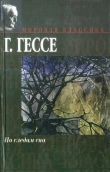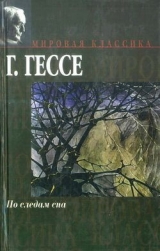
Текст книги "Поздняя проза"
Автор книги: Герман Гессе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Рождество с двумя детскими историями
Когда кончился наш маленький тихий рождественский праздник, еще до десяти часов вечера 24 декабря, я был достаточно усталым, чтобы порадоваться ночи и постели, а прежде всего тому, что впереди у нас было целых два дня без почты и без газет. Наша большая жилая комната, так называемая библиотека, являла такую же картину беспорядка и измотанности, как наше внутреннее состояние, но куда более веселую, ибо хотя праздновали мы только втроем, хозяин дома, хозяйка и кухарка, елочка с догоравшими свечами, ворох цветной, золотой и серебряной бумаги и лент, цветы на столах, новые книги, наваленные друг на друга, картины, акварели, литографии, гравюры, детские рисунки и фотографии, то ровно, то устало и слишком наклонно прислонившиеся к вазам, все-таки придавали комнате какую-то необычную, праздничную переполненность и взволнованность, что-то от ярмарки, что-то от сокровищницы, какое-то дыхание жизни, какой-то налет глупости, ребячества, баловства. И сюда привходил воздух, столь же беспорядочно и озорно перенасыщенный запахами, воздух, где соседствовали и смешивались смола, воск, горелое печенье, вино, цветы. Еще в этой комнате и в этом часе скопились, как то подобает старикам, картины, звуки и запахи многих, очень многих праздников прошедших лет, семьдесят и больше раз после первой великой встречи с ним посещало меня Рождество, и если у моей жены было за плечами куда меньше лет и рождественских праздников, то зато чувство чуждости, дальности, утраченности и невозвратимости родины и защищенности было у нее острее, чем у меня. Если в последние напряженные дни придумывание и упаковка, получение и распаковка подарков, необходимость помнить о настоящих и ненастоящих обязательствах (последние мстят за упущение часто неумолимее, чем первые) да и вся лихорадочно-бурная деятельность рождественской поры в наше беспокойное время задавали уже нелегкую работу, то эта новая встреча с годами и праздниками многих десятилетий была еще более трудной задачей, но по крайней мере настоящей, осмысленной, а настоящие и осмысленные задачи наделены благословенной способностью не только требовать и поглощать, но также помогать и подкреплять. А уж в цивилизации разваливающейся, заболевшей отсутствием смысла и умирающей ни для отдельного человека, ни для сообществ нет иного лекарства, иной пищи, иного источника силы продолжать жить, чем встреча с тем, что наперекор всему придает нашему бытию, нашим действиям смысл и нас оправдывает. И при воспоминании о праздниках и обстоятельствах всей жизни, когда заглядываешь в любимые, давно погасшие глаза, оказывается все-таки, что существует какой-то смысл, какое-то единство, какая-то тайная сердцевина, вокруг которой мы, то зная, то не зная о ней, кружили всю свою жизнь. От пахнувших воском и медом кротких рождественских праздников детства, в еще целом и невредимом, как то казалось, в нерушимом, не верившем, что его можно разрушить, мире, через все перемены, кризисы, потрясения и образумляющие уроки нашей частной жизни и нашей эпохи, мы пронесли и сохранили в себе некое ядро, некий смысл, некую благодать, некую веру – не в какой-то там догмат церкви или науки, а в существование некоей сердцевины, вокруг которой даже находящаяся в опасности, даже поврежденная жизнь всегда может заново найти лад и порядок, веру в то, что Бога можно достичь именно из этого сокровенного ядра нашего естества, в совпадение этого центра с присутствием Бога. Ведь там, где он присутствует, можно вынести и безобразное, и с виду бессмысленное, ибо для него явление и смысл нераздельно, для него – все смысл.
Темная елочка уже долго глуповато стояла на своем столике, уже довольно давно горел трезвый электрический свет, как каждый вечер, и тут мы увидели за окнами иной род света. День был то ясный, то пасмурный, у склонов гор за долиной озера висели порой продолговатые узкие облака, все на одной высоте, они казались прочными и неподвижными, но стоило взглянуть на них снова, как они уже успевали исчезнуть или перестроиться, а в сумерки похоже было, что в эту ночь небо от нас спрячет туман. Но пока мы занимались своим праздником, елкой, свечами, подарками и своими все ближе наплывавшими воспоминаниями, на дворе много чего произошло и свершилось. Почувствовав это и погасив в комнате свет, мы увидели за окнами раскинувшийся в великой тишине донельзя прекрасный, таинственный мир. Узкая долина под нами была наполнена туманом, на поверхности которого играл бледный, но сильный свет. Над этими клубами тумана поднимались заснеженные холмы и горы, все они были освещены этим ровным, равномерно распределенным, но сильным светом, и везде голые деревья, леса, белоснежные скалы ложились рисунками на белые доски, как нацарапанные острым пером буквы, как немые иероглифы и арабески, о многом умалчивающие. А вверху надо всем этим ходило волнами просвечиваемых полной луной облаков белое, блестяще-опаловое, огромное небо, беспокойное, залитое светом полной луны, которая то исчезала, то появлялась между призрачно редеющими и вновь сгущающимися пеленами, и, когда она отвоевывала себе клок чистого неба, мы видели ее в ореоле лунной, с эльфически холодным отливом радуги, и скользящие краски повторялись в кромках пропускавших свет облаков. Жемчужный и молочный тек и струился по небу этот чудный свет, он тускнел, когда отражался внизу в тумане, он набирал силу и шел на убыль, словно чередуя вдохи с выдохами.
Прежде чем лечь спать – лампа горела снова, – я еще раз бросил взгляд на свой стол с дарами, и, как дети в сочельник берут иные подарки с собой в спальню, а то и в постель, я тоже кое-что прихватил с собой, чтобы подержать в руках и рассмотреть. Это были дары моих внуков: от Сибиллы, младшей, тряпка для пыли, от Зимели маленький рисунок, крестьянский дом со звездным небом над ним, от Кристины две цветные иллюстрации к моему рассказу о волке, смело намалеванная картинка от Эвы, а от ее десятилетнего брата Сильвера написанное на отцовской машинке письмо. Я взял все это с собой в мастерскую, где еще раз прочел письмо Сильвера, оставил все там и поднялся, борясь с тяжелой усталостью, по лестнице в свою спальню. Но я еще долго не мог заснуть, пережитое и увиденное в этот вечер прогоняло сон, и неотступные ряды образов кончались каждый раз письмом моего внука, которое звучало так:
«Дорогой Нонно! Я сейчас хочу написать тебе одну маленькую историю. Она называется „Для Боженьки“. Пауль был набожный мальчик. Он в школе уже много чего слышал о Боженьке. Теперь он захотел тоже что-нибудь ему подарить. Пауль осмотрел все свои игрушки, но ему ничего не понравилось. Вот наступил день рождения Пауля. Он получил много игрушек, среди них талер. Тут он воскликнул: „Талер я подарю Боженьке“. Пауль сказал: „Я выйду в поле, там хорошее место, там Боженька увидит его и возьмет“. Пауль пошел в поле. Придя на поле, Пауль увидел какую-то старушку, которая опиралась на палку. Ему стало грустно, и он отдал ей талер. Пауль сказал: „Вообще-то он был для Боженьки“. Большой привет от Сильвера Гессе».
В тот вечер мне не удалось воскресить воспоминание, которое подсказывал мне рассказ внука. Лишь на другой день оно пришло само собой. Я вспомнил: в детстве, в том же возрасте, в каком был сейчас мой внук, я тоже как-то написал историю, чтобы подарить ее на день рождения своей младшей сестре, это был, кроме нескольких мальчишеских стихотворений, единственный поэтический опыт поры моего детства, который сохранился поныне. Десятки лет я вообще не вспоминал о нем, но несколько лет назад, не помню уж по какому поводу, этот детский опыт вернулся ко мне, вероятно, благодаря одной из сестер. И хотя я помнил его лишь смутно, мне показалось, что у него есть какое-то сходство или родство с историей, которую сочинил для меня больше чем шестьдесят лет спустя мой внук. Но хоть я и точно знал, что эта детская история находится среди моих бумаг, как можно было ее найти? Везде битком набитые ящики, перевязанные папки и кучи писем с надписями, которые уже не соответствовали действительности или стали неудобочитаемы, везде бумага с написанным или напечатанным за годы и десятилетия, хранимая потому, что выбросить не решился, хранимая из пиетета, по добросовестности, от недостатка удали и решительности, из-за переоценки написанного, которое могло бы когда-нибудь послужить «ценным материалом» для каких-нибудь новых работ, хранимая и похороненная так, как хранят одинокие старые дамы в шкафах и на чердаках коробки и коробочки с письмами, засушенными цветами, отрезанными прядями детских волос. Бесконечное множество всякой всячины, даже если сжигаешь центнеры бумаги за год, скапливается вокруг литератора, который редко менял местожительство и достиг почтенного возраста.
Но я загорелся желанием вновь увидеть этот рассказ, хотя бы лишь затем, чтобы сравнить его с рассказом моего коллеги-однолетки Сильвера или, может быть, переписать и послать как ответный дар. Я целый день мучился этим и мучил жену и наконец действительно нашел нужное в самом невероятном месте. Эта история написана в 1887 году в Кальве и называется:
Два брата
(Марулле)
Жил-был отец, у него было два сына. Один был красивый и сильный, другой маленький и увечный, поэтому большой презирал малыша. Это совсем не нравилось младшему, и он решил уйти в дальние-дальние края. Пройдя некоторое расстояние, он встретил возницу, и, когда спросил его, куда тот едет, возница сказал, что должен отвезти сокровища гномов в стеклянную гору. Малыш спросил его, какую оплату он получит. Возница ответил, что получит несколько алмазов. Тогда малышу захотелось тоже пойти к гномам. Поэтому он спросил возницу, думает ли тот, что гномы примут его. Возница сказал, что не знает этого, но взял малыша с собой. Наконец они приехали к стеклянной горе, и надсмотрщик гномов щедро вознаградил возницу за труд и отпустил его. Тут он заметил малыша и спросил, что ему угодно. Малыш рассказал ему все. Гномы с радостью приняли его, и он зажил чудесной жизнью.
Теперь поглядим на другого брата. Ему долго жилось дома очень хорошо. Но когда он стал старше, он пошел на военную службу и попал на войну. Он был ранен в правую руку и должен был просить милостыню. Так несчастный пришел однажды к стеклянной горе и увидел там какого-то калеку, но не догадался, что это его брат. А тот сразу узнал его и спросил, что ему угодно. «О сударь, я буду рад и корке хлеба, так я голоден». «Пойдем со мной», – сказал малыш и пошел в пещеру, стены которой сверкали сплошными алмазами. «Можешь взять себе горсть, если добудешь эти камни без чьей-либо помощи», – сказал калека. Нищий попытался своей единственной здоровой рукой отломать кусочек от алмазной горы, но это, конечно, не вышло. Тогда малыш сказал: «Может быть, у тебя есть брат, я позволю, чтобы он помог тебе». Тут нищий стал плакать и сказал: «Да, был у меня когда-то брат, маленький и увечный, как вы, но очень добродушный и ласковый, он бы мне, конечно, помог, но я бессердечно оттолкнул его от себя и давно уже ничего не знаю о нем». Тогда малыш сказал: «Да я же твой младший брат, не надо тебе терпеть нужду, оставайся у меня».
Что между моей сказкой и сказкой моего внука и коллеги есть какое-то сходство или родство, это едва ли заблуждение деда. Средней руки психолог истолковал бы оба детских опыта примерно так: каждого из обоих рассказчиков следует идентифицировать с героем его истории, и оба, и набожный мальчик Пауль, и маленький калека, придумывают себе двойное исполнение желаний, а именно сначала получение богатого подарка, будь то игрушки и талер или целая гора драгоценных камней и уютная жизнь у гномов, себе подобных, стало быть, вдали от больших, взрослых, нормальных. Но сверх того каждый сказочник придумывает себе и некую моральную славу, некий венец добродетели, ибо из сострадания отдает свое сокровище бедному (чего в действительности ни десятилетний старичок, ни десятилетний мальчик не сделали бы). Так оно, наверно, и есть, я ничего не имею против. Но мне кажется также, что исполнение желаний происходит в сфере воображаемого и несерьезного, о себе я по крайней мере могу сказать, что в возрасте десяти лет я не был ни капиталистом, ни ювелиром и безусловно еще ни разу не видел алмаза, зная, что это какая-то драгоценность. Зато мне были знакомы многие гриммовские сказки, и, может быть, Аладдин с волшебной лампой и гора из драгоценных камней была для ребенка не столько представлением о богатстве, сколько мечтой о невиданной красоте и волшебной силе. И еще заметил я на сей раз, что в моей сказке не фигурирует Боженька, хотя он для меня, наверно, был чем-то более естественным и реальным, чем для внука, который заинтересовался им только «в школе».
Жаль, что жизнь так коротка и до такой степени забита текущими, мнимо важными и непременными обязанностями и задачами; иногда утром с трудом решаешься встать с постели, ибо знаешь, что большой письменный стол еще завален неразобранной корреспонденцией, а за день почта сделает эту кучу еще выше. А то бы можно было еще вдосталь поиграть с обеими детскими рукописями, и позабавиться, и призадуматься. По-моему, например, нет ничего занимательней, чем сравнительное исследование стиля и синтаксиса обоих опытов. Но для таких славных игр наша жизнь, увы, недостаточно длинна. Да и не следовало бы анализом и критикой, одобрением или порицанием оказывать какое-то, быть может, влияние на развитие того из двух авторов, который моложе другого на шестьдесят три года. Ведь из него, глядишь, может еще что-то выйти, а из старика – нет.