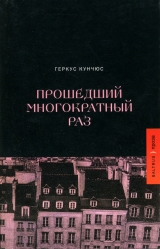
Текст книги "Прошедший многократный раз"
Автор книги: Геркус Кунчюс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Каждый раз с новым энергетическим зарядом она нападает на мою изголодавшуюся душу, готовую приютить сотни тысяч виденных и еще не виденных образов. Все листаю и листаю. Уже не знаю, она ли ожила благодаря мне, или я должен быть ей благодарен за то, что чувствую, живу и испытываю радость полноценного бытия. Наверное, это совсем неважно, потому что гигант немедленно был впущен в узкий рот, в котором скрылась лишь его верхушка. А может, произойдет чудо и он весь найдет там убежище? Неизвестно. Интересно, что будет дальше?..
– Простите, вы уже кончили листать? – обращается ко мне очкастый конкурент и выхватывает из моих рук альбом.
Не успеваю отойти. Был застигнут так неожиданно. «Японское эротическое искусство» уже в его руках. Вижу, как он моментально погружается туда, где я был всего несколько секунд назад. Он улыбается и наслаждается. Его брови подергиваются. На шее вздувается голубая вена, по которой теперь течет в мозг поток Амазонки. Он даже улыбается – так ему славно в эту минуту. Мог бы – убил бы его сейчас. Ему или мне этот альбом больше нужен?! Мне! Только ради него я сегодня не пошел в Национальную библиотеку, где мог бы продолжать знакомиться с экзистенциалистами. Он и не думает выпускать эту книгу из рук. Не дай Бог, купит. Я знаю, что в этом магазине только один экземпляр, а в Париже всего несколько, хотя пару лет назад они были на каждом углу. Навлечет на свою голову проклятие. Стою рядом с ним совершенно сломленный, опозоренный, кастрированный, оттраханный, оплеванный, обосранный и обоссанный. Не надеюсь. Мне нанесли удар из засады. Это бессовестно. Это коварно. Это подло. Он отнял объект моей страсти, несравнимый с миллионами извращенцев, поджидавших и поджидающих клиентов в подворотнях. Он похитил у меня все. Этот очкастый дохляк, наверняка способный часами обсуждать раскол общества, его разложение и прочую ерунду. Этот! Этот подлый захватчик! Этот абсолютный ноль в моей жизни! Этот, которому нужно листать комиксы с утятами и мышатами! У меня темнеет в глазах. Злость сейчас прорвется, и я сделаю что-нибудь ужасное.
– Вы не могли бы подвинуться, – продирается мимо меня еще один и бросается к другому стеллажу.
Мое положение безнадежно. Со всех сторон меня окружают акулы, которые, почуяв кровь, проглотят и даже не вспомнят, что наелись. Они все хотят моего тела, моей души, интеллекта. Это заговор. Подлый заговор против созданного и взлелеянного мной порядка вселенной. Я-то один, а они тянутся вереницами и спорят, кому будет оказана честь меня прикончить. Нужно бы броситься бежать, но я не собираюсь сдаваться. Не сдамся этим ничтожествам. Не могу сдаться этим полным нулям и доставить им удовольствие увидеть, как мое тело будут рвать во все стороны голодные псы. Не сдамся.
– Вы закончили, – констатирую я и теперь уже сам хватаю книгу у первого попавшегося.
Противник нокаутирован. У меня в руках другой альбом. Не так уж и плохо – «Китайское эротическое искусство». Знаю его. Наверное, раз пятьдесят листал. Противник злобно оглядывает меня, однако на реванш не решается. Он проиграл. Он побежден.
Китайское эротическое искусство не такое уж и плохое. Ему не хватает одного – японских габаритов. На китайских гравюрах половые органы какие-то маленькие, неразвитые, миниатюрные. Кое-где трудно даже понять, эрекция ли это. Если хочешь смотреть этот альбом, требуется лупа, а ее я с собой не захватил. Досадно. Никогда не нужно переоценивать свои силы. Всегда надо ожидать самого плохого. Так и вышло. Гравюры пламень во мне не разжигают, однако книгу из рук я не выпускаю. Довольствуюсь тем, что имею. Китайцы всегда занимаются любовью иначе. Они рафинированны. Их женщины любят мастурбировать, но делают это как-то неубедительно, непрочувствованно, с насмешливыми улыбочками на губах, ничего общего не имеющими с тем выражением, краску которому придает оргазм. Ягодицы у китайцев тоже очень уж слабенькие. Они больше напоминают попки новорожденных, а не седалища упитанных придворных. Только по обязанности листаю этот альбом. Останавливаюсь ненадолго над репродукцией, на которой выгравирован акт на лошади. Лошадь (конем ее назвать нельзя) летит, а они что есть сил трахаются и удивительным образом удерживаются, не валятся на землю, не теряют равновесия. Это интересно, однако лишь зоологически. На другой гравюре китаянка опять засовывает палец во влагалище. Как-то нерешительно. Кажется, будто ей хочется почесать ногтем половые губы. Ее партнер одобрительно наблюдает. На его губах тоже улыбка – неотъемлемый атрибут азиата. Видно, что ему приятно смотреть на нее. Извращенец, каких не найдешь среди японцев. Китайцы совокупляются сплошь механически, без страсти. Они словно позируют граверу, приглашенному увековечить их еще не увядшую потенцию. Я автоматически листаю этот альбом, приносящий моему духу не больше миллиграмма пищи. Чувствую себя так, словно поработал на конвейере. Устал. Высох и истощен. Их искусство мне чуждо. Надежду вернуть «Эротическое искусство японцев» я потерял. Очкарик все еще поглощен им. Наверное, до вечера, пока не закроют магазин и служащие не погонят всех любителей развлечений, ежедневно приходящих сюда подкрепить силы. Ухожу прочь, альбом отдал девушке. Она, должно быть, студентка, завернувшая сюда расслабиться после лекции по герменевтике, которую читал один из европейских грандов в этой области.
Счастливым себя не ощущаю. Все равно чего-то не хватает.
– Значит, все-таки добился своего, – говорит мне Даниэль, когда я возвращаюсь домой и нахожу его снова взявшимся за автобиографический роман Гарри.
– С чего ты решил?
– По твоим глазам, – говорит он и снова углубляется в воспоминания Ажара Гарри о петербургском детстве.
Одни все ходят в китайское посольство, а другие не знают, куда себя девать. В комнате, сколько бы в ней ни было книг по лингвистике, больше нечего делать. Могу только позавидовать Анайи Нинь, написавшей в 1932 году шесть романов. Ей хватило терпения и усидчивости. Три дня высидел дома, никуда носа не высовывал, однако теперь эта статика стала невыносимой. Мне удалось даже одолеть пьесу Борхерта на немецком языке, правда, прочитав ее, мудрее не стал. Может, и наоборот.
Даниэль собирается уходить и теперь неприличными словами поминает китайское государство, которое, если его послушать, никогда в жизни не даст ему визу. Мой друг уверен, что я не являюсь резидентом китайской разведки в Париже, поэтому и ругает страну, из которой будет пытаться добраться до Тибета.
– И тебе обязательно нужно попасть в Тибет? – спрашиваю я, пока он предпринимает отчаянные попытки найти паспорт среди мусора в ящике стола.
– Без Тибета путешествие было бы бессмысленным, – отвечает он и не на шутку нервничает, потому что паспорт в это время преспокойно лежит в другом месте.
Я знаю, где его паспорт, однако не говорю. Пусть не думает, что попасть в Тибет ему будет так просто. Я хочу, чтобы с самого начала, точнее, с самой завязки путешествия он столкнулся с трудностями, которые в социалистическом раю неизбежны.
– Ты не видел мой паспорт? – спрашивает он, уже весь в поту.
– Знаю, где твоя кредитная карточка, но рядом с ней паспорта нет.
– Где бы он мог быть?
Он роется в книжном шкафу, никогда в жизни не видевшем документа гражданина Франции. Бесится. Время от времени пинает ножку стола, которая совсем не виновата в том, что он такой рассеянный.
– Какой я дурак! Какой я дурак! – словно мазохист, хлещет он себя, однако паспорт не обнаруживается.
– Наверное, ты его выбросил вместе с мусором, – пытаюсь я его успокоить.
– Чушь. Ну дурак! Ну дурак!
Он мечется по комнате, как лев по клетке. Еще немного, – и откажется от поездки не только в посольство, но и в Китай.
– А может, он среди вчерашних писем? – суфлирую я.
– Нет. Уже смотрел.
– Посмотри еще раз. Мне кажется…
– Нашел! Нашел! – вопит, уже найдя. – Вот дурак! Вот дурак!
Он не может нарадоваться на французское гражданство. Паспорт у него в руках. Восхитительный, изящный французский паспорт – мечта арабов и нелегальных иммигрантов.
– Лечу. Встретимся вечером, – говорит он и выбегает за дверь, которую я должен запереть.
Сажусь в кресло и мысленно набрасываю эскиз этого бессмысленного дня. Эскиз совершенно не художественный. Не хватает полета и творческой силы. Рву один лист бумаги и беру другой, побольше. Этот тоже не удался, хотя в нем что-то есть. Есть. Нет, рву и второй. Третий раз должно получиться. Разумеется. Да, разумеется, пойду в «American Express», а после этого к Джиму, который давно уже должен вернуться из этой своей России. Решено: в «American Express» и к Джиму. Очень изящная комбинация из двух элементов. Не могу налюбоваться, как она выглядит на листе бумаги. Решаю вставить его потом в рамку и, может быть, даже кому-нибудь подарить. Это большая ценность, с которой мне будет тяжело расстаться, однако чего не сделаешь, когда хочешь доставить удовольствие ближнему.
Пью остатки кофе. Может быть, выпить рома? Нет, не буду пить. А все-таки…
Глоток рома никогда не повредит. Хотя меня не очень-то пленяет Хемингуэй, я одобряю его литературную мысль, что каждый день просто обязательно надо заканчивать рюмкой алкоголя. Развиваю эту мысль и как следует потягиваю ром из утренней бутылки. Все какой-никакой вклад в литературу. Теперь можно причислить себя к интерпретаторам биографии этого писателя. Жаль, никто не выпишет мне удостоверения.
На улице Алезья такой чад, что мгновенно исчезает желание ехать на автобусе в «American Express». Эскиз идет прахом, и я направляюсь на улицу Томб-Исуар, на пересечении которой с Алезья так любит фотографироваться теоретик и практик секса. Едва волочу ноги, поэтому вынужден заворачивать в антикварные магазины, чтобы вернуть дар речи и силы. В антикварных прохладно. Французы роются в старье и пыли. Им все еще чего-то не хватает для счастья.
– Вы хотели бы купить это кресло? – осведомляется у меня служащий, увидев, что я с нескрываемым интересом изучаю его обтрепавшийся гобелен, наверняка сотканный не на мануфактурах Фландрии. – Чем я могу вам помочь? Может, вам что-нибудь посоветовать?
– Нет. Не нужно. Меня интересует мебель эпохи Ренессанса в форме фаллоса, покрытая голубой глазурью.
– Такой у нас нет, – отвечает он, выведенный из равновесия.
– А может, есть?
– Не знаю…
– Его можно сосать и в то же время пить из него. Такую мебель очень любили Габсбурги. Она была популярна при дворах. Ее особенно любили не отличавшиеся красотой фрейлины. Хотел бы купить такую. На следующей неделе у моей сестры день рождения. Она тоже некрасивая. Уже пятнадцать лет не удается найти мужа. Был один адвокат, однако… Дела все проигрывал. Дефект речи: заика.
Услужливый продавец антиквариата стоит, словно кол проглотив. Ясно, что о мебели в форме фаллоса он слышит первый и последний раз в жизни. Но я когда-то изучал историю искусства, поэтому и не думаю отступать. Я его так поучу, что он никогда больше не будет цепляться к зашедшим в поисках прохлады.
– Порой я размышляю о захоронениях, в которых можно найти самые разные вещи, – продолжаю я. – Однако здесь мы сталкиваемся с проблемой. Она общая, и не закрывайте на нее глаза. Не делайте вид, что слышите об этих вещах впервые. Достаточно вспомнить, что древние кладбища, как когда-то в Европе и как теперь в Англии, были собственностью церкви. Это естественно. А новые кладбища принадлежат частным компаниям, как мечтали французские авторы проектов XVIII века. Однако их мечты не исполнились, так как все в то время было пропитано утопическим социализмом. Это относится не только к Сен-Симону. И что же произошло? Европейские кладбища стали муниципальными. А это означает, что они публичные и не принадлежат частному предпринимателю. Здесь нет никакой тайны. Скорее, тайной является бальзамирование, в котором есть кое-какой трудно объяснимый смысл. И не нужно тут строить никаких гримас, так как есть только три ветви дерева: Сервантес, Дефо и Достоевский. С последним нас связывает общее происхождение и страсть к рулетке. А мебель в форме фаллоса мне нужна для того, чтобы порадовать сестру по случаю дня рождения. Она такая неаккуратная, примерно как Йоко Оно в быту.
Он пятится от меня. Неблагодарный слушатель, только и умеющий задать какие-то несколько вопросов. Его потрясение меня немного пугает. Не хочу иметь дел с психиатрами, поэтому гордо покидаю антиквариат.
На улице Алезья жара не стала меньше. Листья деревьев стараются из последних сил, однако польза от тени минимальная. Мне кажется, сейчас липы хотели бы превратиться в баобабы.
Нахожу стригущего ногти Петера. Он несчастен оттого, что я нарушаю эту процедуру. Ногти он с немецкой педантичностью складывает в кучку на столе. Рядом стоит недопитый стакан кока-колы. Кучка пожелтевших ногтей впечатляет. Он, наверное, годами готовился к этому событию. Становлюсь свидетелем этой разумной деятельности. Завидую ему, что у него хватило терпения отрастить и взлелеять ногти такой невообразимой длины. Для этого требуется нечеловеческое упорство. Вспоминаю свои. Они достойны сожаления.
– Джим! – кричит Петер. – К тебе пришли!
Джим не отзывается. Тишина. Стою у плиты, а Петер даже не предлагает сесть. Я понимаю, что мешаю ему, однако не раскаиваюсь, так как не каждый день можно увидеть такую груду ногтей с человеческих ног. Ногти Петера, возможно, следовало бы увековечить. Экспонировать на какой-нибудь выставке радикального искусства. Наверняка был бы успех. Прогнившие миллионеры, может, даже заказали бы копию, чтобы пополнить ею свои коллекции.
– Джим! Пришли к тебе! – после паузы снова кричит он.
Слышу, что Джим наверху что-то бормочет. Может, спал? Нет, уже полдень, а старички рано поднимаются. Не нужно кончать вуз, чтобы знать эту истину. Начинаю в ней сомневаться.
– Он занят? – спрашиваю Петера.
– Занят? – повторяет он мой вопрос и улыбается.
Не дождавшись приглашения, присаживаюсь около ногтей Петера. Теперь они впечатляют еще больше. Едва удерживаюсь, чтобы не попросить несколько на память. Я мог бы послать их в конверте какому-нибудь другу. Вспоминаю, что когда-то каждый день посылал приятелю-концептуалисту письмо с шариком пуха, собравшегося за день в моем пупке. Послал ему не одну сотню граммов пушинок. Позднее он создал замечательное произведение, за которое в Кельне получил четырехзначную премию. Правда, со мной не поделился. Не сержусь. Мне достаточно и того, что извлеченный из моего пупка пух был показан в престижной галерее.
Петер свыкся с моим присутствием и снова углубился в стрижку ногтей. Одно неосторожное движение, и ноготь падает в кока-колу. Петер так увлечен и сосредоточен, что даже не замечает. Слежу за тем, как его ноготь ныряет в стакане. Почему-то он напоминает мне белую акулу, не нападающую на людей. Ногти – хорошие пловцы, делаю я вывод.
Наверху у Джима какое-то движение. Слышу, как с шумом падают груды журналов, доставившие мне в прошлом году немалое удовольствие. Рядом со своей кроватью Джим держал множество порнографических журналов, и я не устоял перед искушением их полистать. Спектр тем в этих журналах широк и глубок, как любовь Джима. Я даже не успел все пересмотреть, однако те, которые видел, оставили у меня неизгладимое впечатление. Особенно понравились пожелтевшие листы семидесятых годов: выцветший колорит, белые крашеные блондинки – страсть кавказцев. Их можно листать до безумия. Хорошо, я чувствовал, где предел, и, когда разум уже начинал мутиться, говорил: стоп!
Профессор секса спускается по лестнице.
– Это ты?! – приходит он в изумление.
– Да, это я.
– Как?!
– Я уже два месяца в Париже.
– Два месяца?! Два месяца?!
Его почему-то это удивляет.
– Два месяца – и только теперь пришел ко мне?!
– Но, Джим, ты ведь был в отъезде.
– Да, правда. Был в отъезде, – поникает старичок – видимо, Петербург конца двадцатого века не тот город, о котором грезит житель Запада. – Почему ты остановился не у меня?
Объясняю ему, что живу у друга совсем рядом. Он успокаивается, хотя делает вид, что самая большая мечта его жизни – приютить меня по меньшей мере на полгода.
– Ну, ты и растолстел за это время, – не может он надивиться на мою фигуру.
– Я растолстел?! – задаю риторический вопрос. – Я – растолстел!?
– Конечно, ты растолстел и полинял, – дополняет панегирик Джима кончивший стричь ногти Петер, однако его мнение никому из присутствующих неинтересно.
– Потому что все сижу, – только и отвечаю я, не имея никакого желания развивать эту тему.
Вижу, как по ступенькам из притона Джима спускается не слишком потрясающая дама. Руками она разглаживает платье. Не нужно быть очень сообразительным, чтобы понять: Джим только что ее трахнул. Румянец на ее щеках выдает недавно испытанную страсть. По выражению лица видно, что ей немного не по себе. Петер, как всегда, притворяется равнодушным. Он стряхивает состриженные ногти в ладонь. Джим улыбается.
– Познакомься, – говорит он мне и показывает на бывший объект любви.
Выглядит она жалко, потому что издатель и редактор первого в Европе журнала о сексе измучил ее до крайности. Дама протягивает мне руку, и я мгновенно понимаю, что она не француженка.
– Пиявка, – представляется она.
– Эркю, – говорю, потому что мне надоело слышать, как они коверкают мое имя, лучше уж сам фонетически его изнасилую.
Джим смотрит на нас, как заговорщик.
– Она из Словении, – говорит он довольным тоном.
Подозреваю, что в его коллекции славянки, забредшей так далеко на Запад, еще не было, и потому он такой счастливый. Рука Пиявки немного влажная. Жаль, что перед знакомством вытер ладонь о брюки.
Джим пытается что-то объяснить, однако мы не понимаем. Он упоминает благотворительность, блошиный рынок, посылки в Россию. Мы с Пиявкой переглядываемся и пожимаем плечами. Старичок непредсказуем. Всего десять минут назад он держал эту женщину в объятиях, превратившись в ее часть, а теперь несет вздор о каких-то вещах, которые обязательно надо просмотреть, иначе будет поздно.
Пиявка, еще не пришедшая в себя после любовного акта, ничего не соображает. Я, не видевший Джима год, тоже. Стоим два дебила – восточно– и среднеевропейцы.
– Вот здесь, – показывает Джим на сложенные в подъезде ящики.
– Что здесь?
– Здесь. Можете себе выбрать.
– Что? – не отстает Пиявка, не ожидавшая еще и подарков от волшебника секса с сердцем нараспашку.
– Вы можете выбрать, потому что завтра я все выброшу, – заявляет Джим. – Здесь ценные для вас вещи.
Пиявку мне жаль. Я привык к таким подаркам, потому что нахожусь на Западе чуть дольше. Пиявка, насколько я помню из географии, живет недалеко от Венеции, поэтому ей не по себе, когда она поглядывает на заплесневевшие вонючие ящики, которые нам велено просмотреть.
– Я пойду наверх, а вы тут выбирайте, – говорит Джим и исчезает за дверью.
Стоим с Пиявкой в подъезде студии. Рядом страшно воняют ящики. Пиявка – женщина, поэтому первой открывает крышку картонного ящика. Вонь усиливается. Кончиками пальцев Пиявка вытягивает пропотевшие, изношенные туфли, разодранные куртки, нестираные трусы, чулки эпохи мезолита, до невероятия безобразные пыльные шапки и другой хлам. Ее лицо искажает гримаса. После акта любви ничего отвратительнее и быть не может. Одобряю.
– Тебе это надо? – спрашивает она меня.
– Нет.
– Мне тоже.
Не скрывая разочарования и отвращения, она пытается запихнуть этот хлам назад. Не удается. Стараюсь ей помочь, но и мои усилия бесплодны.
– А может, возьмешь себе эти сапожки, – пробую я шутить, но у нее в голове не шутки. Беспокоит единственная мысль: только бы не стошнило.
В блевотине рядом с такой вонью нет ничего удивительного. Я уже почти рыгаю, но держусь. Неприлично было бы, только познакомившись, облеваться. Между нами завязывается какая-то метафизическая связь. Не говоря ни слова, оставляем ящики и выходим на свежий воздух.
Глаза у Пиявки ошалевшие. Мои, наверное, не меньше. Стоим и молчим. Отваживаюсь предложить ей сигарету. Не отказывается.
– Ты из Словении, – продолжаю начатое в студии знакомство.
– Из Любляны.
– Ах, из Любляны… – и жду, пока она меня спросит.
– А ты? – не выдерживает она, хотя сама такая сногсшибательная, что ей совершенно нет дела до того, откуда я.
– Я из Вильнюса.
– Откуда?
– Из Вильнюса. Из Литвы.
– Откуда, откуда?
Это меня, конечно, раздражает: стоило ей вдохнуть чуть-чуть свежего воздуха, как она снова почувствовала, что живет рядом с Венецией.
– Из Вильнюса.
– Ах, да. Знаю, – говорит она таким тоном, словно доставляет мне огромное удовольствие.
Такие удовольствия мне не нужны. Теперь я не жалею, что пытался всучить ей поношенные сапожки. Ей пошли бы. Ничто так не раздражает, как необоснованное превосходство. Глобус круглый, поэтому не верится, что некоторым кажется, будто географическое положение дает им право вписать тебя в конец таблицы. Она совершила непростительную ошибку, хотя мне и плевать, откуда она родом. Я не люблю тех, кто, услышав, какой твой знак Зодиака, заявляют, что знают все.
– А кто ты такая? – теперь уже не очень дружелюбно спрашиваю я, потому что мне насрать на ее происхождение и на то, чем она занимается.
Она не замечает моей злости, а может, не хочет замечать. Те, кто живут рядом с Венецией или Берлином, умеют очень хорошо владеть собой. Они могут убить своей вежливостью, под которой часто таится духовная импотенция. Не говорю, что я духовен, как культурная программа съезда Коммунистической партии. Никоим образом.
– Я директор Люблянского театра драмы, – как бы небрежно заявляет она.
– Вот как. В Вильнюсе я встретил одного типа. Он сказал, что драматург, работает кем-то в театре. В Любляне только один театр. Как его зовут? Славик? Гомик?.. Не помню.
Теперь она изображает тревогу из-за того, что Джима так долго нет. Делает кислую мину, однако жребий брошен, и отступать ей некуда. Она вынуждена вспоминать имя, которое беспокоит меня меньше всего в жизни.
– А сколько ему лет? – снисходит она до вопроса.
– Может, тридцать… А может, и меньше. Не знаю.
– Кто бы это мог быть?.. – Думает, стало быть, словно словенцы – стомиллионная нация, три четверти которой драматурги и все работают в тысячах театров. – Томаш?
– Да. Он.
На этом беседа заканчивается, так как больше нам сказать друг другу нечего. Сигареты осталось всего на несколько затяжек. Как спасение, приходит Джим.
– Выбрали? – спрашивает он нас.
– Она выбрала неплохие сапоги, – лгу я и указываю на совершенно оторопевшего директора театра.
– Так бери их и пошли есть. Я угощаю.
Директор театра, не желая разочаровать бывшего партнера по любви, берет, скрывая отвращение, сапоги.
Поделом ей. Нечего притворяться, что не знаешь, где Вильнюс. Впредь всегда буду так поступать с теми, кто в школе получал самые низкие оценки по географии, хоть мне и наплевать.
– Мы пойдем в китайский ресторан, – конкретизирует Джим.
– Джим, я не хочу есть. Вон я какой толстый, – стараюсь отказаться я от этого предложения. – Кроме того, мне нужно обменять деньги, a «American Express» скоро закроется.
– Ерунда. Отведу тебя в свой банк.
Джима не переубедишь. Я есть не хочу. Я не хочу есть! Я не хочу и не знаю, как все это ему объяснить.
– Я тебе показывал свое интервью? – спрашивает он меня, пока миниатюрная китаянка сервирует столик в ресторане.
– Нет.
Он вытаскивает из папки ксерокопии. Несколько экземпляров дает мне, другие – Пиявке, которая сидит на кушетке, положив рядом добытые сапоги. Интервью ее не интересует. Мечтает, как бы отделаться от сапог. Мне приятно, что я в какой-то степени причастен к этим мечтаниям, таким редким в ее возрасте, если учесть социальное положение и географическое происхождение.
– Это интервью показывали в прошлом месяце, – гордится Джим.
– Да? Замечательно, – говорю.
Не очень понимаю людей, якобы случайно сующих копии интервью в папки, идя обедать в ресторан, который находится на противоположной стороне улицы. Да ладно. Джим симпатяга. И щедрый – какие сапоги устроил Пиявке! Позавидовать можно.
Официантка носит и носит еду. Опять обожрусь. Опять пережру. Такая у меня судьба в этом городе – есть и встречать интересных людей. От всего этого даже плохо. Сейчас вырвет.– Что бы ты хотел на десерт? – спрашивает меня Джим.
Состояние не меняется. Мне суждено ждать у Национальной библиотеки. Три дня атаковали телефонными звонками и наконец прорвали мою оборону. Соглашаюсь пойти посмотреть эти рукописи, от которых мне никакой пользы. Теперь жду, а Сесиль опаздывает. Если она опоздает на четверо суток, я буду очень недоволен, хотя мне и не хватит смелости выразить это словами.
Проскальзываю в библиотеку. Не собираюсь торчать у ворот, словно жаждущий знаний. Прикинувшись семиотиком, попадаю в холл библиотеки. Больно видеть у входа в читальный зал толпу истосковавшихся по мудрости. Они ждут, пока другие насытятся, после чего тут же проскальзывают внутрь, получая стол и стул – неотъемлемые атрибуты знаний. Вижу, что многие лица в прыщах. В их телах бушуют гормональные бури, которые они усмиряют бесконечностями дискурсов. Это самое плохое лекарство, хотя они еще верят, что это – лучшее средство от бессмыслицы. Эта нация всегда останется культурной и образованной. Малым народам было бы завидно смотреть, с какой решительностью эти люди ждут, пока библиотекари забросят в печь их мозгов несколько книг. Верящих в науку и прогресс огромное множество. В Исландии таких наверняка всего несколько десятков. Остальные ловят рыбу. Мне тяжко в этой набухшей разумом атмосфере. Выхожу.
На улице Сесиль по-прежнему нет. Решаю ждать пять минут. Прошло три. Она появляется.
Издали Сесиль похожа на французского бульдога: маленькая, плотная, с кривыми ногами и симпатичным лицом.
– Извини, что опоздала, – бросается она ко мне.
– Пустяки, – говорю, пренебрежительно отмахиваясь.
– Прости, но я хочу еще закусить. Ужасно проголодалась.
Пока она жалуется, оглядываю ее. Гной с ресниц стерла. Хороший знак. Ляжки неестественно белые. Грудь впечатляет больше, чем когда увидел ее в первый раз. Руки синеватые. Из платья выросла. Должна была бы выглядеть весьма эротично, однако, даже сильно захотев, сексуального влечения к ней я бы не почувствовал. С другой стороны, можно ли чувствовать сексуальное влечение к французскому бульдогу? Разве что будучи зоофилом. До зоофила мне еще далеко.
– Просто умираю как хочу есть, – продолжает она делиться со мной своими заботами.
– Поешь, поешь, – подбадриваю я.
– Я сбегаю в кафе за углом и через несколько минут вернусь. Ты подождешь?
– Да, конечно, подожду.
Она бегом мчится к вожделенному куску мяса, а может, и рыбы. Груди раскачиваются в стороны. Платье взлетает, оповещая, что сегодня ее стыд скрывают голубые трусики. Во мне это не вызывает абсолютно никаких желаний. Даже обидно.
Подпираю двери Национальной библиотеки. Пожиратели знаний мною недовольны, так как я загораживаю выход. Они идут мимо меня, словно сомнамбулы. Старичок, едва волоча ноги, тащит за собой портфель, который больше него самого. Ему все мало. Прожил почти сто лет и до сих пор не понял, что мог посвятить их охоте. Горько даже подумать, что сто лет он высидел за книгами только для того, чтобы в конце жизни именоваться профессором. Циничнее войны эти академические игры. Он их жертва, однако спасаться уже слишком поздно. Кое-как ему удается спускаться по библиотечной лестнице. В этом его действии сейчас больше смысла, чем в сладости прочитанной десять минут назад книги. Если подует ветерок посильнее, он грохнется вместе со своим портфелем, содержимое которого, как он все еще надеется, может расширить знание об этом мире.
– Видишь, какая я быстрая, – говорит мне Сесиль, дожевывая булочку. – Задержалась на какие-то десять минут. Хотела быстрей, да была очередь.
– Ничего. Мне было приятно тебя ждать, – говорю ей. – Здесь столько разных персонажей мимо меня прошло. Могло быть и больше.
По-прежнему жуя булочку, она ведет меня к служебному входу.
– Можем покурить. Пьер скоро придет.
Пьер – это фотограф, которому я должен быть благодарен за знакомство с самым большим книгохранилищем Европы, иначе говоря – кладбищем книг. Сесиль щебечет без умолку.
– Вчера столько дел было, столько дел, – начинает она пытку. – Послезавтра приезжает мой друг из Марселя. Нужно собираться, а у меня еще даже документы не все. Через пару месяцев уезжаю в Россию, но до сих пор ничего не сделано. Такое дальнее путешествие, такое дальнее, такое дальнее…
Моя система звукоизоляции действует безупречно. Едва только она начала говорить, как я уже ничего не слышу. На пару лет уезжает в Сибирь, где будет учить молодых русских французскому языку. Парадоксально: в начале века русские отправлялись во Францию, а в конце – французы с огромным энтузиазмом путешествуют в Сибирь. Удивительные миграционные перемены!
– …А ему еще театральные дела надо уладить, потому что он думал, что поедем только в ноябре.
– Кто, кто? – перебиваю я.
– Он. Ему там ничего не надо будет делать. Правительство выделяет деньги только для того, чтобы осмотреться.
– Кто такой? – осведомляюсь я, хоть мне и неинтересно.
– Огюст. Ему не обязательно нужно будет ставить спектакль. Может, в другой раз.
– А ты его знаешь?
– Знаю. Вчера познакомились. Он будет искать в Сибири вдохновение.
Заботы Огюста меня не интересуют. Ясно, что он – еще один авантюрист, выклянчивший у Фонда помощи Востоку немаленькую сумму для своего вдохновения, которое неизвестно удастся ли выдохнуть.
В дверях показывается Пьер. Типичный фотограф: худой, лохматый и без фотоаппарата. Такие мне больше всего нравятся. Он не может стоять на месте и потягивается, как пантера. Его плечи поднимаются, опускаются. Пластичный, делаю я вывод. Он может работать только со штативом.
Целует Сесиль в обе щеки. Даже не завидую. Мог бы и любовью с ней заняться, а я бы тем временем стоял, как дольмен или менгир – объект неизвестного назначения. Подает и мне руку. Знакомимся – оба расширяем группу друзей, которую можно было бы и не расширять, однако эта неугомонная Сесиль… Она весело кричит и радуется нашей едва завязавшейся и еще хрупкой дружбе. Впечатление такое, словно она сводничает.Пьер ведет нас катакомбами библиотеки и через каждые два шага останавливается, потому что ему нужно поздороваться и потрепаться с теми, кто попадается навстречу. Это беда всех фотографов: они знают весь мир и в то же время не знают никого. Видно, что это его утомляет, однако он держится героически и не выдает своего раздражения. Это еще одна характерная черта фотографов. Они всегда веселы, и им чужды депрессия художников, безнадежность писателей, сомнения режиссеров, безумие танцоров.








