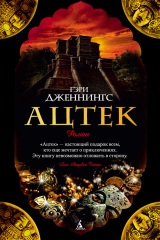
Текст книги "Ацтек. Том 1. Гроза надвигается"
Автор книги: Гэри Дженнингс
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
К свершению обрядов приступили лишь после того, как Тонатиу погрузился в сон на своем западном ложе, дабы владыка тепла не узрел, какие почести воздают его брату, властелину влаги, и не позавидовал тому. На закате на площади и на склонах ближайших холмов начали собираться жители острова. Приходили все, кроме самых старых, немощных и недужных, а также тех, кому приходилось остаться дома, чтобы за ними ухаживать. Едва солнце скрылось за горизонтом, как на ступенях пирамиды и в находящемся на ее вершине храме появились жрецы в черных одеждах. Они готовились разжечь множество факелов и жаровен, которым предстояло распространять разноцветный дым и сладостные ароматы. Жертвенный камень в эту ночь не использовался: вместо этого к подножию пирамиды, так, что в нее при желании мог заглянуть каждый, доставили огромную каменную купель, наполненную предварительно освященной особыми заклинаниями водой. После наступления темноты деревья, росшие вокруг пирамиды, тоже осветились множеством огоньков. Бесчисленные крохотные светильники создавали удивительное впечатление: казалось, будто в рощице собрались все светлячки Сего Мира. А на ветвях деревьев раскачивалось множество ловких малышей – мальчиков и девочек в любовно сшитых матерями праздничных нарядах. Разноцветные бумажные платьица девочек были круглыми или вырезанными в форме лепестков – малышки изображали различные фрукты и цветы. Мальчики, в еще более причудливых костюмах из перьев, представляли собой птиц и бабочек. Всю праздничную ночь мальчики-«птицы» и мальчики-«насекомые» перебирались с ветки на ветку, делая вид, будто «пьют нектар» из девочек-«фруктов» и девочек-«цветов».
Когда окончательно настала ночь и все население острова собралось у пирамиды, на ее вершине появился главный жрец Тлалока. Протрубив в раковину, он властно воздел руки, и шум толпы начал стихать. Руки жреца оставались поднятыми до тех пор, пока на площади не воцарилась полная тишина. Потом он уронил их, и в тот же самый миг раздался оглушительный раскатистый гром: ба-ра-РУУМ! То был голос самого бога дождя Тлалока. Содрогнулось все: листва на деревьях, пламя костров, благовонный дым и даже сам воздух. На самом деле Тлалок тут, конечно, был ни при чем: это жрецы били огромной деревянной колотушкой по туго натянутой змеиной коже «громового» барабана, иначе именовавшегося «барабаном, вырывающим сердце». Звуки эти разносились аж на два долгих прогона, так что можете себе представить, как они воздействовали на нас, собравшихся неподалеку. Наводящий страх пульсирующий грохот, продолжался до тех пор, пока людям не стало казаться, что их кости вот-вот рассыплются. Потом грохот постепенно начал стихать, пока наконец его звук не слился с ударами в небольшой, «божий» барабан. Их ритмичный перестук стал фоном для ритуального приветствия Тлалока, провозглашаемого главным жрецом.
Время от времени жрец умолкал, и тогда вся толпа издавала протяжный, похожий на совиный крик: «Ноо-оо-оо!» приблизительно соответствующий по смыслу вашему церковному «аминь». Также в промежутках между его декламациями вперед выступали младшие жрецы. Они извлекали из своих одежд маленьких водяных существ – лягушек, саламандр и змей, – показывали нам этих извивающихся тварей, а потом глотали их. Живых и целиком!
Наконец жрец завершил свое древнее песнопение, выкрикнув изо всей мочи: «Техуан тьецкуийа ин ауиуитль, ин покхотль, Тлалокцин!» Переводится это так: «Мы хотим укрыться под могучим кипарисом, о владыка Тлалок!», то есть – «Мы просим твоей защиты, твоего покровительства».
В тот самый миг, когда их глава проревел это, остальные жрецы, рассредоточенные по площади, бросили в жаровни пригоршни тончайшей маисовой муки, и каждое такое облачко взорвалось с громким треском и ослепительной вспышкой: казалось, что повсюду засверкали молнии. И вновь оглушительно загрохотал громовой барабан. Его пробирающий до самых костей бой начал стихать лишь тогда, когда казалось, что еще чуть-чуть – и наши зубы, расшатавшись, выпадут из десен. Но вот громыхание сошло на нет, и наши уши, вновь обретшие способность воспринимать обычные звуки, наполнила музыка. Теперь играли на глиняной флейте, имевшей форму сладкого картофеля, на подвешенных тыквах различных размеров, издававших, когда по ним ударяли палочками, звуки разной тональности, и на свирели, сделанной из пяти скрепленных между собой обрезков тростника различной длины. Ритм этому оркестру задавал инструмент под названием «крепкая кость» – то была оленья челюсть, скрежетавшая, когда по зубам животного водили жезлом. Едва зазвучала музыка, танцоры – мужчины и женщины, которым предстояло исполнять танец Тростника, – выстроились кругами, каждый из которых был расположен внутри другого. У их лодыжек, колен и локтей были прикреплены высушенные стручки с семенами, трещавшие, шуршавшие и шептавшие при каждом движении. Мужчины в одеждах синего, как вода, цвета держали в руках обрезки тростниковых стеблей – длиной в руку и толщиной в запястье. Юбки и блузы женщин были бледно-зелеными, цвета молодого тростника, а тон всему танцу задавала Тцитцитлини.
Танцоры скользили в такт жизнерадостной музыке грациозно переплетающимися вереницами. Руки женщин изящно изгибались над головами, подражая колышущемуся на ветру тростнику, а мужчины потрясали своими палками, чтобы создать впечатление, что этот качающийся тростник шелестит и шуршит. Потом музыка стала громче; женщины собрались в центре площади, приплясывая на месте, тогда как мужчины обступили их кольцом, выполняя в такт резкие движения своими толстыми обрезками тростника. При каждом таком выпаде становилось ясно, что в руке у танцора находится не один стебель, а много вставленных один в другой. В самом толстом тростнике находился другой, потоньше, в том – еще тоньше, и так далее. После резкого взмаха все спрятанные внутри стебли выскакивали наружу, и в руке танцора вместо короткого обрезка оказывалось длинное, утончающееся к концу удилище. Концы этих удилищ смыкались над головами танцующих женщин, и те, к восторгу зевак, оказывались под сенью легкого тростникового купола. Потом ловким движением запястий мужчины заставляли эти раздвижные стебли сложиться обратно, причем делали это все одновременно. Этот искусный трюк повторялся снова и снова, но каждый раз с каким-нибудь отличием. Например, выстроившись в две линии, танцоры раздвигали свои удилища навстречу друг другу, образуя коридор или тоннель с тростниковой крышей, по которому в танце проходили женщины...
Когда танец Тростника подошел к концу, началось действо, вызвавшее у зрителей немало смеха. На освещенную кострами площадь приковыляли (а то и приползли) все те старики, которых донимала боль в костях и в суставах. Известно, что такого рода недуги, делающие людей скрюченными, по какой-то причине особенно обостряются именно в сезон дождей. Старики и старухи притащились на площадь для того, чтобы, танцуя перед Тлалоком, упросить владыку дождливого сезона сжалиться над ними и облегчить их страдания.
Несчастные, разумеется, относились к церемонии со всей серьезностью, но со стороны такой танец неизбежно выглядел весьма комично, и зрители один за другим начинали хихикать, а потом и вовсе покатываться со смеху. Танцоры, со своей стороны, осознав, что выглядят смешно, начинали кривляться уже намеренно, потешая и зрителей, и бога. Одни выставляли свои недуги, хромоту или спотыкание в преувеличенном виде, а другие и вовсе подпрыгивали на четвереньках, изображая лягушек, ковыляли бочком на манер крабов или вытягивали навстречу друг другу свои старые негнущиеся шеи, словно журавли в брачный сезон. Зеваки просто заходились от смеха.
Престарелые танцоры настолько увлеклись и так затянули свое безобразное кривляние, что жрецам пришлось убирать их со сцены чуть ли не силой. Возможно, вам, ваше преосвященство, будет интересно узнать, что все эти усилия просителей никогда не оказывали на Тлалока желаемого воздействия, так что ни один калека в результате не выиграл. Напротив, многие из них после той ночи оказывались прикованными к постели, но эти старые дурни все равно год за годом приходили на церемонию.
Потом наступил черед танца ауаниме, то есть тех женщин, долгом которых было доставлять телесную радость благородным воинам. Их танец не зря назывался квеквецкуекатль, «щекотливый», ибо он пробуждал у зрителей, мужчин и женщин, старых и молодых, желание устремиться к танцовщицам и начать вытворять нечто совершенно непристойное и недопустимое. Танец был настолько откровенным в своих движениях, что, хотя в нем и участвовали только женщины, причем держались они на расстоянии одна от другой, зрители могли бы поклясться, что рядом с ними незримо присутствовали обнаженные мужчины...
После того как ауаниме, запыхавшиеся, растрепанные, еле державшиеся на ногах, покинули площадь, жрецы под алчный стон «божьего» барабана вынесли туда богато украшенные носилки с мальчиком и девочкой, лет примерно четырех. Поскольку ныне покойный и не очень-то оплакиваемый Чтимый Глашатай Тисок так и не удосужился устроить войну, у нас не было детей-пленников, так что для праздничного жертвоприношения жрецам пришлось купить малышей в семьях местных рабов. Четверо их родителей теперь с гордостью взирали на то, как разукрашенные носилки несколько раз торжественно обнесли вокруг площади.
И родители, и дети имели полное основание испытывать гордость и удовлетворение, ибо покупка была совершена заранее, и все это время за детьми тщательно ухаживали и хорошо их кормили. Пухленькие, бодрые и бойкие, малыши весело махали ручонками своим родителям, да и всем, кто махал им. И уж конечно, не будь эти дети предназначены в жертву, им бы никогда не надеть таких нарядов – одеяний тлалокуэ, духов, составляющих свиту бога дождя. Накидки были из тончайшего хлопка, сине-зеленые, с узором из серебристых дождевых капелек, а за спиной у малышей трепыхались облачно-белые бумажные крылышки.
Дальше произошло то, что всегда бывало на каждой церемонии в честь Тлалока: дети и понятия не имели о том, что их ждет и чего ждут от них, а потому при виде такой нарядной толпы, огней и музыки от души радовались, подпрыгивали, смеялись и лучились, как два маленьких солнышка. Это, конечно, шло вразрез с тем, что требовалось, поэтому жрецам, несшим кресло, пришлось тайком ущипнуть малышей за ягодицы. Поначалу детишки растерялись, потом принялись огорченно хныкать и наконец разрыдались. Именно это от них и было нужно: ведь чем громче крик, тем сильнее будут грозы, чем больше слез, тем обильнее прольются дожди.
Толпа (это поощрялось и ожидалось даже от взрослых мужчин и закаленных воинов) подхватила плач. Люди били себя в грудь и оглашали площадь горестными стенаниями. Когда охи и стоны, перекрывавшие неистовый бой «божьего» барабана, достигли предела, жрецы остановили носилки возле стоявшей у подножия пирамиды каменной ванны, наполненной водой. Шум стоял такой, что жрец наверняка и сам не слышал собственных слов, которые произносил нараспев, обращаясь к детишкам, поднимая их по очереди на руках к небу, дабы Тлалок узрел и одобрил предлагаемую жертву.
Потом к ним приблизились еще два младших жреца: один с маленьким горшочком, а другой – с кистью. Главный жрец склонился над мальчиком и девочкой, и, хотя никто не мог слышать, все поняли, что он велит им надеть маски, чтобы вода не попала малышам в глаза, пока они будут плавать в священном сосуде. Дети все еще хныкали, их щеки были мокрыми от слез, но они не противились, когда жрец кистью размазал по их лицам жидкий оли, оставив непокрытыми только бутоны их губ. Мы не видели выражения лиц детишек, когда жрец отвернулся от них и, хотя слова его по-прежнему заглушались шумом, снова принялся декламировать заключительное обращение к Тлалоку. Призыв принять жертву, даровать взамен щедрые дожди и все в таком духе...
Помощники жреца подняли мальчика и девочку в последний раз, и главный жрец быстро мазнул клейкой жидкостью по нижней части их лиц, покрыв оли рты и ноздри, после чего детей опустили в резервуар. Соприкоснувшись с холодной водой, резиновый сок мгновенно загустел. Понимаете, согласно обряду, жертвы должны были умереть не от воды, а в воде. Поэтому дети не захлебнулись и не утонули. Они медленно задохнулись под плотным слоем загустевшего каучука, брошенные в резервуар, где бились и дергались в конвульсиях под вой толпы и бой барабанов. Дети барахтались все слабее, и наконец сначала девочка, а за ней и мальчик затихли и погрузились в воду. На поверхности остались лишь их неподвижные, широко распростертые белые крылья.
Хладнокровное убийство, ваше преосвященство? Но ведь они были детьми рабов, и в жизни их не ожидало ничего хорошего. Лишения, страдания, а в конце – бессмысленная смерть и унылая, беспросветная вечность во тьме Миктлана. Вместо этого малыши умерли во славу Тлалока, ради блага тех, кто продолжил жить, а потому заслужили вечное блаженство в пышных зеленых садах загробного Тлалокана.
Варварское суеверие, ваше преосвященство? Но следующий сезон дождей оказался столь изобильным, что лучшего не мог бы выпросить даже христианин. И урожай был прекрасным.
Жестоко? Душераздирающе? Что ж, пожалуй... Мне, по крайней мере, этот праздник запомнился именно таким. Ибо он был последним, какой нам с Тцитцитлини довелось провести вместе...
* * *
Когда принц Ива прислал за мной свой акали, дули такие ветры и волнение было столь сильным, что гребцам удалось подогнать судно к Шалтокану лишь около полудня. Ну и погода выдалась, однако мне все равно пришлось возвращаться. Ветер просто ревел, лодка плясала на обдававших нас брызгами волнах, и до Тескоко мы добрались уже после того, как солнце прошло полпути к своей постели.
Город начинался сразу от пристани, но, по существу, то была лишь окраина, где обитали и работали те, чья жизнь была напрямую связана с озером. Там находились верфи, мастерские, где вили канаты и плели сети, изготовляли крючки, отроги и прочую утварь, предназначавшуюся для лодочников, рыбаков и птицеловов. Поскольку никто меня не встречал, гребцы Ивы вызвались проводить меня какую-то часть пути и поднести узлы. Я прихватил с собой кой-какую одежду, еще один, тоже подаренный мне Чимальи, комплект красок да корзинку со сластями, испеченными Тцитци.
По мере того как мы приближались к улицам, где они жили, мои спутники прощались и уходили, и вот наконец последний из гребцов сказал мне, что если я пойду дальше, никуда не сворачивая, то непременно выйду на центральную площадь, к большому дворцу. К тому времени уже совсем стемнело, и на улицах в столь непогожий вечер почти не было прохожих. Но не думайте, что я шел в темноте, ибо окна почти всех домов светились. Похоже, здесь у всех жителей имелись светильники с кокосовым маслом, рыбьим жиром или чем-нибудь еще, в зависимости от благосостояния хозяев. Свет проникал через окна, даже если они были закрыты решетчатыми ставнями и занавешены полотнищами из промасленной бумаги. Кроме того, на самих улицах были установлены высокие шесты, на верхушках которых в медных жаровнях полыхали смолистые сосновые щепки. Ветер сдувал оттуда искры, а порой и капли горящей смолы. Эти шесты крепились в отверстиях, просверленных в каменных станинах, выполненных по большей части в виде приземистых статуй различных богов.
Проделав не столь уж долгий путь, я почувствовал усталость, ибо был изрядно нагружен, да и сильный ветер не добавлял мне бодрости. Неудивительно, что, приметив под усыпанным красными цветами деревом тапучини каменную скамью, я обрадовался и присел на нее, чтобы перевести дух. Ветер сдувал на меня алые лепестки. Через некоторое время я почувствовал, что на каменной поверхности скамьи вырезан рельеф. Однако было так темно, что я, даже не пытаясь всмотреться в надпись, начал водить по ней пальцами, надеясь ее прочесть.
– Место отдыха для Владыки Ночного Ветра, – процитировал я вслух, мысленно улыбнувшись.
– Как раз то же самое, – произнес голос из темноты, – ты прочел в прошлый раз, когда мы с тобой встретились на другой скамейке. Это было несколько лет тому назад.
Я вздрогнул, а потом прищурился, чтобы рассмотреть фигуру на другом конце скамьи. И снова увидел человека в накидке и сандалиях – дорогих, хотя и изношенных в пути. И опять его лицо было покрыто дорожной пылью, что делало и без того плохо различимые в сумраке черты и вовсе неразборчивыми. Только вот сейчас я и сам был запылен не меньше его, к тому же с прошлого раза сильно подрос и раздался в плечах. Просто удивительно, что незнакомец меня узнал.
– Да, йанкуикатцин, – сказал я, справившись с волнением, – это поразительное совпадение.
– Ты не должен называть меня господином незнакомцем, – проворчал он с язвительностью, которая запомнилась мне в прошлый раз. – Здесь я свой, и меня все знают. Если кто тут и незнакомец, так это ты.
– Верно, мой господин, – охотно согласился я. – Однако именно здесь мне удалось научиться читать кое-что посложнее знаков, которые вырезают на скамейках.
– Хотелось бы надеяться, – сухо проронил он.
– Это все благодаря юй-тлатоани Несауальпилли, – пояснил я, – по великодушному приглашению которого я уже много месяцев обучаюсь при его дворе.
– И чем ты собираешься отблагодарить Чтимого Глашатая за такую милость?
– Ну, я готов сделать для него все, что угодно, ибо искренне признателен своему благодетелю и был бы рад ему угодить. К сожалению, мне пока не выпало чести лично увидеть Чтимого Глашатая, и никто до сих пор не возлагал на меня никаких поручений, не считая выполнения учебных заданий. Признаюсь, порой мне становится неловко: кому приятно чувствовать себя нахлебником?
– Может быть, Несауальпилли просто ждет. Хочет убедиться, что ты оказался достойным его доверия. Удостовериться, что ты готов сделать для него все.
– Я готов. Сделаю все, чего бы он ни потребовал.
– Не сомневаюсь, что рано или поздно ему что-нибудь от тебя понадобится.
– Надеюсь на это, мой господин.
Некоторое время мы сидели в молчании, нарушаемом лишь ветром, стонавшим между домами как Чокакфуатль, Рыдающая Женщина, вечная скиталица. Наконец запыленный странник саркастически изрек:
– Ты хочешь принести пользу при дворе Чтимого Глашатая, а сам сидишь здесь, хотя его дворец там.
Он махнул рукой, и я понял этот жест: незнакомец опять отсылал меня столь же бесцеремонно, как и в прошлый раз.
Я встал, собрал свои узлы и не без обиды сказал:
– Я понял намек моего нетерпеливого господина и ухожу. Микспанцинко.
– Ксимопанолти, – равнодушно обронил он.
На углу, возле светильника, я обернулся, но оказалось, что его свет не достигает скамьи. Если путник и продолжал сидеть, с такого расстояния его уже было не разглядеть. Единственное, что я видел, это небольшое облачко красных лепестков тапучини, танцующих на улице под порывами ночного ветра.
Наконец я добрался до дворца и нашел там поджидавшего меня мальчика-раба Коцатля. Видимо, в отличие от пригорода в столице не было достаточного пространства для возведения дополнительных павильонов и пристроек, поэтому городской дворец оказался гораздо больше: думаю, в нем насчитывалось никак не меньшее тысячи комнат. Впрочем, он тоже занимал обширную площадь: даже в центре столицы Несауальпилли не отказывал себе в садах, деревьях, фонтанах и тому подобном.
Здесь имелся даже живой лабиринт, занимавший пространство, которого хватило бы на десяток крестьянских наделов. Насадил его какой-то давний предок нынешнего правителя, и с тех пор лабиринт, хотя его регулярно подстригали, сильно разросся. Теперь его извилистые, разветвляющиеся и переплетающиеся дорожки обступали непроницаемые колючие изгороди из терновника, вдвое выше человеческого роста. В зеленой внешней ограде имелось одно-единственное отверстие, лаз, и говорили, что якобы всякий вошедший туда непременно, пусть и после долгих блужданий, найдет путь к маленькой травянистой полянке в центре лабиринта, но что вернуться обратно тем же путем решительно невозможно. Путь наружу знал только главный садовник дворца – старик, в семье которого этот секрет передавался из поколения в поколение; его не раскрывали даже самому юй-тлатоани. Поэтому входить внутрь разрешалось только в сопровождении старого садовника, не считая тех случаев, когда кого-то отправляли в лабиринт в наказание. Бывало, что нарушителя закона обнаженным загоняли (иной раз – остриями копий) в лаз, а спустя примерно месяц садовник отправлялся в лабиринт и выносил то, что оставалось от несчастного оголодавшего, израненного колючками, поклеванного птицами и изъеденного червями.
На следующий день перед началом занятий ко мне подошел принц Ива и, поздравив с возвращением ко двору, мимоходом заметил:
– Кивун, отец велел передать, что будет рад видеть тебя в тронном зале в любое удобное для тебя время.
В удобное для меня время! Сколь же любезен был юй-тлатоани аколхуа, если проявлял такую учтивость по отношению к безродному чужеземцу, который жил припеваючи во дворце правителя исключительно благодаря его доброте и гостеприимству.
Конечно, я немедленно покинул классную комнату и пошел – точнее, почти побежал по галереям огромного строения. Запыхавшись, я наконец добрался до тронного зала, где выполнил ритуальный жест целования земли и промолвил:
– Счастлив предстать перед высокой особой Чтимого Глашатая.
– Ксимопанолти, Кивун, – ответил правитель и, поскольку я оставался коленопреклоненным, добавил: – Можешь подняться, Крот.
Я выпрямился, но не сдвинулся с места, и тогда он сказал:
– Подойди ко мне, Темная Туча.
Я с почтительной робостью двинулся вперед, тогда как правитель улыбнулся и заметил:
– Имен у тебя, как у птицы, которая вольно летает над всеми землями Сего Мира и которую каждый народ называет по-своему.
Коротким, быстрым движением он указал на одно из сидений, стоявших полукругом перед троном:
– Садись.
По правде сказать, так называемый «трон» Несауальпилли был ничуть не более величественным или впечатляющим, чем коренастый табурет, предложенный мне. Правда, трон стоял на помосте, и поэтому я смотрел на правителя снизу вверх. Он сидел не в церемонной, торжественной позе, а расслабившись: вытянул ноги вперед и скрестил их на уровне лодыжек. Хотя стены тронного зала украшали гобелены из перьев и расписные панели, никаких других предметов обстановки, кроме трона, низких табуретов для посетителей да стоящего непосредственно перед юй-тлатоани низенького стола из черного оникса (на столе этом, поблескивая, покоился белый человеческий череп), я не увидел.
– Этот череп, уж не знаю чей он, всегда держал здесь мой отец, Постящийся Койот, – пояснил правитель, проследив за моим взглядом. – Возможно, это череп какого-нибудь врага и его поместили здесь как напоминание о торжестве. Или же череп умершей возлюбленной служил отцу воспоминанием об утрате. Не знаю, почему он хранил его, но не исключено, что по той же причине, что и я сам.
– И что же это за причина, владыка Глашатай?
– В этот зал издавна являются послы, которые угрожают нам войнами или предлагают договориться о мире. Сюда приходят обиженные, дабы я восстановил справедливость, и челобитчики, просящие о милостях. Когда эти люди обращаются ко мне, их лица искажаются гневом, омрачаются невзгодами или озаряются улыбками, изображающими фальшивую преданность. Так вот: внимая словам всех этих посетителей, я предпочитаю смотреть не на их лица, а на этот череп.
– Но почему, мой господин? – только и смог сказать я.
– Да потому, что это есть единственно чистое и честное человеческое лицо, без какой-либо маски, без лживой личины, скрывающей вероломство. Лицо, не искаженное ни страхом, ни подобострастием. Лицо, на котором навсегда запечатлена ироническая усмешка над суетной озабоченностью каждого человека насущными, сиюминутными потребностями. Когда посетитель умоляет меня немедленно вмешаться, я нарочно тяну время, скрываю свои чувства и порой выкуриваю покуитль, а то и два, глядя на этот череп. Он напоминает мне о том, что слова, которые я произнесу, вполне могут пережить мою бренную плоть, что, воплотившись в указы и законы, они могут просуществовать очень долго, а значит, я не вправе изрекать их, не оценив все возможные последствия как для тех, кто живет ныне, так и для тех, кому предстоит жить в грядущем. Аййо, сей череп нередко остерегал меня от необдуманных решений, которые я мог принять в порыве чувств.
Несауальпилли перевел взгляд с черепа на меня и рассмеялся:
– И даже если некогда эта голова принадлежала болтливому идиоту, то, как ни странно, в качестве молчаливого мертвеца он оказался бесценным мудрым советчиком.
– Мне кажется, мой господин, – заметил я, – что даже самый мудрый советник может быть полезен лишь тому, кто и сам достаточно мудр, чтобы внимать советам и понимать, что он в них нуждается.
– Я принимаю это как похвалу, Кивун, и благодарю тебя. Но скажи, мудро ли я поступил, привезя тебя сюда с Шалтокана?
– Как я могу судить об этом, мой господин? Мне ведь неизвестно, зачем это было сделано.
– Еще во времена Постящегося Койота город Тескоко прославился как центр знаний и культуры, но это не значит, что он сам по себе останется таким навеки. В самых благородных семьях могут рождаться болваны и бездельники – за примерами далеко ходить не надо, такие есть и среди моей собственной родни, – поэтому мы не стесняемся привлекать таланты отовсюду и не чураемся даже вкраплений иностранной крови. Ты показался нам человеком одаренным и многообещающим, а потому оказался в Тескоко.
– Придется ли мне здесь и остаться, владыка Глашатай?
– Это будет зависеть от тебя, от твоего тонали и от обстоятельств, которые никто не может предвидеть. Однако твои учителя отзываются о тебе с похвалою, поэтому я думаю, Кивун, что тебе предстоит принять более деятельное участие в придворной жизни.
– Мой господин, я всегда надеялся, что мне представится возможность отблагодарить тебя за великодушие. Правильно ли я понял, что смогу принести тебе пользу, ибо на меня будет возложено некое задание?
– Да, если, конечно, оно придется тебе по вкусу. За время твоего недавнего отсутствия я взял себе еще одну жену. Ее зовут Чалчиуненетль, Жадеитовая Куколка.
Я промолчал, несколько смущенный столь неожиданным и вроде бы не имевшим ко мне никакого отношения заявлением. Правитель, однако, продолжил:
– Она старшая дочь Ауицотля, его подарок мне, коим он обозначил свое восшествие на трон в качестве нового юй-тлатоани Теночтитлана. Эта девушка мешикатль, как и ты, а по возрасту (ей пятнадцать лет) годится тебе в младшие сестры. Наша брачная церемония, разумеется, будет совершена по всем правилам, однако плотскую близость придется отсрочить до тех пор, пока Жадеитовая Куколка не достигнет полной зрелости.
И снова я промолчал, хотя, конечно, мог бы рассказать мудрому Несауальпилли кое-что об особенностях созревания девушек нашего народа.
– С ней прибыла целая армия прислужниц, – продолжил Чтимый Глашатай, – так что мне пришлось отвести для ее свиты все восточное крыло. Можно сказать, что Жадеитовая Куколка имеет свой маленький двор, поэтому, что касается удобств, услуг и женского общества, тут она не будет ни в чем нуждаться. Однако, Кивун, мне пришло в голову, что не мешало бы и тебя включить в ее свиту, ибо там явно не хватает хотя бы одного лица мужского пола, а вы с ней к тому же соплеменники. Таким образом, ты мог бы послужить мне, обучая девушку нашим обычаям, принятой в Тескоко манере говорить и всему тому, что необходимо супруге, которой я мог бы гордиться.
– Но, владыка Глашатай, – уклончиво ответил я, – возможно, твоя супруга не слишком обрадуется тому, что к ней приставят то ли соглядатая, то ли наставника. Юные девушки бывают своенравны, строптивы и нетерпимы, если им вдруг покажется, что кто-то покушается на их свободу.
– Уж мне ли этого не знать, – вздохнул Несауальпилли. – У меня самого две или три дочери примерно того же возраста. А Жадеитовая Куколка, будучи дочерью одного юй-тлатоани и супругой другого, наверняка окажется еще своенравнее их. По правде сказать, я и врагу не пожелал бы состоять при особе бойкой, избалованной девицы. Хотя, Крот, надеюсь, что она тебе понравится...
Должно быть, некоторое время назад правитель дернул за скрытую веревочку колокольчика, ибо в следующее мгновение он сделал жест, и я, обернувшись, увидел стройную девушку в богатых церемониальных юбке, блузке и головном уборе, которая медленно, но уверенно направлялась к помосту. Она шла с высоко поднятой головой, но скромно потупя очи, а черты ее лица поражали совершенством.
– Дорогая, – промолвил Несауальпилли, – это тот самый Микстли, о котором мы говорили. Ты не против, если он присоединится к твоей свите в качестве твоего спутника и защитника?
– Если это угодно моему господину и супругу, я готова повиноваться, а к молодому человеку, коль скоро он не против, буду относиться как к старшему брату.
Тут веки с длинными ресницами поднялись, и я увидел очи, подобные невероятно глубоким лесным озерам. Позднее я узнал, что она имела обыкновение закапывать в глаза сок травы камопалксиуитль, расширявший зрачки и придававший им блеск, подобный сиянию драгоценных камней. Правда, это принуждало Жадеитовую Куколку избегать не только очень яркого, но и простого дневного света, при котором ее расширенные глаза видели почти так же плохо, как мои.
– Вот и хорошо, – сказал Чтимый Глашатай, удовлетворенно потирая руки.
«Интересно, – подумал я, – долго ли он совещался со своим советником-черепом, прежде чем принял такое странное решение?» Признаюсь, меня мучили дурные предчувствия.
– Кивун, я хочу, чтобы госпожа Жадеитовая Куколка всегда могла получить от тебя братский совет и наставление. Разумеется, ты не должен бранить ее за оплошности или наказывать за проступки: простолюдин, поднявший руку на знатную женщину или оскорбивший ее словом, присуждается к смерти. Я не требую и того, чтобы ты взял на себя роль тюремщика, шпиона или доносчика, но был бы рад, Крот, если бы ты нашел возможным посвящать госпоже, своей названой сестре, то время, какое сможешь уделить без вреда для своей учебы и выполнения домашних заданий. Надеюсь, ты будешь служить ей с той же преданностью, с какой служишь мне или моей первой супруге, госпоже Толлане-Текиуапиль. А теперь, молодые люди, ксимопанолти. Ступайте и познакомьтесь друг с другом.
Как только мы, с подобающими поклонами, покинули тронный зал, Жадеитовая Куколка с приветливой улыбкой сказала:
– Микстли, Крот да еще и Кивун. Сколько же у тебя имен?








