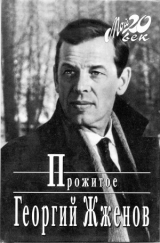
Текст книги "Прожитое"
Автор книги: Георгий Жженов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
«Я послал тебе черную розу…»
Сталинский альянс с Гитлером окончательно развеял иллюзию многих тысяч жертв беззакония, томившихся в переполненных тюрьмах и все еще продолжавших верить, что их арест – трагическое недоразумение, ошибка, и не более того…
Скрепленный в августе тридцать девятого рукопожатием Молотов – Риббентроп, альянс этот отозвался по стране сотнями тысяч обвинительных приговоров…
Следственные тюрьмы после некоторого затишья снова спешно разгружались в лагеря…
Особое совещание свирепствовало.
Тюремная морзянка отстучала новость: «Привезли очередную «зарплату» из ОСО. Дают по три, по пять и по восемь…» Так вот почему хлопают двери камер, слышатся голоса надзирателей, стучат и шаркают шаги на галерках… Скоро, значит, дойдет очередь и до нас, грешных, скоро мы узнаем, сколько кому причитается за полуторагодовалый «пансион» в «Крестах», – развязка близится.
…С металлическим лязгом, словно передернули затвор винтовки, открылась «кормушка». Показалось лицо надзирателя. Камера притихла… Пошелестев в руках бумагами, надзиратель громко зачитал несколько фамилий (мою в том числе). Получив ответное: «Есть», скомандовал: «На выход. С вещами».
Нас погнали вниз, на «пятачок» корпуса, и приобщили к группе заключенных из других камер, сидевших на корточках у дверей канцелярии. Вызывали поодиночке.
Ну вот, кажется, и всё… И конец неизвестности! Ружье выстрелило! Заочное судилище состоялось, и я уже не подследственный – я осужденный. Пять лет Колымы!
Несколько минут назад в присутствии начальника тюрьмы мне зачитали выписку из постановления ОСО НКВД СССР и предложили расписаться в уведомлении.
«Сдохла правда», – через всю официальную бумагу крупно вывел я и поставил подпись.
Чиновник, зачитавший приговор, возмутился, наорал на меня, пригрозил карцером. Потом почему-то сбавил тон и стал даже оправдываться: «Я-то причем? Не я тебе срок давал. Мое дело объявить, и только… А вот ты – хулиган, мальчишка! Казенную бумагу замарал – испортил. Теперь неприятности будут от начальства…»
«Переживешь, – подумал я, – мне бы твои заботы».
Итак, призрачный лучик надежды, до последнего момента теплившийся на дне моей души, погас. Прощай, мечта о воле!
В ожидании этапа в пересылку всех нас, человек сорок, рассчитавшихся за постой в «Крестах», сгрудили в одну из камер первого этажа корпуса, впритык друг к другу. Не помещавшихся вдавливали коленями и сапогами…
Последние часы пребывания в «Крестах» тюремное начальство постаралось сделать особенно памятными.
Около пятнадцати часов продержали нас стоя, прижатыми друг к другу настолько плотно, что нельзя было повернуться…
За все время ни разу не вывели на оправку. Люди обливались потом… Не хватало кислорода… Кто не мог терпеть, мочились под себя. Вонь стояла несусветная! А тут еще начальство тюрьмы распорядилось накормить баландой, причитавшейся нам согласно рациону и недоданной в этот день.
И люди ели.
Ели, несмотря на духоту и вонь, ели, потому что хотелось есть и потому что не знали, где и когда дадут пищу в следующий раз.
По поднятым над головами рукам передавали друг другу миски с баландой. Кому досталась ложка, ставил миску себе на голову и ел ложкой, кто просто хлебал через край – держать миску нормально на уровне груди не позволяла теснота.
Спал ли кто-нибудь из нас в эту душную августовскую ночь, не знаю… Если и спал, то наподобие лошади, стоя.
В эту последнюю ночь в «Крестах» я впервые изменил привычке после отбоя провожать каждый прожитый тюремный день (безликий, как и его близнец предыдущий) своеобразной молитвой: «Еще одним днем ближе к свободе!» Увы! Свободы не получилось.
Справедливость торжествует в книгах – там воля автора. В жизни – другое…
Не суждено мне было наяву испытать радость освобождения, не однажды являвшуюся мне в зыбких тюремных снах, бередивших душу при пробуждении.
Надежда исчезла, испарилась, «как дым, как утренний туман…». Растаяла, как льдинка, оставив на теплой ладони сочувственный след – поникшие лепестки ромашки, прощальный подарок сумасбродной тюремной врачихи.
Было до слез жаль себя. Слезы – это всегда облегчение, они придут потом. Сейчас их не было. Была дикая, терзающая душу боль отчаяния. Рушились остатки веры.
Я прощался не только с «Крестами». Я прощался с собой прежним. Доверчивый ко всему и ко всем, наивный паренек, романтически воспринимавший мир, повзрослел. Завтра из тюрьмы уйдет совсем другой человек, хлебнувший горя. Переживший арест, издевательства следствия, крушение юношеской веры в справедливость… Первые главы повести об исковерканной жизни прочитаны, пережиты.
Начинается новая страница: этапы, пересылки, лагеря… Ну что ж… На ближайшие годы это и будет моя жизнь.
Сам срок, как и вся процедура его получения, вызывал откровенное презрение. Все происходившее казалось настолько диким, настолько за гранью разума, что вспоминалось как-то не всерьез, как театр чудовищного абсурда. И реакция была соответствующей. Например: на корпусном пятачке тюремное начальство сдавало конвою партию осужденных по ОСО зеков, еще не ознакомленных со сроками.
Энкаведешник с тремя кубарями в петлицах зачитывал приговоры:
– Сидоров!
– Есть!
– Отвечать как положено: имя, отчество, год рождения, статья, срок?
– Владимир Федорович, год рождения 1908-й, статья 58.10!
– Срок?
– Не знаю.
– Восемь лет!
– Премного благодарен. – Общее веселье в толпе зеков. Сидоров смеется…
– Фейгин!
Фейгин скороговоркой:
– Есть Фейгин. Семен Матвеевич, 1904 года рождения, статья КРТД – «троцкист». Срок не знаю.
– Десять лет! – Общий хохот. Фейгин притворно плачет. И т. д., и т. п.
Самым коварным считался срок три-пять лет. Особенно получаемый по ОСО. Он имел тенденцию удваиваться, а то и утраиваться по мере его отбывания. Отсидел, скажем, заключенный свои пять лет, его вызывают в УРЧ [3]3
Учетно-распределительная часть.
[Закрыть]лагеря и объявляют еще столько же (мой пример). Долго ли изготовить казенную бумагу за тремя высокими подписями от имени партии, органов НКВД и советской власти!
Самый незыблемый, прочный срок – десять лет. Меньше просидеть начальство не позволит, больше – сам не вынесешь, дойдешь!
Ничего не меняло, если срок был получен не по Особому совещанию, а по суду. Какими были суды в те годы, известно. И как они были туги на пересмотр дел. В сторону увеличения срока – пожалуйста, но не наоборот.
Так бедолага и продолжал коротать свой неразменный «червонец» от звонка до звонка, если силенок хватало, если не «давал дуба», не сходил с дистанции где-нибудь в середине «забега». Старожилы, не один год просидевшие в следственных тюрьмах, повидавшие многое и многих, завидовали тем, кто получал двадцать-двадцать пять лет!
Эта категория зеков, говорили они, могла в любой момент рассчитывать на пересмотр дела в сторону сокращения срока хотя бы потому, что добавлять было уже некуда! А при счастливом повороте политической коньюнктуры – и вовсе рассчитывать на освобождение.
Примеры тому: некоторые категории военных, ученые, иностранцы – поляки, китайцы и прочие… Словом, все те, кто с началом Отечественной понадобился Кремлю.
Интересно, о чем думали все эти притихшие, ушедшие в себя люди, мои товарищи по несчастью, стоявшие вокруг меня, вернее, висевшие вокруг меня друг на друге? Вероятно, о том же, о чем и я, хотя не все испытывали потрясение.
В «нокдауне» находились те, кто, подобно мне, питал иллюзии насчет освобождения. Более взрослые и опытные оставили надежду дома еще в день ареста. И уж во всяком случае, столкнувшись со следствием, поняли, что возврата не будет.
За моей спиной разговаривали вполголоса. Я прислушался, стараясь разобрать, о чем говорят. Невероятно! Читали стихи! «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи…»
Среди скопища висящих друг на друге полуобморочных от духоты и вони людей звучали стихи о Прекрасной Даме. Сплющенные, как скот в загоне, только что клейменные, униженные и растоптанные люди слушали печальные и прекрасные слова Блока о красоте, о любви, о Петербурге… о вечности.
Одного из читавших я узнал по голосу – Юлий Берзин.
Ленинградский писатель, автор книги «Возвращение на Итаку».
Мой сокамерник по восьмимесячному сидению в «Крестах», соавтор по коллективному камерному творчеству – «Детских считалочек 1938 года».
Раз, два, три, четыре —
Мы сидели на квартире,
Вдруг послышался звонок,
И приходит к нам стрелок.
С ним агент и управдом,
Перерыли все вверх дном.
Перерыли все подушки,
Под кроватью все игрушки,
А потом они ушли
И… папашу увели.
Раз, два, три, четыре, пять —
Через день пришли опять.
Перерыв квартиру нашу,
Увели с собой мамашу!
Боже мой! Боже мой!
Завтра явятся за мной.
Щуплый, с чахлой рыжей бороденкой (так путно и не выросшей на тюремных харчах), похожий на доброго гнома Юлик Берзин – барометр камеры, всегда показывавший «ясно, солнечно». Неиссякаемый кладезь хохм и анекдотов – улыбчивый Юлик, с библейской печалинкой, навечно застрявшей в глубине светлых глаз… Как-то сложилась твоя судьба? Жив ли ты? Сдюжил ли восьмилетний «подарок» Особого совещания?..
В эти предутренние часы я услышал незнакомые стихи, врезавшиеся в память намертво, на всю жизнь… Настолько они были созвучны настроению той прощальной ночи в «Крестах».
Прекрасные стихи об узнике, потерявшем ощущение времени, о жажде жизни, о тщетности надежд…
Стихи поразили меня. Услышав однажды, я запомнил их слово в слово на всю жизнь.
Цветистая восточная вязь стихотворных строк не смогла смягчить отчаяние автора, понимавшего, что впереди мрак, бездна. Стихи кричали!
Рожденные за решеткой, они рвались на волю… к жизни. К признанию. Стихи не умирают – не должны умирать! Они как эстафета передаются от поколения к поколению. Стихи – продолжение жизни автора. Вечная о нем память! Они должны, обязаны жить! Умирают поэты – поэзия вечна!
Не ковры тавризские, шелковые
В кованом томятся сундуке —
Дни мои бесценные, пунцовые,
Вечера цветные на замке.
Ткали зря в предсвадебной тревоге
Те ковры рабы не при свечах,
Джан! По ним твои тоскуют ноги
На холодных, звонких кирпичах.
Ин-ша Аллах!.. Игре судьбы конца нет!
Минет срок, и верная рука,
Хной мерцая, бережно достанет
Пленные ковры из сундука.
Лягут вновь они под ноги милой,
Зацветут, заплещутся в лучах —
Только б ты их, Джан, не разлюбила,
До тех пор, о Джан!.. Не истомила
Легких ног на звонких кирпичах.
Мне кажется, что я сейчас еще слышу низкий печальный голос автора, неторопливо и ритмично роняющего в тишину камеры проникновенные слова.
Как всякий художник, он не мог не чувствовать, что рождение его стихов произошло. Они нашли свою первую аудиторию. И какой бы трагичной ни была дальнейшая судьба автора – я верю, что это был момент его творческого счастья! И не такая уж беда, что премьера состоялась не в Колонном зале Дома Союзов, не в Доме литераторов, а в одиночной камере тюрьмы (зато стихи слушали стоя и при переаншлаге!).
На башнях циферблат с скрещенными мечами,
На площадях прозрачные круги,
Где время, легшее послушно вдоль дуги,
Рассечено бегущими лучами.
На дне глубоком праздничных витрин,
На розовых руках сияющие ларцы,
В которых Хронос – древний исполин —
Дражайшей змейкою сумел лукаво сжаться…
О, сонмы башенных, стенных, ручных часов —
Искусного ума бессмертные творенья,
Услышу ли когда шум ваших голосов?..
И поступь мерную. Журчанье вечных строф
Волшебного стихотворенья!
Услышу ли когда я ваш отрадный зов?!
Когда в мою нору, подобно землеройке,
Ночь снова вроется и страх велит лечь спать,
И я лежу, лежу, закрыв глаза на койке,
Часы, мне кажется, вдруг убегают вспять.
Иль, может быть, стоят? Иль громоздятся грудой?
Но им окончен счет! И времени река,
Смывая памяти крутые берега,
Вдруг разливается огромною запрудой…
И в черном озере все вмиг погребено,
Мир сгинул – шелеста змеиного бесследней.
И камнем хочется мне кинуться на дно,
Чтоб время вновь найти, хотя бы в миг последний!
О, сонмы башенных, стенных, ручных часов —
Искусного ума бессмертные творенья,
Услышу ли когда шум ваших голосов?..
И поступь мерную. Журчанье вечных строф
Волшебного стихотворенья,
Услышу ли когда я ваш отрадный зов?!
С автором я знаком не был. Никогда в жизни его не видел, хотя он и находился всю ночь в нескольких метрах за моей спиной (повернуться физически было невозможно). Рано утром шустрые «воронки» вмиг растащили всех нас в разные стороны.
Фамилия автора Башин-Джагян. Он ученый. Языковед. Один из сподвижников академика Марра. Профессиональным поэтом себя никогда не считал, хотя и печатался в журнале «Нива», еще в дооктябрьские времена.
Это все, что мне известно об этом незаурядном человеке – поэте и ученом.
В чем он обвинялся, какой срок получил, отбыл ли его и какова его дальнейшая судьба, мне неизвестно. Больше я о нем ничего не слышал.
Иллюзии, что он жив, не питаю. Башин-Джагян был значительно старше меня. Я в 1915 году только родился, а он уже печатался в «Ниве» как поэт!..
И все же до сих пор я жду и надеюсь, что имя его так или иначе мне встретится. Откликнется же кто-нибудь из сорока человек, кто августовской ночью тридцать девятого в вонючей камере ленинградских «Крестов» вместе со мной был слушателем прекрасного концерта! Не все же погибли в заключении? Наверняка кто-то дожил до наших дней!
Я понимаю – не все интересуются поэзией… Для многих она сложна, утомительна, непонятна… Многие к ней просто равнодушны. Были в камере и такие… Но были и другие – интеллигенция! Люди, близкие литературе, искусству, люди науки, педагоги. Неужели ночь не оставила в их душах никакого следа? Вряд ли. Тут другое… Я был одним из самых молодых в камере, а сейчас мне уже за восемьдесят! Так что нет ничего удивительного, что никто за эти годы не откликнулся какой-либо весточкой.
Люди гулаговской судьбы не живут до ста лет. Бывают, конечно, исключения – Олег Васильевич Волков, например! (Вечная ему память!)
Я решил не испытывать судьбу, не ждать, когда обо мне начнут говорить «долгожитель», а выполнить свой человеческий долг. Пока я здоров, пока стихи Башин-Джагяна в памяти, я передаю их, как эстафету, читателям. Те из них, кому эти стихи придутся по душе, пустят их, как почтового голубя, дальше, в жизнь! И если этим запискам суждено быть опубликованными, я сочту свою нравственную миссию в отношении поэта выполненной.
Стихи не должны умирать!
Этап
Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой!
Сойдешь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету.
В транзитной тюрьме Владивостока формировался этап заключенных на Колыму.
Накануне отправки начальство умудрилось накормить этапируемых селедкой. Напоить же вовремя водой, утолить жажду – не удосужилось.
Так весь путь пешком от Второй речки до бухты Золотой Рог к причалу заключенные вынуждены были терпеть, превозмогать жажду. И все последующие двенадцать-пятнадцать часов самой погрузки на корабль отчаянные просьбы дать воды игнорировались начальством, подавлялись конвоем грубо, жестко…
Первыми грузили лошадей. Несколько часов их бережно, поодиночке, заводили по широким трапам на палубу, размещали в специальных палубных надстройках, в отдельных стойлах для каждой лошади… В проходе между стойлами стояли бачки с питьевой водой (к каждому бачку привязана кружка) – для конвоя, для обслуги.
В отличие от лошадей, с людьми не церемонились… Дьявольская режиссура погрузки заключенных на корабль была испытана и отработана до мелочей и напоминала скотобойню…
С приснопамятных времен она успешно практиковалась не только на Колыме, в Караганде или на Печоре, но всюду и везде, где могущественный ГУЛАГ помогал большевикам строить социализм в России.
Людей гнали сквозь шпалеры вооруженной охраны, выстроенной по всему пути, в широко распахнутую пасть огромного тюремного люка. В само чрево разгороженного многоярусными деревянными нарами трюма. Как стадо баранов, гнали рысью, под осатанелый лай собак и улюлюканье конвоя, лихо… с присвистом и матерщиной. «Без последнего!..» [4]4
Последнему доставался от конвойного убойный удар прикладом.
[Закрыть]
Не знаю, существует ли подобное и сейчас, в новом тысячелетии, но тогда, в памятном для меня тридцать девятом, всю прелесть этой «режиссуры» я испытал сполна на собственной шкуре.
Когда наконец беременная лошадьми и людьми «Джурма» медленно отвалила от причала, в ее наглухо задраенном трюме, гудящем, как пчелиный улей, уже зрел жуткий, сумасшедший бунт.
Корабль, набитый массой осатанелых от жажды людей, стонал, вопил сотнями исходящих пеной, охрипших глоток, требовал воды! ВОДЫ!! В-О-Д-Ы!!!
Капитан категорически отказался продолжать рейс. «До тех пор, пока люди не получат воду и не придут в себя, никто не заставит меня выйти в открытое море с сумасшедшим домом в трюме, – заявил он. – Немедленно напоите людей».
И только после этого заявления до конвоя, кажется, дошло, какую опасность представляет взбунтовавшийся в море корабль с сотнями запертых в трюме, мучимых жаждой людей.
Срочно была предпринята попытка подать заключенным воду. Раздраили трюмный люк. С палубы в ствол трюма, в этот ревущий зверинец, начали спускать на веревках бачки с пресной водой… Бесполезно – слишком поздно спохватились!..
Стоило только в проеме трюма появиться первому бачку, как мгновенно к нему бросились озверевшие, утратившие последний контроль над собой люди… С хриплыми воплями, сметая, давя и калеча друг друга, они карабкались по трюмным лестницам к спасительному бачку. Со всех сторон тянулись к нему сотни рук с мисками, кружками… Через мгновение бачок заметался из стороны в сторону, заплясал в воздухе, словно волейбольный мяч, был опрокинут и с концом обрезанной кем-то веревки исчез в недрах трюма.
Вода из него так и не досталась никому, никого не напоила и, даже не долетев до днища трюма, у всех на глазах мгновенно превратилась в пыль, в брызги, в ничто… Следующие несколько попыток постигла та же участь.
Тогда в трюм спустились конвоиры. Короткими автоматными очередями по проходам трюма им удалось на какое-то время разогнать всех по нарам, приказав лежать и не двигаться… С верхней палубы в проем трюма быстро спустили огромную бочку, размотали в нее пожарный брезентовый шланг, подключили помпу…
Со всех нар за этой процедурой лихорадочно следили сотни воспаленных глаз – ждали… Слышно было, как заработала помпа, зашевелился, ожил шланг… в бочку полилась вода… И, как только автоматчики ретировались на лестницу и поднялись на палубу, – к воде кинулись люди.
Мгновенно у бочки образовалась свалка. За место у водопоя началась драка, поножовщина… В ход пошли лезвия безопасных бритв, ножи, утаенные уголовниками после этапных шмонов… запахло кровью… Кто не сумел пробиться к бочке, бросились на лестницу к пожарному шлангу… Цеплялись за висящий, упругий от напора воды шланг, тянули его на себя… Ножами вспарывали, дырявили парусину… К хлеставшей из дыр воде подставляли разинутые, пересохшие рты и судорожно, жадно глотали ее… Давились, торопились, захлебывались… Вода из прорванных шлангов текла по лицам, телу, по набухшей одежде, стекала по ступенькам лестницы… Ее ловили в воздухе, облизывали ступеньки… К ней лезли друг через друга – сильные сталкивали с лестниц слабых, те остервенело сопротивлялись, хватались за набрякшую, сочившуюся водой одежду соседа… Как пиявки, впивались зубами, повисали на ней и с жадностью обсасывали… Торопились напиться, пока их не сбросили вниз, на дно трюма… Оттуда к водопою лезли и лезли новые толпы обезумевших от жажды зеков.
И уж нечто совсем фантастическое, подобно миражу в пустыне, являла собой на этом фоне компания блатных авторитетов – элита преступного мира: крестные отцы, воры в законе, паханы, аферисты всех мастей… Вся эта уголовная сволочь, вольготно обосновавшаяся на верхних нарах, вблизи распахнутого люка – поближе к свету и к свежему морскому воздуху. Они, эти подонки, были настоящими хозяевами этапа. Как римские патриции, возлежали они на разостланных по нарам одеялах; не боясь никого и не таясь, нагло потешались над происходящим… Глушили спирт, курили «травку», играли в карты, кололись, вкусно жрали… От жажды они не страдали – у них было все! Все, вплоть до наркоты! Всевозможная еда, спирт, табак и даже… женщина! (Если можно было назвать женщиной полуголое существо в мужских подштанниках.) Вдребезги пьяная распатланная девка, размалеванная похабными наколками (одному сатане известно, откуда и как приблудившаяся к мужскому этапу), томно каталась по нарам за спинами резавшихся в карты воров и зазывно вопила: «Воры, почему же вы меня больше не е…те?!»
Деньги, добротные шмотки – все уворованное, награбленное, под угрозой ножа силой отнятое у фраеров – политических – сносилось молодым жульем (шестерками) к ногам паханов и тут же шло на кон, разыгрывалось в карты. Вещи, как бабочки, порхали от одного игрока к другому…
Неизвестно, достиг бы бунтующий ковчег «земли обетованной», если бы капитан «Джурмы» не вмешался в действия конвоя и не принял собственных, решительных мер.
Опытный моряк, не первую навигацию поставляющий на Колыму дармовую гулаговскую рабсилу (заключенных), он понимал, в каком положении оказался из-за преступной глупости конвоя, не сумевшего вовремя напоить людей. Он понимал, что никакие полумеры уже не помогут, – соображать надо было раньше, на берегу.
В создавшемся положении «Джурма» представляла собой плывущую в НИКУДА пороховую бочку с подожженным фитилем… Вот-вот бабахнет! Рванет так, что никого и ничего не останется! Все окажутся на дне… там, где все равны… и «чистые», и «нечистые», все! Расплата за глупость неизбежна.
В этой критической ситуации, когда перепуганная насмерть, растерявшаяся охрана не знала, что делать, капитану ничего другого не оставалось, как решиться на крайнюю меру – единственную, пожалуй, которая могла еще утихомирить людей и предотвратить катастрофу.
В момент, когда ярость вконец озверевших заключенных достигла последнего предела, готова была выплеснуться из недр мятежного трюма на палубу и разнести вдребезги корабль, – капитан отдал распоряжение залить бунтующий трюм водой. Залить немедленно, из всех имеющихся на корабле средств.
Срочно были подтянуты дополнительные пожарные шланги, включена помпа, и из всех люков на головы беснующихся в трюме людей полились потоки пресной воды…
В короткое время днище трюма по щиколотку оказалось залито. Зеки получили наконец долгожданную воду и упились ею вдоволь, что называется, от пуза – пей не хочу! Расчет капитана оправдался: бунт утих, опасность миновала. Опасность миновала для корабля, но не для людей.
Эксперимент, учиненный конвоем над человеческой выносливостью, уже на утро следующего дня выдал первые, тревожные результаты. У сотен заключенных обнаружились признаки одной из самых страшных в условиях длительных этапов болезни – дизентерии (королевы клопами провонявших пересылок, вшивых этапов и голодных безпенициллинных лагерей).
Я не знаю, сколько несчастных так и не достигли «земли обетованной», – канцелярская отчетность на этот счет, наверное, существует, – знаю одно: их много!
Количество заключенных, взошедших на борт «ноева ковчега» в бухте Золотой Рог, далеко не соответствовало количеству сошедших с его трапа в бухте Нагаево в Магадане. Колыма не дождалась тогда многих…
5 ноября 1939 года. Оттепель… Крупными влажными хлопьями валит снег – оседает на мокрых тряпках кумачовых полотнищ, славящих нерушимую дружбу партии и народа… На белесых от оттепельной изморози стенах портовых зданий, как пятна крови, рдеют флаги, предвестники близкого праздника… Столица Колымы прихорашивается в преддверии «Великого Октября».
Магадан встречает «гостей».
Вся территория порта оцеплена войсками НКВД и ВОХР. На пирсе много начальства. Шпалеры солдат у причала… И всюду собаки… собаки… собаки. Пронзительно кричат чайки…
У причала белый пароход с поэтическим названием «Джурма».
Закончена швартовка, брошен якорь, спущены на берег трапы – рейс окончен. Очередной этап заключенных из Владивостока (печально знаменитый «дизентерийный этап») прибыл.
За пять суток пути корабля несколько сот заключенных оказались жертвами вспыхнувшей на корабле дизентерии. Многие из заболевших умерли в пути и были выброшены за борт – похоронены в холодных водах Охотского моря.
Бедолаги не оправдали возложенного на них доверия Родины – обманули ГУЛАГ, посмели умереть раньше «положенного»… Колымским безымянным погостам они предпочли братскую могилу Охотского моря.
Из распахнутых трюмных люков валит пар – идет разгрузка. На палубу из недр трюма и дальше по трапам вниз, на берег стекает нескончаемый поток заключенных… Под понукаюший мат конвоя, крики охраны и истошный лай собак их гонят сквозь плотные шеренги солдат на берег… выстраивают по «пятеркам». На ходу перестраивают в «сотни»… Сформированную партию в сто человек подхватывает конвой и «без последнего», рысью, прочь из порта, гонит на выход, в сторону Магаданской транзитной тюрьмы.
Все происходит как и при погрузке этапа во Владивостоке. Повторяется зеркально, с точностью до наоборот. Разница в том, что тогда нас гнали с берега на корабль, теперь – с корабля на берег. Режиссура та же.
В сутолоке разгрузки перемешались и политические, и уголовники. В нашей «сотне» кроме нескольких «блатных» (неведомо когда приблудившихся к нам) оказались в основном те, с кем я прошел весь этапный путь от Ленинграда до Магадана. Это были военные: старший и средний командный состав Красной Армии. Большинство – работники штаба Ленинградского военного округа. Многие из них, как это ни странно, к тюремным лишениям оказались мало приспособленными.
Из последних сил, подгоняемые конвоем, они тащили на спинах огромные узлы бесполезного имущества: скорбный, прощальный дар убитых горем жен, матерей, родственников, переданный при последнем свидании в Ленинградской пересылке.
Несчастные женщины! Откуда им было знать, что все это святое добро, с такой мукой собранное, добрыми людьми от сердца даренное, слезами политое, – не поможет их близким… Не обогреет, не сохранит здоровье, скорее наоборот – обернется лишней обузой, бесконечной тревогой, станет пристальным объектом внимания со стороны уголовников.
Откуда им было знать, что все эти десятки килограммов дорогих, добротных вещей окажутся зряшными, бесполезными; они только усложнят этапную жизнь заключенного и в конце концов неизбежно перекочуют к блатным или окажутся добычей лагерных придурков.
Откуда им было знать, что дорогие сердцу личные вещи (последняя зримая память о доме) совсем скоро покинут своих владельцев – будут отняты, разворованы, разграблены в бесконечных лагерных передрягах… Вещи дорогие, личные – станут лишними, чужими, превратятся в лагерные «шмотки», в разменную карточную монету блатных. Все лучшее в качестве «лапы» приживется у начальства.
Воры как более опытные, или заранее наслышанные насчет порядков Магаданской транзитки, или успевшие побывать там сами, шли налегке – никаких вещей! Только то, что на себе и что полегче… Приклад в спину им не грозил – они хорошо знали, что такое «без последнего».
К своей чести должен сказать, что у меня, кроме длинной кавалерийской шинели на плечах да штанов и рубахи на теле, ничего больше не было. Шинель подарил мне земляк-ленинградец, неожиданно вызванный с этапа на переследствие (бывало и такое – помоги ему бог!). Он же и научил меня не иметь в этапах лишнего. Поэтому шел я легко, приклада конвойного не боялся.
Очень худо пришлось нашему подопечному другу – Борису Борисовичу Ибрагимбекову. Кроме тяжелого кожаного реглана на плечах со споротыми полковничьими знаками различия, он тащил на себе, согнувшись, как японский самурай, целый вигвам роскошных бесполезных вещей: новый полковничий китель, штаны с лампасами, сапоги и прочие принадлежности офицерского гардероба, с которыми из гордости ни за что не хотел расстаться… И как мы с моим другом Сергеем Чаплиным его ни уговаривали, сколько бы ударов в спину он ни получал от конвойного, ничто не действовало… Шатаясь, подгоняемый тычками, матом, старик упорно продолжал тащить свой «крест»… как Христос на Голгофу! И никакие усилия убедить его в бессмысленности упрямства на него не действовали. В ответ старик крутил головой и кричал:
– Вы нелюди! Вы звери, животные!.. Неужели не понимаете, что я офицер! Я давал присягу… Я не могу лишиться чести!
– Старый дурак! – втолковывали мы ему. – Конвой забьет тебя до смерти вместе с твоей честью, пропади она пропадом! Вместе с твоим упрямством… Бросай шмотки к чертовой матери… пока не сдох!..
Ничто не действовало. Старик продолжал получать тычки в спину. Стало ясно, что он вот-вот упадет под прикладом конвойного и уже не встанет. Кончилось тем, что пришлось насильно стащить с его спины вещи и выбросить их через забор на кладбище, мимо которого в этот момент нас гнали.
Подхватив упиравшегося старика под руки, мы с Чаплиным поволокли его в середину колонны, подальше от конвоя.
Странно было: почему блатные, идущие рядом и с удовольствием наблюдавшие эту сцену, сами не проявили ни малейшего интереса к добротным шмоткам полковника?! Впрочем, очень скоро эта загадка объяснится.
Борис Борисович Ибрагимбеков (Ибрагим-Бек!). Высокий, худощавый старик с породистым узким лицом, украшенным внушительным, как у Сирано де Бержерака, кавказским носом… Его гордый нос – не единственное, что роднило его с ростановским романтичным гасконцем. Оба – поэты, настоящие мужчины, люди чести! Идеалисты, мушкетеры, романтики! Оба блаженны и в доброте своей, и в благородстве… У обоих в крови – шампанское!..
Разница между ними лишь в том, что Сирано де Бержерак – вымышленный герой, а Ибрагим-Бек – живой человек, действительно существовавший на белом свете. В течение пятидесяти с лишним лет он украшал своим благородным существованием эту грешную землю.
Потомственный военный. Окончил кадетский корпус в Петербурге. Воевал в империалистическую 1914–1918 годов. За личное мужество и храбрость награжден четырьмя орденами Георгия (полный Георгиевский кавалер!). В Гражданскую войну воевал на Кавказе. Будучи одним из командиров в легендарной Дикой дивизии, награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени (за мужество и храбрость!). В советское время – инспектор кавалерии штаба Ленинградского военного округа. Полковник. Арестован в 1938 году. Приговорен к десяти годам лагеря по статье 58.1а (измена Родине). Женат. Любил жену самозабвенно… Очень страдал в разлуке. Жить не хотел. Умер в 1942 или 1943 году на инвалидной командировке Дукчанского леспромхоза.
Мне выпала судьба и честь знать этого замечательного человека, быть свидетелем последних лет его жизни… А почему, собственно, я называю Бориса Борисовича стариком?
Ему в тридцать девятом году был всего лишь пятьдесят один год! Это мне он казался стариком. Наверное, потому, что я был моложе его вдвое. Тогда все, кому перевалило за пятьдесят, были для меня глубокими стариками.








