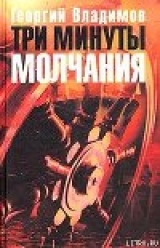
Текст книги "Три минуты молчания"
Автор книги: Георгий Владимов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
8
С утра, конечно, новости. Старпом наш – отличился ночью, курс через берег проложил. Это уж рулевой принес на хвосте, все новости из рубки – от рулевого. Ночью показалось старпому, что порядок течением сворачивает, и он его решил растянуть. Определился по звездам, да не по тем, и – рулевому: «Держи столько-то». Ну, дикарь и держит, ему что. Хорошо еще, кеп вылез в рубку, сунул глаза в компас, а то бы еще полчаса – и мы в запретную зону вошли бы, с сетями за бортом. А там уже на них норвежский крейсер зарился. Плакали бы наши сети, он бы их тут же конфисковал. То-то крику из-за этого было в рубке!
Я думал – какой же он теперь придет, старпом, нас будить? Ничего, голосу его не убыло.
– Пад-дъем!
Димка с Аликом расшевелились, начали одеваться. Ну, эти – пускай, им кажется – если они первыми начали, то первыми и кончат. Черта с два, они на военке не плавали. Наши все старички еще полеживали.
Старпом сел на лавку. Подбадривал нас:
– Веселей, мальчики, веселей. Сегодня рыбы в сетях навалом.
– Не свисти, – это Шурка ему, Чмырев, из-за занавески. – Десять селедин там, кошке на завтрак, и тех сглазишь. Старпом, слышно, повернулся к нему, скрипит дождевиком. Ему, конечно, обидно, когда ему грубят. Шарашит его, но ответить он не смеет. Шурка все-таки старый матрос, а он старпомом первую экспедицию плавает – какой у него, архангельского, авторитет? И про ночные его подвиги нам известно.
– Чего "не свисти"? Поглядел бы, как чайки над порядком кружатся. Они дело знают.
– Они-то знают, – Шурка ему лениво. – Ты не знаешь.
Тут Митрохин решил высказаться:
– А мне, ребята, сон приснился. Глупыш прямо в кубрик залетел. Сел у меня в головах, клюнул плафончик и говорит человечьим голосом: "Бичи!.."
– Прямо так – "бичи"? – Это Васька там, Буров, со спины на живот перевернулся.
– Ага, говорит, «бичи». С первой выметки бочек двадцать возьмете. А дальше у вас все наискось пойдет, опять же – плафончик клюнул. И улетел.
Салаги захмыкали. А мы помолчали. Сон – дело серьезное. Потом Шурка спустил ноги.
– Отойди, старпом, а то ушибу.
Тот сразу в двери и завопил уже у соседей:
– Мальчики, па-адъе-ем!
Тут я и полез одеваться. Я-то знаю – Шурка зря не полезет. Он тоже на военке служил. Салаги еще только рубахи успели напялить и в штаны влезали, а Шурка уже по трапу сапогами загрохотал. Долго им еще плавать, пока они нас догонят. Но уж обогнать – нет.
Васька Буров еще долеживал. Он больше всех плавал. Потому и ленивый, черт. Но такой ленивый, что другим тоже лень ему за это выговаривать.
Я вам не буду расписывать, какое было море. Хорошее было море. Не штиль, а балла так полтора, в штиль нам тоже не сахар, ветер лица не свежит. А над порядками чайки ходили тучами – доброе знамение.
В салоне, за чаем, только и говорили – что вот, мол, первая выметка и не зряшная; пустыря вроде не дернем; авось, мол, и дальше так пойдет; «тьфу» через левое, чтоб не сглазить.
Но вот стало слышно – шпиль заработал, и мы потянулись потихоньку на палубу. Уже дрифтер с помощником вирали[36]36
Глаголы эти – «вирать» и «майнать» – происходят от известных команд: «вира!» – к себе, «майна» – от себя.
[Закрыть] из моря стояночный трос, и все становились по местам.
Я свое делал – отвинтил люковину, отвалил ее, ролик уложил в пазы, но в трюм не лез еще.
Дрифтер не торопился, и мы не торопились, смотрели на синее, на зеленое, ресницы даже слипались. Стояночный трос уже кончался, за ним выходил из моря вожак – будто из шелка крученный, вода на нем сверкала радужно. Чайки садились на него, ехали к шпилю, но шпиль дергался, и вожак звенел, как мандолина, ни одна птаха усидеть не могла. Дрифтер тянул его не спеша, то есть не он тянул, он только шлаги прижимал к барабану, чтоб не скользили, но так казалось, что это он тянет, дрифтер, весь порядок – с кухтылями, поводцами, сетями, с рыбой. Ну, рыбу-то мы еще не видели. И наверное дрифтер не о ней думал – нельзя же только об этом и думать, – а думал, наверное, про чаек, которых мы зовем глупышами, черно-мордиками и солдатами: счастливей они нас или несчастнее. А может быть, и вовсе ни о чем, просто глядел на воду, завороженный, млел от непонятной радости.
Я подошел к нему.
– Погода, Сеня!
– Погода, дриф.
– Так бы все и стоял на палубе, не уходил бы.
– Нипочем, дриф.
– А работать надо, Сеня.
– Спору нет, дриф.
– Потому что – что?
– Потому что стране нужна рыба.
– Грамотный Сеня, идейный. Ну, коли так, отцепляй "стоянку".[37]37
Стояночный, стальной, трос.
[Закрыть]
Я, слова больше не говоря, развинтил чеку и – с первым шлагом – полез в трюм. Прощай, палуба!
Пахло тут – старой рыбной вонью, карболкой и "лыжной мазью" от вожака, пахло чернью, которой метили на нем марки. И гнилыми досками – от бочек, они за тоненькой переборкой, мне их отсюда видно сквозь щели.
Но я покуда осматривался и принюхивался, а вожак уже, как удав, наполз на меня сверху, из горловины, навалился пудовыми кольцами, надо бы койлать его, да повеселее, пока он меня не задушил.
– Вир-рай!
Это мне дрифтер сверху откуда-то, с синего неба.
А вожаковый трюм – метр с чем-нибудь на восемь, особенно не побегаешь. А надо – бегом. Я этого дела ни разу еще не нюхал, только с палубы видел мельком, как другие делают, которые после этого лежали в койке часами и глядели в подволок. Знал я только, что вожак в трюме койлается по солнцу и снаружи внутрь. Почему не против солнца? Почему не изнутри наружу? А Бог его ведает, – свив, наверное, такой, – да и не моя забота.
Значит, так: семь шагов вперед, вдоль переборки, поворачиваешь направо, по солнцу, и снова ведешь-ведешь-ведешь по самому плинтусу, утыкаешься в переборку и опять направо по солнцу, опять семь шагов вперед, опять по солнцу, по солнышку ясному, новый шлаг ложится внутрь, поворачиваешь, опять переборка, и снова ведешь-ведешь-ведешь… Видали, как лошади бегают на молотилке?
– Вир-рай!
А вожак этот чертов идет не откуда-нибудь, а из моря. А море – оно мокрое. Оно мне течет потихоньку за ворот, и варежки брезентовые вмиг промокли, и в глазах, конечно, защемило. Я было пристал дух перевести, глаза вытереть, и вдруг темно – ко мне кто-то в трюм заглядывает. Старпом. Всю горловину широким своим носом застил. Кеп его, небось, прислал – меня проверить: все-таки я первый день с вожаком.
– Веселей, веселей в трюме! Вожака на палубе навалом…
Дал бы я ему самому побегать, то-то бы взвеселился. Я только сплюнул и дальше побежал. Да не побежал, пошкандыбал на полусогнутых. По пайолам бегать еще куда ни шло, но я уже первый пласт уложил, теперь по вожаку бегать надо, это вам не паркет, тут в два счета ногу подвернешь. А что дальше будет – когда я почти весь его выберу, и сам на нем чуть не к подволоку поднимусь? Там уже на четвереньках придется. Лучше не думать. Надо второй пласт укладывать.
– Вир-рай!
Дрифтер уже не по-служебному орет, а с огнем в голосе. А голос у него на всех иностранцах, наверно, слышно. Подумают, у нас трансляцию на выборке применили.
А вожака, наверно, и правда, много скопилось на палубе – трудно стало тянуть, распутал бы кто.
– Эй, там, на палубе? Распутайте кто-нибудь!
Ну да, услышат, у них там сетевыборка поет, сапожищи бацают. Нет, подошел все же кто-то, стал скидывать ногами, да мне от этого еще хуже, все шлаги на меня валятся, на голову, на плечи.
– Давай веселей, Сеня! Шевели ушами!
Ага, это дрифтер мне помог. И голос у него чуть поласковее. Все-таки он человек, дриф. Понимает, каково мне с непривычки. Эх, я плюнул и побежал. Не на полусогнутых, а прямо как безумный. Пусть их, ноги подворачиваются. Пусть из меня сердце выпрыгнет. Я умру, но его распутаю! Я ж его уложу, гадину, сволочь соленую, мокрую… Вот уж осталось два шлага, ну три, все, можно и отдышаться. Только не дай Бог ему снова там скопиться. Опять я его потянул. А он и на сантиметр на поддается. Снова там скопилось, что ли? Кто же это мне будет все время его распутывать? Я прямо повис на нем.
И тут меня так самого рвануло, что я всей грудью на переборку налетел.
– Хрена ты там тянешь? Сетка подошла! Сетку трясут!
Вон что! Ни черта, значит, не скопилось там. Просто, я вожак со шпиля тянул. И это меня на волне рвануло, шлаги по барабану скользнули, он же ведь полированный уже, в него смотреться можно. Но дрифтер-то – мог же предупредить: "Стой, не вирай пока". Да кому до вожакового дело!
Я встал к переборке отдышаться, поглядел в люк. И вдруг увидел: звезда качается, голубая, прямо над моей головой. Я просто очумел. Потом лишь дошло, что это не она качается, она себе висит на месте, а нас переваливает с борта на борт. И никто ее не видел, только я один – из темного трюма. Где же это я читал, что можно в самый ясный полдень увидеть звезду из колодца? Даже не верилось. А теперь я сам в этом колодце оказался.
Я стоял, смотрел на нее. А все же был настороже, чтоб меня опять не рвануло. Шпиль, я слышал, работает, его на всю выборку не выключают, но дрифтер, поди, там скинул один шлаг с барабана, чтобы проскальзывало. А когда он его снова накинет, это я почувствую, он ведь у меня этот шлаг возьмет, из моря ему не вытянуть.
А там уже первую сетку трясли – бац, бац! – сыпалась рыба. По звуку не слышно, чтобы уж слишком много взяли, но все же. Я не утерпел, полез по скобам поглядеть, и вдруг меня чем-то по шее – скользкое, мокрое, бьется. Здоровенная рыбина скользнула по мне, по рукаву, плюхнулась на вожак. Билась она страшно, сильная была селедина, все норовила под шлаги забиться, они ж еще воду хранят. А когда я ее выудил оттуда, себе в варежки, она даже пискнула жабрами, такая бешеная была – что ее обманули. И какая же красивая – ведь только что из моря! Не серая, не оловянная, не ржавая, как в магазине. Она, сволочь, вся синяя, зеленая, малиновая, перламутровая, и все это переливается, каждый миг – уже новый цвет.
За этой еще одна шлепнулась, только безголовая. Оторвали на тряске. Потом еще одна – с разорванными жабрами, сочилась кровью. Так они и сыпались с палубы, – но все покалеченные. А эта, что я держал, совсем была целенькая, ни жаберки не надорваны, ни плавничок, ни чешуинки не потеряла.
Я ее взял покрепче, поднялся по скобам, и зашвырнул подальше, за планшир. Глупыш один за нею кинулся, – но у моей-то рыбины счастливая была судьба – не далась глупышу, не повезло ему, ушла в море.
На палубе, я слышал, заржали. Дрифтер ко мне заглянул.
– Сень, это ты нашу рыбу выбрасываешь? Как же это? Мы ловим, а ты кидаешь.
– Пускай живет.
– А думаешь, она жизнью попользуется? Она сейчас снова в сетку пойдет.
– Не пойдет. Она теперь ученая.
– Так, а ежели она, ученая, теперь неученую научит мимо сетки ходить? Ведь это мы, Сеня, без коньяка останемся. Жалостный ты, Сеня. Гуманист!
Долго они там ржали. А тех, безголовых, безжаберных, я тоже выловил и выкинул на палубу. Хуже нет, если рыба куда-нибудь забьется, потом от вони умрешь. А на палубе – бац да бац! – и нет-нет да какая-нибудь ко мне залетала. Если покалеченная, я им обратно выкидывал, а целенькая – ту в море. Пускай смеются. Опять же развлечение для палубных.
А про вожак я опять забыл. Не заметил, как дрифтер выбрал у меня шлаг и накинул на барабан. Пополз, родной, а мы-то заждались. Семь шагов вперед, по солнцу, еще пласт уложен, а посмотришь в люк – там она все качается, звездочка. Совсем у меня рук не стало, а варежки – хоть выжми, и все тело колет иголками. Это хорошо еще – рыба куда ни шло, а заловилась, сети приходилось трясти и стопорить вожак, а если б они пустые шли и вожак бы все полз да полз, тут бы я как раз Богу душу отдал.
Дрифтер опять ко мне заглянул.
– Как, Сень, привыкаешь?
– Да, привыкаю, – говорю. – А нельзя ли придумать чего-нибудь, чтоб он сам койлался?
– Чего, Сень, придумать?
– А я знаю? Барабан какой-нибудь с мотором.
– Да как же он в трюме-то поместится? И подешевле, чтоб ты его укладывал.
– Значит, совсем ничего нельзя?
Дрифтер сказал:
– Ты не изобретай, понял. Ты – вирай.
Но неужели все-таки нельзя? Конечно, придумают. И до чего же мне тогда обидно будет. Как же это я его руками койлал? Я вам скажу, не зазорно гальюн драить, на это еще машины нет. А вот сети трясти – зазорно, когда есть уже на некоторых судах сететряски. Плохонькие, всего одного матроса заменяют, но есть. Вот, скажем, в трамвае кондуктор билетики отрывает, а потом – бац! вместо него ящик поставили. Обидно же ему потом, что он вместо ящика стоял.
Но я-то, наверно, попривык к вожаку, если мог уже про чего-то думать. Раньше только и мыслей было – как бы с копыт не свалиться, а теперь все как бы само делалось, а голова была на другом свете. Ничего, думаю, переживем. Вот уже и срост подошел, толстый такой, надо его специально укладывать, чтобы он мне порядок не нарушил, – Бог ты мой, а ведь это я уже первую бухту скойлал. Там их еще штук шесть осталось. Или семь? Надо бы у дрифтера спросить. Только минуты нету, чтоб вылезти. На палубе опять загорлопанили.
– А это, – слышу я, – Сене-вожаковому тащи, он жалостливый.
– Сень, а Сень, держи на!
И плюх на меня! – серое с белым, с черным, пушистое, бьется оно, кричит, сразу в угол забилось, только глазенки блестят как пуговки. Глупыш, кто же это еще. Весь сизый, с белой грудкой, концы крыльев черные. Одним крылом прижался к переборке, а другое выставил вперед, как щит, и трепыхал им по вожаку. Я хотел его взять – он еще пуще затрепыхался, закричал и клюнул меня в варежку. Тогда я снял варежки и просто ладони к нему протянул. И он пошел ко мне. Ну, ко мне-то в руки всякая тварь пойдет. Я его вытащил к свету – одно крыло у него висело, перышки маховые сломаны, – и как дотронешься, он сразу – кричать и клеваться.
Бичи ко мне заглядывали в люк:
– Сень, ты его рыбой откорми, после кандею отдадим зажарить.
А глупыш притих, только сердчишко стучало. Пожадничал, бродяга, в сети полез, вот и запутался.
В углу, за выгородкой, дрифтер свое хозяйство держал – бухты запасные, пеньку, прядины, – сюда я его и посадил, Фомку. Сразу я его Фомкой окрестил, надо же как-нибудь назвать тварюгу, если она с людьми будет жить. Фомка уже сообразил, что я ему не враг, улегся, как в гнездо. Я ему кинул селедину, он поклевал чуть, но заглатывать не стал, а подтянул к себе и накрыл крылом.
Тут снова пополз вожак, а сети пошли победнее, и вытрясали их быстро. Бичам полегче стало на палубе, а мне тяжелей.
Дрифтер опять заорал:
– Вир-р-рай! Заснул там, вожаковый?
И я забыл – не то что про Фомку, про мать родную. Забегал как бешеный. А шлаги все ползли, ползли. Теперь, конечно, вся злость на вожакового, почему медленно койлает.
– Вир-р-рай, мать твою… Шевели ушами!
Я чуть было прислонился к переборке – лоб вытереть, чтоб глаза не заливало, – как он, сволочь, пополз кольцами, прямо на мои уложенные шлаги. Чтоб его теперь уложить, надо же все это на палубу обратно выкинуть, иначе запутаешься. Я их откидывал ногами, локтями, головой, а они все ползли, и я весь спутался этими кольцами.
Дрифтер прибацал ко мне, наклонился.
– Ты будешь вирать или нет?
– А я чего делаю?
– Не знаю, Сень. Не знаю, чего ты там делаешь. А только не вираешь. Погляди, сколько вожака на палубе. Хреново, Сеня. Закипнемся мы с таким вожаковым.
– Ты лучше умеешь? Ну и валяй, пример покажи.
Дрифтер даже вспотел от моих речей.
– Вылазь!
– Зачем? – Хотя мне, по правде, очень даже хотелось вылезти.
– Вылазь. И свайку захвати.
Я взял у него в хозяйстве свайку и полез. Он стоял, ноги расставив, и глядел, как я лезу. Я высунул голову в люк и зажмурился. Такое светило солнце. Такое море – хоть вешайся от синевы. Я сел прямо на палубу и ноги свесил в люк. А вожака, и правда, до фени скопилось. Но мне уже плевать было, сколько его скопилось. Очень мне хотелось смотреть на море.
– Дай сюда, – сказал дрифтер.
– Чего?
– Свайку дай.
– На, отцепись.
Он эту свайку с маху всадил в палубу. Наверное, на два пальца вошла, силенки ему не занимать.
– Вот, пускай она тут и торчит.
– Пускай, – говорю. – Мне что?
– А то, что не будешь вирать, я тебе этой свайкой по башке засвечу.
И пошел к своему шпилю. Снизу он мне выше мачты казался. Грабли чуть не до колен. Ну просто – медведь в рокане.
Прямо как во сне я эту свайку выдернул и зафингалил ему в спину. Прямо в зеленую спину. Я его не хотел убивать. Мне все равно было. Однако – не попал. В фальшборт она воткнулась, в обшивочную доску. Да сидя разве размахнешься?
Никто слова не сказал – ни палубные, ни вахтенный штурман, который, конечно, все видел из рубки. Дрифтер тоже молча к ней подошел и выдернул. Смерил, на сколько она вошла.
– На полтора пальца, Сеня.
– Мало. Я думал – на два.
– Мало, говоришь? – Пошел ко мне. – А если б попал? А, Сеня?
– Ничего. Лежал бы и не дрыгался.
Он прямо лиловый был. Сел около меня на корточки.
– Что ж мы с нею сделаем, Сеня? В море, что ли, кинуть?
– Зачем? В хозяйстве пригодится.
– Ах ты, гуманист чертов. Ты что думал, я в самом деле засветить хотел? Я ж только так сказал.
– Ну и я только так бросил.
Поцокал языком. Свайку положил возле люковины.
– Отчего ж мы такие нервные, Сеня? Кто ж нас такими сделал? Не иначе Хрущев. Все чего-нибудь да придумает. А при Хозяине-то, вспомни, порядок был. И каждый год, к первому апреля, цены снижены… Ай-яй-яй!.. Но ты вирай все-таки, Сеня. Помаленьку, а вирай.
Тут в нем опять голос прорезался:
– А что стоим, как балды на паперти? А ну, помогите ему!
Серега Фирстов с Шуркой кинулись к нам. Я опять полез в трюм. Потихоньку они мне спускали шлаг за шлагом, пока я все не уложил.
Дрифтер спросил с неба:
– Дома, Сеня, за это дело выпьем?
Я ему не ответил. Он постоял, языком поцокал и ушел к шпилю. Все лицо у меня горело и руки тряслись.
Сетки пошли – то быстро, то не спеша, косяк попался неплотный, так что я и набегаться успевал и отдышаться. Если что и скапливалось там, на палубе, дрифтер сам подходил помогать. Приговаривал ласково:
– А вот и опять вожачку накопилось. Повираем его, Сеня? Или там:
– Заснул чего-то вожаковый наш, как бы это разбудить, не осерчает?
Я уж помалкивал. Пласты ложились мне под ноги, и я на них поднимался к подволоку. Сначала шапкой коснулся, потом голову пришлось подвернуть. Последняя бухта всего труднее шла, – их все-таки восемь оказалось, а не семь, – я ее чуть не на четвереньках койдал. Потом концевой трос пошел стальной, на нем до черта было калышек,[38]38
Калышка – мелкий виток (обычно на плетеном тросе).
[Закрыть] и надо их было разгонять, и следить еще, чтобы жилка в ладонь не вонзилась. Когда последний шлаг хлестнул в воздухе, я уже не верил, что конец. Подержал его в руке. Нет, ничего уж к нему больше не привязано. Конец.
– Все, Сень, вылазь на воздушок.
Дрифтер стоял надо мной, улыбался. Я полез наверх и чуть не свалился обратно в трюм. Дрифтер меня под мышки выволок.
Я пошел на полубак, прислонился там животом к фальшборту, глядел в воду. Теперь-то я понял, почему вожаковые глядели часами в подволок, как скойлают все бухты.
Вода чуть плескалась, и в ней кружились чешуинки. Синее и серебристое это красиво, черт дери. А больше мне ни о чем не думалось.
– Устал? – спросил дрифтер.
Я только вздохнул. Ответить – язык не шевелился.
Чешуинки закружились быстрее, поплыли назад, вода заструилась… Это мы на новый поиск пошли.
Потом я люковину закрывал, завинчивал… Но рано или поздно, а придется к палубным идти, не хочется же «сачка» заработать, да и нечестно.
Вот и дрифтер напомнил:
– Отдышись минуту и давай бичам помогать. Есть еще работа на палубе.
9
Я-то знал, что свайку они мне не забыли. Бондарь по крайней мере. Он только повода ждал высказаться.
– Кому помогать? – я спросил. Хоть у меня еще руки не отошли за что-нибудь взяться.
– А не надо, Сеня, – сказал он мне ласково. Весь раскраснелся от работы. Но больше от злости. – Ты сегодня и так намахался. Свайка – она тяжелая.
– Это смотря в кого кидать.
Он ухмыльнулся в усы, запечатал тремя ударами бочку, откатил.
– В меня бы – ты б уже на дне лежал.
– Не лежал бы. В тебя-то я бы не промахнулся.
Ну вот, обменялись любезностями, больше из бичей никто ничего не добавил. Исчерпали, значит, тему.
Устали они не меньше моего. А вот вымарались побольше. Я-то хоть чистый там бегаю, в трюме, они же – в чешуе по макушку, в слизи, в крови, на сапогах налипло с полпуда.
– Везет тебе, Сеня! – Васька Буров позавидовал. – Благодари судьбу. А холода настанут – тебе еще всех теплей будет.
Я не стал спорить. Хорошо бы, все хоть день в чужой шкуре побыли, никто б никому не завидовал.
Я поглядел – палуба вся в работе. Вертится карусель. Сети уже уложены и придавлены жердиной, последнюю рыбу сгребают, подают сачками на рыбодел,[39]39
Рыбодел – верстак для разделки или засолки рыбы.
[Закрыть] там ее боцман с рыбмастером, в резиновых перчатках с нарукавниками, мешают с солью, ссыпают себе под живот, в бочки.
Салаги взялись палубу водой скатить. Один скатывал, другой ему потравливал шланг. Ну, это и один может. Тут же Алика за плечо завернули. Васька Буров завернул – он, как ястреб, сразу видит, кому меньше работы досталось.
Дрифтер с помощником возятся у сетевыборки, что-то она сегодня заедала. А заедает она, потому что на берегу придумана, там не качает, сетку из-под храпцов не рвет.
Они ее разобрали, посмотрели, да и снова начали собирать. Вроде бы все в порядке. Ну, а завтра снова она заест – разберут да посмотрят.
А все остальные – конечно, с бочками. Великое дело – бочки! Их надо выбрать из трюма, вышибить донья, обручи осадить и залить водой, чтоб разбухли к утру. И еще так расставить их, чтобы не мешали ходить и не кренили судно, и чтоб не падали, не катались по всей палубе. Только они все равно и мешают, и кренят, и катаются, потому что палуба маленькая, а бочек до черта, и неизвестно, сколько их назавтра понадобится. Выставляют штук семьдесят, больше все равно не поместится. Если заловится – значит, будем маневрировать: штук десять пустых достанем, на их место штук десять с рыбой, и так до посинения. А в это время, пока мы с ними возимся, судно идет, и бочки вырывает из рук, но кеп и минуты не ждет, он завтрашнюю рыбу ищет.
Так что салаге Алику плохо пришлось, – отрядил его Васька подкатывать ему полные, с рыбой. Сам-то он на лебедке пристроился, там силы никакой, только храпцы надевай на кромки да помахивай варежкой. Самое муторное подкатывать. Надо ее, родную, окантовать в обнимку, вывести из узкости, после уж повалить и катить к трюму. Кое-как салага ее скантовал и повалил, а дальше она у него сама поехала. Но прежде она его сбила с ног. Едва-едва я успел ее перехватить.
– Ты, – спрашиваю, – из цирка? Или так, жить расхотелось?
Он сидел и глаза таращил. Даже испугаться не успел. Не понял, чем бы это кончилось, если б она к нему вернулась с креном. Вскочил и снова за бочку.
– Подожди, – говорю, – посмотри хоть, как это делается.
– Чего ты с ним нянькаешься? – Шурка Чмырев мне заорал. – Синяков понабьет – научится. Мне кто показывал?
– Потому ты дураком и остался. Гляди, – говорю Алику, – я ее одними пальчиками покачу. Видишь – сама идет. Все понял?
Покивал он, потом сам попробовал – опять она у него вырвалась.
– Алик! – ему Димка крикнул. – Не позорь баскетболистов!
– А черта ли толку, – говорю, – что он баскетболист? Тут думать надо. Вот, смотри. Ты на пароходе работаешь, тут все труднее в сто раз. Но можно же эту качку использовать. Ты же не смотришь, катишь ее против крена, это себе дороже. А я подожду, и вот она сама пошла, только поддерживай с боков. А теперь крен на меня, сейчас назад покатится, а я ее – поперек. И никуда она, сволочь, не денется. Вот и весь университет.
Понял как будто. Сам попробовал и получилось. Расцвел от радости.
– Спасибо, – говорит.
– Не за что. Спасибо мне твоего не надо. Мне б как-нибудь тебя живого домой отпустить.
Вместе мы быстренько их скатали, и он до того разошелся – еще чего-то хотел делать на палубе.
– Неужели все? – спрашивает.
Я удивился – одно дело ему показали, а в другом он опять лопух. Видит, что трюм не закрыт лючинами, брезент валяется рядом.
– Так и поплывем, – спрашиваю, – с разинутым трюмом?
Даже уши у него запылали.
Мы положили все лючины,[40]40
Лючины – толстые доски, перекрывающие люк (обычно – трюмный, когда большие размеры не позволяют его накрыть одной крышкой).
[Закрыть] накрыли брезентом. Тут он сам стал заклинивать.
– Ты, – спрашиваю, – ручник держал когда-нибудь?
– Что это такое – ручник?
– То, что в руке у тебя.
– А! Молоток?
– Дай сюда. И ступай в кубрик.
Жора-штурман крикнул мне из рубки:
– Гони ты его по шеям, сам сделай. Алик на меня поглядел, и мне нехорошо сделалось. У него чуть не слезы были в глазах. И правда, зачем я его мучил?
– Иди умывайся, без тебя управлюсь.
Он встал, руки в карманах, но не уходил. Смотрел, как я заклиниваю. А рядом другой лежал ручник и клинья – он их не догадался взять.
– Ну, что стоишь над душой как столб!
– Послушай, – он мне говорит, – я думал – ты хоть чем-то отличаешься от всех остальных. Так мне казалось. А ты – такой же, зверь. Это жалко, шеф. Побереги хоть нервы. Что за удовольствие – орать на человека?
Я встал тоже:
– Удовольствия мало. Но это хорошо, что я кричу. Вот когда ты мне совсем будешь до лампочки, я тебе слова не скажу. Это лучше будет?
– Ты знаешь – пожалуй, лучше.
Он закусил губу и пошел. Честное слово, мне жалко его было до смерти. И ненавидел я его – со вчерашнего вечера. Ну, хорошо, пусть я – зверь. Но зачем человек не своим делом занимается?
А все уже в кубрик ушли. Один я остался – из-за салаги. А на палубе не дай Бог задержаться.
– Эй, как тебя? Шалай? – Жора-штурман мне кричит. – Кто шланг оставил?
– Кто же оставил? Кто бочки заливал.
– У, салага, мешком трехнутый! Убери-ка его.
Пошел убирать. За это время он мне еще работу нашел.
– Глянь-ка, вон бочка слева стоит, шестая.
– Ну?
– Привяжи-ка ее, от греха подальше, покатится.
Это уж Васька Буров мне удружил, сачок.
– И рыбодел не привязали.
Уже все на обед пронеслись галопом, а я все возился. Вот те и Алик! "Неужели все?" Я взмолился наконец:
– Жора, всей работы на палубе не переделаешь. А мне на руль идти.
Он махнул рукой.
– Иди обедай. Боцмана позови ко мне.
Покамест я рокан скидывал, умывался, уже в салоне битком набилось. Это у нас быстро делается – не хочется же по переборке жаться, за столом только восьмеро помещаются. Да еще обязательно кто-нибудь из штурманов или механиков рассиживает – не выберут другого времени пообедать.
В данный момент третий штурман рассиживал. Доедал не спеша компот, а косточки сплевывал на ложечку, – в мореходке, поди, научился. Им там, поди, специально лекции читают – как себя в обществе вести.
Так он, значит, посиживал, а мы по переборочке жались. И он же нам еще и говорит:
– Вам, – говорит, – обед сегодня не полагается, мало рыбы взяли. Одиннадцать бочек – это разве улов?
– А кто ее искал? – спросил Шурка. – Ты ж на вахте был.
– Эхолот ищет, не я.
Все, конечно, шуточки. Только шутить не надо, когда всем обидно из-за тонны уродоваться.
– Это вот точно, – дрифтер ему сказал. – К эхолоту еще мозги требуются.
Тот застыл с ложечкой, медленно стал бледнеть.
– Не понял. Прошу повторить.
Дрифтер взял да и повторил, ему что. Да еще прибавил в том смысле, что кое-кто у нас на пароходе чужой хлеб ест.
– Твой, что ли?
– И мой, в том числе.
– Прошу – персонально. При свидетелях. Кого имеешь в виду?
Дрифтер смолчал через силу. Его уже и за локти дергали, и на ноги наступали. Бондарь зато высказался.
– Ты б, Сергеич, не шумел бы, видишь – с выборки люди пришли, устали, как собаки. Могут чего и лишнего сказать – про кого, и сами не знают. А ты на себя примешь.
Тоже миротворец. В нем такая змея сидит, на всех яду хватит. И как чуть скандалом запахло, он тут, с добродушной такой ухмылочкой. Третий пошел к двери, сказал:
– Я лишнего от себя не прибавлю. А то, что тут было сказано, считаю нужным довести до сведения капитана.
– Валяй, доводи, – дрифтер опять не стерпел. – Это ты умеешь.
И только за третьим дверь захлопнулась, Васька Буров поддакнул.
– Да чо с него взять-то, с Шакал Сергеича? С чужим же дипломом плавает.
И пошло на эту тему.
– Как так – с чужим?
– А украл он его, наверно.
– Да не украл, на толчке купил, со всеми печатями.
– Только "фио"[41]41
То есть фамилию-имя-отчество.
[Закрыть] проставил.
Димка все эти речи слушал, посмеивался, переглядывался с Аликом, потом сказал:
– Очаровательная вы компания, бичи! Смотрю на вас – не налюбуюсь. Непонятно мне – что вас объединяет? Ни дружбы, ни привязанности, простой привычки даже нет друг к другу – сплошная грызня. И на это вся энергия у вас уходит. А доведись-ка вам сообща против кого-нибудь – хватит ли ее?
Я увидел – все на него смотрят злыми глазами. И молчат.
– Будет вам, – кандей Вася вмешался. – Передеретесь еще в салоне.
Он притащил целый таз с жареной треской и вывалил на стол, на газетку. Нам в этот день четыре трещины попались, и он их всю выборку за бортом держал, на прядине, только сейчас живыми кинул на сковороду. Потому что, как говорил наш старпом из Волоколамска, "ее, заразу, нужно есть, когда она в состоянии клинической смерти". И тут, конечно, все споры кончились. А дальше я не знаю, мне на руль было идти.








