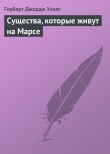Текст книги "Карта страны фантазий"
Автор книги: Георгий Гуревич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Претензия восьмая ПОКАЖИТЕ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС!
Зачем же обманывать читателя пустой надеждой на легкий успех? Нет, вы изобразите трудности. Опишите открытие в становлении. Фантастика должна показывать творческий процесс.
Критик № 8
Единомышленники этого критика были особенно многочисленны в начале 50-х годов. Они призывали описывать лаборатории и мастерские, опыты, размышления, рассуждения, творческие муки и презрительно осуждали тех, кто, подобно Ж. Верну, начинал повесть с «готовенького открытия».
Я сам верил в ту пору этим критикам, сам писал о трудовом процессе, потом понял, что особенной заслуги тут нет. Как обычно в фантастике, речь идет о двух разных разделах, описывающих две стороны открытия: цель и воплощение.
И Ж. Верн, как бы демонстрируя, что писать можно и так и этак, выпустил один роман производственный – об изготовлении межпланетного снаряда («Из пушки на Луну»), а затем – продолжение этого романа, об использовании готового ядра в первом полете к Луне («Вокруг Луны»). Здесь наглядно видно, что труд и использование – только различные стадии выполнения одного и того же заказа мечтателей.
Пожалуй, можно наметить пять стадий. Первая из них: стадия мечты, постановки цели. Вторая – стадия научно-технической идеи, когда подыскиваются пути к осуществлению мечты. Третья-это стадия созидания, материализации замысла: опыты, конструирование, сооружение. Это и есть стадия творческого труда. За ней следуют четвертая – стадия первого испытания и пятая – стадия всеобщего распространения мечты, последствий научного открытия.
Возможно, вам не понравилось такое членение, вы бы членили ход открытия иначе, не выделяли такие проходные моменты, как первое испытание или технический замысел. Но дело в том, что их выделяет научная фантастика. Различным стадиям соответствует разного типа литература со своим подходом к материалу и своими сюжетами.
Мечта, как правило, излагается на примере первого испытания. Припомните, как много генеральных репетиций и премьер в научно-фантастической литературе. У Ж. Верна – первый полет на Луну, первая подводная лодка, первый воздушный корабль, первый вездеход, первый автомобиль («Паровой слон»). У Г. Уэллса – первые люди на Луне, первое путешествие во времени, первый человек-невидимка. Человек-амфибия А. Беляева – это первый подводный человек, голова профессора Доуэля – первая оживленная голова, доктор Сорокин – первый доктор, меняющий людям внешность.
Не случайно писатели-мечтатели предпочитают описывать испытательную стадию. Новое, непривычное потрясает не только читателя, но и героев. Автор имеет возможность рекламировать свою мечту, рисуя восхищение и удивление очевидцев. Сотый и даже десятый «Наутилус» никого потрясать не будет. И сюжет легко построить на столкновении могучего новшества с обыденностью.
Однако далеко не всякую мечту интересно изображать в готовом виде. Мне самому пришлось столкнуться с этим затруднением, причем неожиданно для себя. Я писал повесть о покорении вулкана. Мне казалось очень заманчивым рассказать, как люди взнуздают стихию, изменят русла огненных рек, усмирят извержение, кратер превратят в турбину, от подземного буйства получат электрический ток. Но вот вулкан покорился… А дальше что?
А дальше – ничего особенного. В электрическую сеть поступит несколько миллиардов киловатт-часов.
Или, допустим, вам захотелось изобразить осушение моря. Задача небывалая, техника фантастическая: плотины в сотни метров высотой, насосы, выкачивающие тысячи миллиардов тонн воды, проблемы отвода рек, баланса дождей и испарения… А в результате человечество получит еще одну территорию, поселится на ней, построит города и селения, проложит дороги, будет сеять хлеб, наладит жизнь, такую же, как в соседних странах.
Видимо, фантастика творческая интереснее мечты там, где путь необыкновенный, а цель обычная: вулкан для получения энергии, осушение моря для хлебопашества.
То же в темах, посвященных усмирению стихий. Землетрясение отменить – задача необычайная! А каков окончательный результат? Люди живут, как раньше жили, занимаются повседневными делами.
Вытесняет ли фантастика творческая мечту? Нет: теснит, но не вытесняет. Остается круг тем, где мечта по-прежнему интересна. В теме осушения моря интереснее творчество, а в теме создания человека-амфибии интереснее готовый результат. Пожалуй, можно сказать, что готовый результат важнее там, где появилось новое качество.
Кроме того, в качество переходит и количество. Вулкан, ставший электростанцией, дает миллион киловатт, по мощности это рядовая ГРЭС, включенная в цепь. Но если вы покорили атомное ядро и каждый литр воды превратили в электростанцию, затопили всю планету энергией, тут итог интереснее, о новой щедро энергетической жизни надо писать.
Нет проблемы: становление вместо результата, путь вместо цели. Творчество и мечта – только разные стадии одного и того же открытия. Но вот что замечательно: тема одна, разговор, казалось бы, об одном предмете, а сюжеты получаются принципиально иными.
На стадии научной идеи на первый план выходят размышления. И бывает их так много, что рассуждения затирают и характеры и сюжет, автора клонит к статье. Мы об этом говорили в предыдущей главе.
На стадии испытания главное – показать, что дает открытие. Задача автора – изобразить мечту заманчивой и выполнимой. Основной конфликт – столкновение мечты с прежней жизнью. Сюжет получается приключенческий, увлекательный в него легко вплетаются тайны, узнавание, борьба за власть над открытием.
А на стадии творчества сюжет замедленный, действие происходит на стройке или в лаборатории. Основные конфликты творческие, материал специальный, основательный, много науки и техники.
На стадии же всеобщего распространения надо описать, что дало изобретение всем людям. И сюжет получается широкий, многоплановый, с общественно-социальным уклоном.
Возьмите для сравнения пары: телевидение – «Брат мой, враг мой» М. Уилсона (созидание), «Чудесное око» А. Беляева (испытание). Или же: тема – воздухоплавание. «Робур-завоеватель» Ж. Верна (испытание), «Война в воздухе» Г. Уэллса (всеобщее распространение).
Меняется сюжет, и меняется отношение к герою. Если в испытательском романе, в романе-мечте, ученый – лицо второстепенное, добрая фея, приносящая в мир открытие, то в романе о творчестве ученый – главный герой, объект человековедения.

Герой романа-мечты – наследник волшебника и сам чудо-человек. Гениальный и таинственный капитан Немо где-то на уединенном острове изобретает и монтирует подводную лодку, такую совершенную, которую человечество не изготовит и через сто лет. Гениальный и странный, донельзя рассеянный и чудаковатый Зефирэн Ксирдаль, в мирских делах ничего не понимающий, запершись на несколько недель в лаборатории, овладевает атомной энергией и с ее помощью сбрасывает на Землю астероид из чистого золота («В погоне за метеором» Ж. Верна). Одинокие и сверхгениальные, гениальные и сверходинокие творят чудеса в произведениях Ж. Верна, у Г. Уэллса и А. Беляева, А. Толстого и А. Конан-Дойля. Человек-невидимка и современный алхимик, авантюрист Гарин и мечтатель Лось, профессор Вагнер, вложивший человеческий мозг в голову слона, и звероподобный профессор Челленджер, заставивший Землю завопить, – все они потомки капитана Немо, все «сверхгениальные сверходиночки.
Образ одинокого гения оказался очень стойким в фантастике. Отчасти из-за сюжетных преимуществ. Одного изобразить легче, чем общество. Гений ярок, привлекателен, легко запоминается, у него есть выразительная черта характера – гениальность. И нет необходимости долго объяснять, почему именно этот человек опередил человечество на сто лет. Потому что гениальный. Другие ему по колено. Кроме всего, сверхгений удобен в роли феи, приносящей в мир готовое открытие. Он вынимает межпланетный корабль, как фокусник, из платка, остается только сесть в кабину и лететь на Марс.
И один-единственный недостаток у этого образа – он неправдоподобен.
В сверхгения читатель еще мог верить во времена Ж. Верна. Людей, имеющих дело с техникой, тогда было мало. Для малосведущих словно с неба валились технические чудеса: пароход, паровоз, телеграф, фотография. Легко было поверить, что и подводную лодку и воздушный корабль завтра кто-то предложит миру. Так было сто лет назад. Но сейчас научных работников сотни тысяч, новинками техники интересуются миллионы, газеты заранее сообщают о назревающем открытии. Всему миру известно, что полет человека на Луну близок, а Марс еще не встал на очередь, и никто не поверит, что некий инженер Лось смастерил в сарае на заднем дворе марсианский корабль.
Мы-то знаем, как достаются космические корабли!
Часто слышишь такие слова: «В прошлом были гениальные изобретатели-одиночки, а в наше время только коллективы создают нечто крупное».
В этом утверждении по крайней мере половина справедлива – вторая. Крупное в наше время создают только коллективы. Одиночка в лучшем случае способен быть автором теории, основанной, естественно, на фактах, добытых всей мировой наукой. Но и в прошлом, как ни непривычна эта мысль, крупное тоже создавалось коллективами, только присваивалось одиночками.
Только один пример приведу я за недостатком места.
На Западе изобретателем паровой машины считается Джеме Уатт. Его именуют творцом промышленной энергетики, отцом промышленной эпохи. Во всех детских книжках там вы найдете легенду о необыкновенном мальчике, который, глядя на крышку кипящего чайника, понял, какая сила скрыта в паре, догадался, что эта сила может заменить мускулы людей и лошадей. Великий провидец!
А на самом деле?
На самом деле уже в XVII веке европейцы повсеместно заменяли мускульный труд энергией воды и ветра. Водяные колеса мололи зерно, вращали валы механизмов. Мануфактуры лепились тогда возле рек.
Но угольные шахты не всегда находились возле рек, а шахты нуждались в энергии для откачки воды. Острее всего эта проблема стояла в густонаселенной Англии, которая сожгла свои леса и отапливалась углем. И там с середины XVII века пытались изобрести паровой насос.
Патент Сэвери – конец XVII века. Проект парового котла француза Папена (1690). Наконец насос Ньюкомена (1708). Этот уже мог работать. В XVIII веке насосы Ньюкомена распространились по всей Англии. Их были десятки на угольных шахтах. И вот однажды модель насоса попадает для починки в руки университетского механика Уатта. Модель работала худо. Уатт догадался, почему. У Ньюкомена цилиндр приходилось то разогревать, то охлаждать, на это уходило топливо и время. Уатт предложил охлаждать пар в отдельном конденсаторе. В этом и заключалась его заслуга: он изобрел не паровую машину, а конденсатор к ней.
В дальнейшем он добавил и другие усовершенствования: кривошип, золотник, центробежный регулятор. Кое-что изобрел он сам, кое-что – его соперники (с одним был суд, будто бы он украл идею), кое-что предложили механики и машинисты, это Уатт присвоил без суда, ведь он был совладельцем завода, хозяином, руки и головы рабочих принадлежали ему. И коллективное изделие предшественников, соперников и подчиненных вышло в свет с именем Уатта. Возможно, он внес больше других, но наверняка меньше, чем все прочие, вместе взятые. Однако, как и полагается капиталисту, единоличному присвоителю общественного труда, Уатт считал себя единственным творцом подлинной паровой машины и последние годы жизни потратил на тяжбы с продолжателями, улучшавшими его детище.
Одновременно с Уаттом, даже раньше его на несколько месяцев, паровую машину построил на Алтае талантливый русский инженер Ползунов.
Но в России и в Англии сложилась различная экономическая обстановка. Россия была богата землями и завоевывала новые земли. Помещики растаскивали степи Башкирии и южной Украины, искали людей – крепостных – для заселения. Паровая машина была им ни к чему, и когда Ползунов умер, его изобретение забросили и забыли. Англия же именно в эти годы отобрала у Франции колонии, завоевала Индию и получила огромный рынок – не земли, а покупателей. И рынок этот нельзя было насытить ручным трудом, требовалась машина. Назрел промышленный переворот, машина Уатта была подхвачена…
В том-то и заключалась трагедия русских изобретателей, что сами они были людьми талантливыми и передовыми, мировые достижения знали, работали на переднем крае науки, но жили в отсталой стране, неторопливо развивающей вширь предпоследнюю экономическую стадию. Была возможность сделать открытие, спроса не было.
Основные конфликты литературы о творчестве уже продемонстрированы на примере паровой машины. Первый из них – трагедия зачинателей, сильных умом и духом, но родившихся слишком рано, прежде чем созрела техника и опрос. Вариант:
трагедия человека, родившегося не там, где он был нужен. Далее, характерный для капитализма конфликт удачливого: частное присвоение коллективного труда, превращение творца в борца за прибыль. Рядом конфликты присваивателей, вообще не имевших отношения к творчеству. Трагедия последователей, сделавших гораздо больше Уатта, но оставленных историей без внимания. Конфликты личные: кто-то задумал, сил не хватило. И постоянный творческий конфликт с неподатливым материалом, не подчинившейся человеку природой. И естественный конфликт нового со старым, еще сильным, не желающим уступать свое место под солнцем. И конфликт социальных последствий: ведь машина-то создала безработицу в Англии, рабочие ломали машины…
Перечисленные и многие другие конфликты творчества можно изображать в литературе и в кино, на материале историческом, современном и фантастическом. Как водится, каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.
История богата материалом продуманным и устоявшимся. Это хорошо и плохо. Насчет устоявшегося материала есть устоявшиеся мнения, и их нелегко поломать. Вам придется много спорить, если вы захотите показать великого Уатта, Ньютона или Колумба участниками коллективного труда.
Современный материал – самый достоверный и убедительный. Зритель знает современность и ей поверит. Трудность же в дробности и обилии неустоявшегося материала. Обычно научный институт занимается узкой проблемой, интересной и понятной не всем читателям. Приходится довольно подробно объяснять технологию, нередко это наводит скуку. Бывает и так, что автор нечаянно поддерживает неправых. И происходит это даже не от неграмотности литератора. Просто заранее нельзя знать, кто добьется успеха. Если же умалчивать о технологии, суть спора становится неясной, читатель вынужден верить на слово, что герой Иванов прогрессивен, а Петров – вреден.
Фантастика, как всегда, выигрывая в наглядности, теряет в достоверности. Показывать на фантастических примерах легче, доказывать труднее. Например, близки к творческой фантастике, на самой границе с ней находятся такие книги, как «Иду на грозу» и «Искатели» Д. Гранина. В последней говорится о конструировании просвечивающего землю прибора, который показывал бы дефекты в подземных трубопроводах. Такого прибора не было на самом деле, но читатель этого не знал и, не очень разбираясь в технике, слабо улавливал, кто же из героев прав. Как вы думаете, стоило бы Гранину заменить прибор всем понятной целью, например оживлением умерших? Тут все стало бы понятно, кто работает для людей и кто жертвует ими ради своего благополучия… Но, с другой стороны, читатель же знает, что умерших оживлять нельзя, веры автору меньше.
Что выбирать, зависит от автора, от его сверхзадачи.
Есть, правда, фильмы смежные, со сходными сюжетами и конфликтами, нефантастические, иногда у самой грани фантастики. Например: «Во имя жизни», «Иду на грозу» или «9 дней одного года». Все эти фильмы высокого класса, правдиво изображающие обстановку современной исследовательской работы. Но я хотел бы обратить внимание, что из всех творческих конфликтов наши авторы выбирают один: борьбу хороших ученых с плохими или недостаточно хорошими, конфликт, из которого следует вывод: «Освободите хорошего, способного ученого от мешающих, и дело пойдет». Откровеннее всего это получилось во впечатляющем фильме «Во имя жизни». Это история трех молодых ученых, которые берутся за решение проблемы сращивания нервов. И у одного не хватает стойкости, жена его сбивает с толку, другой, теряя веру в себя, едет искать решение на Западе. Только третий, несгибаемый, доводит дело до конца. И хотя фильм вдохновлял на творчество, призывал к стойкости, вместе с тем он поднимал на щит одиночество. Невольно получалось, что только у одного, освободившегося от лишних людей, гения будет нужный результат. А на самом деле все это – только предыстория открытия. Освободившись от мешающих, надо приступать к творчеству и творить все-таки коллективно.
Упомянутые фильмы находятся у самой границы фантастики, переход вполне возможен. Дайте в «9 днях одного года» удачное испытание «термояда» в финале, и переход совершен.
Возможно перейти границу – экранизируя. Намерение " такое есть: «Записки из будущего», написанные известным хирургом Н. Амосовым.
Герой повести – ученый, приговоренный медициной к смерти из-за рака крови. Ему остался год жизни. Интересует его только наука. И возникает идея: лечь в анабиоз, проедать лет двадцать, пока наука не научится излечивать лейкемию. Ученый организует работу, расставляет учеников, оценивает их, наблюдает за ними и за собой. И все время ведет внутренний монолог, смотрит на себя ею стороны.
Тут имеется возможность для изображения творческого процесса, для двойного сюжета с замыслами и событиями, действие и обсуждение, голос за кадром и голос в кадре, мечты и явь.
Но даже и у Амосова нет дорогого для меня мотива коллективного творчества. Впрочем, его вообще нет в художественной литературе. «Жизнь замечательных людей» имеется, «Истории замечательных достижений» нет. Конечно, история потруднее, чем биография. Но для правдивого изображения творчества нужен не «Наполеон» и не «Кутузов», а «Война и мир».
Когда-нибудь это будет сделано.

Претензия девятая А ГДЕ ХАРАКТЕРЫ?
Фантастика должна быть человековедением, прежде всего. Какова ее задача? Показать характеры в становлении, в развитии. Есть тут развитие образов, есть характеры вообще?
Критик № 9
Итак, нам предстоит иметь дело с самым влиятельным оппонентом, с литературным критиком, ревнителем человековедения. Ему нужно показать, что научная фантастика не чужда человековедению, что психологичность ей не противопоказана.
Примеры психологической фантастики, чистой (ненаучной), приводились в главе о научности. Напомним: «Гамлет», «Русалка», «Демон», «Шагреневая кожа», «Фауст» и т. д.
Почему фантастические образы привлекали великих писателей прошлого? Для пояснения будем придерживаться все того же примера с Фаустом и Мефистофелем.
Что приобретается с приходом черта в сюжет? Исключительность в первую очередь. Это вам не какой-нибудь болтун-нигилист, все осуждающий за кружкой пива. Дьявол самолично! Событие необычайное, из ряда вон выходящее.
А из ряда вон выходящее останавливает человеческое внимание. Тут имеет место и любопытство и выход из будничной рутины, из ряда примелькавшихся, привычных, никаких эмоций не вызывающих событий. И обратите внимание, как тянется искусство к исключительному.
Миллионы сластолюбивых молодых людей соблазняют миллионы девушек. Поплакав в подушку, миллионы обманутых смиряются с несчастьем.
Но Карамзин пишет о той, которая от несчастной любви утопилась в пруду, где-то возле нынешней станции метро «Автозаводская» («Бедная Лиза»).
И Пушкин пишет о той, которая утопилась возле мельничной запруды («Русалка»).
Тысячи и тысячи молодых американцев бросают подруг ради женитьбы на богатой.
Но Драйзер пишет о том, который не только бросил, но и утопил свою беременную подругу. И это типичная «американская трагедия».
Тысячи и тысячи студентов размышляют о границах дозволенного я недозволенного. Достоевский выбирает того, кто переступил-таки дозволенное и совершил убийство.
Смертью кончилось дело. Нельзя пройти мимо, не задуматься.
Так вот, из ряда вон выходящее, останавливающее внимание естественно присуще фантастике. Дьявол вмешался в дело! Обратите внимание!
Вторая заслуга фантастики – в наглядном упрощении. Об этом говорилось выше. Гёте доказывает нам, что ничто не дает счастья, кроме творческого труда. Но только сказочное существо может предложить для проверки, на пробу все.
Фантастика упрощает и обобщает. И третье ее достоинство – в гиперболизации вывода.
«Аэлита» А. Толстого кончается апофеозом любви. Слово «любовь» несется через космические просторы от Марса к Земле. Любовь побеждает пространство, любовь побеждает космос, любовь выше всего!
Если место действия отнесено в космос, автор как бы убеждает нас: «Так будет везде-везде-везде!»
Если время действия отнесено в будущее, автор как бы говорит: «Так будет всегда-всегда-всегда!»
Недаром так режут нам глаза произведения западной фантастики, в которых герои копят деньги на перевозку домика на Марс (Р. Бредбери), или сосланные каторжане продаются как рабы на рынке Венеры (Р. Хайнлайн), а в созвездии Лебедя управляет принцесса (Э. Гамильтон).
Итак: исключительность, останавливающая внимание, наглядное упрощение и обобщение, гиперболизация вывода – вот достоинства, привлекавшие в свое время к фантастике ненаучной, присущие и научной.
А недостатки?
Два знаю: недостоверность и деконкретизация.
Последняя – оборотная сторона обобщения. Мефистофель – олицетворение отрицания. Он не корсар, не нигилист, не футурист и не битник – он дух сомнения. Смерть у Горького – просто смерть, не гибель от болезни, старости, несчастного случая, от ножа убийцы или на плахе.
Но в подлинной жизни не бывает просто смертей или просто олицетворении, в жизни все конкретно. Олицетворения условны и… неправдоподобны.
Фантастика научная находится тут в промежуточном положении: она достовернее и конкретнее ненаучной. Но нельзя сказать, что она всегда лучше, иногда и конкретность мешает в литературном произведении.
У американца Т. Годвина есть рассказ «Неумолимое уравнение». Сюжет его: в кабину «зайцем» пробралась девушка, а ракета рассчитана на одного человека, и пилот из чувства долга обязан проявить жестокость – выбросить девушку в космос.

Долг оправдывает жестокость – такова милитаристская идея рассказа. Осуждая идею, мы замечаем, кроме того, что и пример-то неубедительный. На самом деле ни долг, ни конкретная обстановка не заставляют автора проявить жестокость. Ведь пилоту нужно избавиться не от девушки, а от лишнего груза в пятьдесят кило. Неужели у него не найдется в кабине, наверняка весящей больше тонны, какого-нибудь кресла, баллона или перегородки весом в пятьдесят килограммов? Волей-неволей у автора получается рассказ не о твердом исполнителе долга, а о несообразительном солдафоне, который с готовностью убивает, вместо того чтобы подумать, как спасти человека.
Автору в данном случае было бы легче, если бы явился сказочный Ангел Смерти и сказал бы безапелляционно: «Выбирай, ты или она?»
Так что панацеи нет. Некоторые темы удобнее выражать без фантастики, другие – с помощью научной фантастики, третьи – с помощью ненаучной.
И тем не менее ненаучная фантастика, столь распространенная в прошлых веках, к началу XX века в русской литературе сошла почти на нет. Вспоминаются еще драмы Л. Андреева, некоторые рассказы А. Грина («Крысолов», «Словоохотливый домовой»). Но, в общем, примеров немного, подыскиваешь их не без труда. Видимо, вместе с ослабевающей религией слабело я серьезное отношение к сказочным образам. У Пушкина русалка – трагический образ, у Аверченко – карикатурный: тупое, пахнущее рыбой существо, умеющее только ругаться подслушанными у рыбаков «словесами».

Сверхъестественное ушло, оставив в литературе пустое место, а научная фантастика это место заняла не сразу.
Отчасти из-за непонятности. Ведь русалки и черти куда проще, понятнее машин. В сущности они очень человекообразны, эти бездушные кокетки с рыбьими хвостами или мелкие пакостники с рожками и копытами. «Дождичек посылает бог» – мысль примитивнейшая, не требующая умственного усилия. Юпитер гневается и стреляет молниями – тоже легко себе представить. А попробуйте доходчиво рассказать о влажности и точке росы и о том, как невидимые пары оседают на ядрах конденсации и от них приобретают заряд, и если облако заряжено положительно, а земля отрицательно, происходит пробой, как бы короткое замыкание, и при этом электроны проскакивают из земли в небо и оставляют за собой ионизированный след, и по тому следу заряд устремляется в землю, и все это называется молнией. И поскольку скорость ее сверхзвуковая, возникает ударная волна, как у самолета на звуковом барьере, эта воина и есть гром.
Попробуйте, объясните. Юпитер с насупленными бровями как-то доходчивее.
Но дело не в одной только доходчивости. Еще и в том причина, что «серьезный» читатель – потребитель психологической литературы – не сразу менял свое отношение к необыкновенному. Отношение это проходило примерно такие этапы:
1. Люди верят, что любые чудеса способны совершить бог, ангелы, черти и прочая нечисть.
2. Люди не верят в сверхъестественные силы и считают, что чудес не бывает.
3. Люди верят, что любые чудеса способна совершить наука.
Так вот, доброе столетие от середины XIX века и до середины XX выпало на скептический период. Трезвый читатель был убежден, что чудес не бывает вообще. И писатели-фантасты, начиная с Жюля Верна, тратили немало усилий, доказывая в каждом отдельном случае, что данное чудо выполнимо, что наука я техника способны создать подводную лодку и воздушный корабль и доставить человека к Луне. И я еще застал массового читателя-скептика, отрабатывал методику убедительных доказательств (о ней рассказывалось в главе о фантастичности), считал себя специалистом по обоснованиям, с охотой занимался обоснованиями, пока в один прекрасный день не узнал, что ломлюсь в открытую дверь.
Дверь открыли, конечно, ученые, а не фантасты. Они создали атомную электростанцию, кибернетические машины и космические корабли, заставили поверить во всесилие науки. И вместо стенки скептиков с лозунгом – «чудес не бывает» появился иной читатель, считающий, что любые чудеса осуществимы в принципе.
Конечно, сдвиг в умах произошел не сразу и не повсеместно. И сейчас я встречаю людей, которые говорят мне, что необоснованную фантастику им читать неинтересно. Но раньше таких было большинство, а сейчас – половина. И я даже не сказал бы, что это худшая половина. Среди них не только упрямые скептики, но и деловые инженеры, желающие обсуждать, с какого конца им приступить к конструированию волшебной палочки.
О том, что я ломлюсь в открытую дверь, я услышал от А. Стругацкого, старшего из братьев-соавторов. Он был моим редактором в ту пору. И он сказал: «Зачем вы тратите усилия на научные рассуждения? Все равно они спорны и вызывают излишние возражения. Пусть ваши герои садятся на некий аппарат и начинают действовать».
А вскоре я прочел написанную по этому рецепту повесть бр. Стругацких «Попытка к бегству».
Где-то в будущем люди используют отпуск для туристской прогулки на незнакомую планету. Садятся в некий аппарат, неведомо как побеждают пространство – сотни полтора парсеков. И с ними наш современник, какой-то воин, сбежавший в будущее с автоматом в руках.
Но и на некоей планете герои встречают прошлое – подобие фашизма, кровавое человеконенавистническое общество, где господа издеваются над рабами и убивают их. И воин, бежавший в будущее, решает вернуться в свой век, чтобы с оружием в руках довершить борьбу с фашистами.
Так как в реальном мире никто не способен убежать от тягот настоящего в будущее, тем более – вернуться в прошлое, раскаявшись, повесть эту, видимо, надо понимать в переносном смысле. Стругацкие выступают против моральной попытки к бегству в будущее писателей-мечтателей и читателей, увлеченных мечтами.
Дверь мечтаний открыта, но входить в нее рано, – так я понимаю эту повесть.
А в конце 1963 года вышло другое произведение тех же авторов, явно принадлежащее психологической фантастике, – «Далекая Радуга».
Радуга – «это некая, не из числа спутников Солнца, планета, отданная физикам для проведения небезопасных опытов. И биологи проводят там свои опыты. У физиков и биологов семьи, жены, дети, при детях воспитатели. Есть на планете и гости: художники, туристы. И вот один из опытов приводит к катастрофе. Выплескивается из подпространства черная волна, сжигающая все живое. А на Радуге в это время один-единственный звездолет, и всех увезти он не может. Кому жить, кому гибнуть?
Вихрь лиц: люди, жертвующие собой и спасающие себя, люди, подавленные и встречающие смерть гордо. Художник, несущий в ракету свой шедевр, юноши, спасающие изобретение, женщина, спасающая ребенка. Популяризации никакой. Физический опыт условен: некая волна, возникающая в некоем пространстве. Всякие ученые термины – «Лю-волна», и «Д-пространство» и другие служат только для создания колорита.
Предвидение? Никакого. Мечта? Какая же мечта о катастрофе? Тут не мечта, а психологическая повесть на тему: «Человек перед лицом смерти». И для философского противопоставления рядом стоит персонаж, избавленный от смерти, совсем фантастическое существо, некий Камилл, срастивший себя с машиной и обеспечивший себе восстановление, практическое бессмертие. Ему тоскливо, потому что он не разделит общую судьбу. Он не боится, не жертвует собой и не вызывает сочувствия. Завтра он воскреснет один на пустой, посыпанной пеплом планете.
Всего за четыре года до «Далекой Радуги» я потратил, наверное, тысячу литературно-лошадиных сил, стараясь доказать, что мечта об удлинении жизни, в принципе неограниченном – до ста, пятисот, тысячи лет, не противоречит биологической науке. Прошло всего четыре года, и оказалось, что через все мои трудности можно просто переступить, нарисовать Камилла, бессмертного, как Христос, и обсуждать, что хорошего даст ему бессмертие. У Стругацких – ничего хорошего. Так же и у Свифта – глубоко несчастны выжившие из ума бессмертные струльдбруги. И у К. Чапека – холодна, черства и пресыщена трехсотлетняя нестареющая красавица Элина Макропулос.
Опять-таки – дверь мечтаний открыта, но входить не стоит.
И еще пример, уже 1965 года.
Некий аппарат, посланный к звездам, каким-то способом заблудился во времени и пространстве и попал на Землю будущего. И каким-то способом вернулся и привез людям сведения об их будущем – даты смерти. Отныне каждый человек на Земле знает год своей смерти. Знает женщина, одиннадцать лет ждавшая любимого, знает ее любимый, посвящающий ей все часы этого последнего года, и восемнадцатилетняя бойкая девушка Иль знает, что жить ей на земле восемнадцать лет (О. Ларионова, Леопард с вершины Килиманджаро).