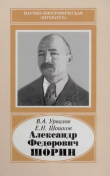Текст книги "Мы — из солнечной системы (Художник И.М. Андрианов)"
Автор книги: Георгий Гуревич
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
ГЛАВА 20. ФУНКЦИЯ ШОРИНА
Кадры из памяти Кима.
Тьма. Густая, плотная, смоляная. Фонарики погашены: экономится энергия. Глаза широко раскрыты, ноги вытянуты, живот втянут. В животе сосущая пустота. Хочется есть, но нечего. И потому нельзя прислушиваться к голосу желудка, надо отключить внимание, впитывать человеческий голос, низкий, простуженный. Голос говорит: «Товарищ» – самое благородное из слов…»
– «Товарищ» – самое благородное из слов, придуманных человеком – так начал летчик свой рассказ. – Любовь? Нет. Любовь где-то около наслаждения, а в наслаждении слишком много эгоизма. Спор двоих о том, кому командовать, кому уступать, – вот что такое любовь. Товарищ-это выше. Да ты посмотри историю человечества: вся она отчет о росте товарищества. Сначала первобытный род – расширенная семья, потом товарищество родов – племя, племена объединяются в народности, а те в нации, потом преодолевается классовая рознь, появляется народ товарищей – в Советской России, затем товарищество дружных народов планеты Земля. Что впереди – скажи сам. Конечно, космическое товарищество – союз дружественных цивилизаций. Стоящая цель, как по-твоему?
– Но ведь это фантастика, – сказал Ким. – Сколько веков искали и не нашли разума в космосе.
– Пока не нашли. Искали без должной твердости, – поправил Шорин. – Слушай, я тебе расскажу про поиски.
По сведениям библиотекарей, в возрасте около десяти лет читатель вступает в полосу приключенческого запоя. В эту пору из родительских архивов извлекаются старые бумажные книги о кровожадных индейцах с перьями на макушке, – о мрачных шпионах в синих очках и о звездолетчиках в серебристо-стеклянной броне, под чужим солнцем пожимающих нечеловеческие руки мохнатые, чешуйчатые, кожистые, с пальцами, щупальцами и присосками. Книги эти с упоением читаются в десять лет и с усмешкой – после шестнадцати. Между десятью и шестнадцатью читатель постепенно проникается чувством времени, начинает осознавать, что на дворе третий век всемирной дружбы, индейцы с томагавками остались в далеком прошлом и шпионы исчезли вместе с последними войнами, узнает, что в термоядерное время люди легко летают на любую планету, но чужие солнца остаются недоступными, и нет возможности посетить планеты, где проживают эти самые чешуйчатые, мохнатые, фиолетовые в полосочку. Читатель узнает все это, примиряется, находит другое дело на Земле, не менее увлекательное, чем ловля шпионов или поиски звездных жителей.
А Шорин не примирился. Он готовился в космонавты, упорно тренировал себя, приучал к выносливости и лишениям. Зимой спал на улице, купался в проруби, раз в месяц голодал два дня подряд (что совсем не считается полезным), раз в неделю устраивал дальние походы пешком или на лыжах, по выходным летал на Средиземное море и проплывал там несколько километров – с каждым годом на два километра дальше.
И однажды это кончилось плохо.
Он наметил дальний проплыв на конец сентября. День был выбран по календарю; природа с календарем Шорина не считалась. Дул порывистый ветер, разгонял немалую волну. Шорин заколебался было, но заставил себя пресечь колебания. Что записано в плане, должно быть выполнено. Космонавты не меняют маршрута из-за плохой погоды. Юноша принудил себя войти в воду.
А когда он захотел вернуться, было уже поздно. Начался отлив, отлив юноша забыл принять во внимание. Встречное течение он не сумел побороть, плыл час и два, выбился из сил и начал тонуть.
О чем думают люди в последние минуты жизни? Мало кому удалось рассказать об этом. Одних страх парализует, а в других вселяет силы, третьи прощаются с милой жизнью, четвертые вопят и судорожно бьются, у иных вся жизнь проходит перед глазами, а иные вспоминают пустяки. Вот Амундсену, когда он лежал под медведем, припомнилась уличная парикмахерская в Лондоне, тротуар, заваленный волосами.
А Шорин, захлебываясь, злился, ругал себя: «Слизняк! Медуза! Усталости не можешь побороть!» Кричал мысленно: «Не смей сдаваться, не смей тонуть, слюнтяй! А еще в звездоплаватели собирался! Позор!»
В общем, он провел в море четырнадцать часов. Приплыл на рассвете, когда волны стихли, продрогший, замерзший, уже больной, с воспалением легких. С пневмонией-то умели справляться на Земле, но памятку Шорин получил на всю жизнь – хронический насморк.
– Пусть это послужит уроком тебе, – сказала потрясенная мать. – Не лезь очертя голову на опасность!
– Пусть это послужит уроком тебе, – сказал учитель. – Не переоценивай своих сил, не надейся на себя одного, не рискуй в одиночку.
А юноша понял урок по-своему. Тонет тот, кто позволяет себе утонуть. Ведь он же не позволил – и остался жив. Никто не имеет права погибнуть, пока не выполнит свое назначение, цель жизни, функцию, как он выражался позже. Вот у него есть функция: стать звездоплавателем, открыть второй разум в космосе, положить начало Всегалактическому Товариществу. И не погибнет он, пока не выполнит функцию.
Герман уверился в своих силах и по окончании школы отправился в Институт астронавтики.
Но неумолимая арифметика встала на его пути.
Миллиард молодых людей кончали школу в том году и двести миллионов по крайней мере мечтали о космосе. А требовалось двадцать тысяч, не более. Из нескольких миллионов, безукоризненных во всех отношениях, превосходно подготовленных кандидатов, институт отбирал студентов, стыдно сказать, по жребию. Но костлявого, долговязого, несколько хмурого парня, по имени Герман Шорин, не было даже среди кандидатов. Его забраковали из-за насморка. Хватало людей со здоровой носоглоткой.
199 миллионов 980 тысяч отвергнутых смирились с неудачей, подыскали себе нужные и интересные занятия на Земле. Шорин не смирился. Он поселился в Космограде, взял первую попавшуюся работу и три раза в неделю обходил все этажи космических управлений, справляясь, не освободилось ли место-любое, самое малоинтересное. Ему отказывали, сначала вежливо, потом с усмешкой, даже со скрытым раздражением, потом привыкли, стали заговаривать, окликать, благодушно подбадривать. Упорство, даже не очень разумное, внушает уважение невольно. И однажды в Санаторном управлении судьба улыбнулась юноше. «Ты сходи в космическую клинику, – сказали ему. – Там сиделки требуются в отъезд».
Сиделками обычно работали женщины, пожилые и семейные. А матери семейства не так уж хочется, бросив дом, мчаться на Луну или на Марс. Шорин был брезглив, совсем не рвался ухаживать за больными. Но если к звездам нет иного пути… Кто знает, похожи ли на людей небожители? Слизистые с присосками щупальца тоже не так приятно пожимать. И Шорин пошел в сиделки.
Так отверженец с хроническим насморком оказался в космосе, и даже раньше тех, кто выиграл это счастье по жребию. И еще крепче поверил он в свою функцию. Явно же: судьба ведет его на звездную дорогу.
Своими глазами увидел он Луну, латунный глобус с круглыми следами, как бы печатями космоса. Был очарован подобно Киму и разочарован немножко подобно Киму же.
Разочарован, потому что и в те времена, четверть века назад, Луна уже была маленьким подобием Земли. И были тут города, и дома, и сады с худосочными цветами, и гостиница, и ванны в двойных номерах.
Уже не Земля и не совсем еще космос. Преддверие, космический вестибюль. Дальше надо идти.
Но опять перед Шориным стояла стена, та же самая – арифметическая.
Примерно сто тысяч человек трудились в те годы на Луне. Из ста тысяч не более ста уходили в дальние экспедиции на край или за край Солнечной системы. Обычно это были заслуженные ученые: астрономы, геологи, физики.
Стать заслуженным ученым? Не всякому целой жизни хватит.
Одну только лазейку нашел Шорин, одну слабую надежду. Иногда в дальние экспедиции, где экипаж бывал невелик, требовался универсал, мастер на все руки: слесарь, токарь, электрик, повар, астроном, вычислитель, санитар, садовод в одном лице, подсобник в любом деле. И юноша решил стать подсобником-универсалом.
Он кончил на Луне фельдшерскую школу, курсы поваров, получил права летчика-любителя, сдал курс машинного вычисления и оранжерейного огородничества, научился работать на штампах и монтажных кранах.
Сначала его обучали с охотой, потом с удивлением, с некоторым раздражением даже («Тратит время свое и наше, спорт делает из учения»), а потом с уважением. Шорин со временем сделался достопримечательностью Луны («Есть у нас один чудак, двенадцать дипломов собрал»). О нем рассказывали приезжим, и разговоры эти дошли до нужных ушей.
В одну прекрасную ночь, лунную, трехсотпятидесятичасовую, молодого полимастера пригласил Цянь, великий путешественник Цянь, исследователь Прозерпины, глубин Юпитера и семидесяти семи астероидов, на которые до него не ступала нога человека.
– Хотите лететь со мной на большую комету? – спросил он.
– Но у меня хронический насморк, – честно предупредил Шорин. – Я не различаю запахов. Любая комиссия меня забракует.
– Космачи по-разному выбирают помощников, – сказал Цянь. – Одни предпочитают чемпионов ради выносливости, другие-рисовальщиков за их наблюдательность. Иные ищут исполнительных, хлопотливо-услужливых, иные – самостоятельно думающих, инициативных, иные считают, что важней всего знания, и выбирают эрудитов. У меня свое мнение. По-моему, в космос надо брать влюбленных в космос. Тот, кто влюблен по-настоящему, сумеет быть исполнительным и самостоятельным, эрудитом, художником и чемпионом.
– Разве каждый может стать чемпионом? – спросил Шорин.
– Если влюблен по-настоящему – станет.
Так случилось, что Шорин второй раз выиграл в лотерее.
Выиграл или заслужил выигрыш?
Что делал он на комете? Все. Готовил обеды увлеченным микроскопистам, помогал завхозу, электрикам, кибернетикам, ходил с геологами за образцами, долбил шурфы, носил лед в термосе, составлял ведомости, надписывал наклейки, хранил банки, укладывал коллекции в контейнеры.
Нумерованные банки, нумерованные камни, нумерованные прошитые листы. Надписывая номера, Шорин вспоминал детские мечты, они казались такими наивными. Сейчас он мечтал об одном: как следует выспаться. Но он знал, что держит экзамен на космонавта. Должен показать себя выносливым, как спортсмен, наблюдательным, как художник, самостоятельным и исполнительным. И Шорин первым брался за самый тяжелый ящик, первым вскакивал, когда вызывали желающих в необязательный и всегда опасный поход, работал всех больше и больше всех задавал вопросов.
А старый Цянь все подмечал. И однажды сказал:
– Хорошо, сынок. Притворяйся и дальше неутомимым.
Шорин был в отчаянии. Значит, Цянь разоблачил его. Видит насквозь усталого, умеренно выносливого, умеренно смелого, среднесообразительного человека с хроническим насморком, пытающегося подражать героям.
Но у Цяня была своя логика. Это выяснилось вскоре.
Экспедиция подходила к концу. Орбита Меркурия оставалась позади. Косматое, непомерно разросшееся Солнце нещадно палило комету. Приближался пояс радиации, небезопасный для космонавтов. Пора было, не дожидаясь лучевых ударов, эвакуироваться с кометы, не досмотрев самого интересного.
И Цянь принял решение: рискнуть, но не всеми людьми. Экспедицию переправить на Меркурий с собранными коллекциями, а на комете оставить дрейфующую партию – четырех человек из сорока шести. Он остался сам, оставил биолога Аренаса, биохимика Зосю Вандовскую и мастера на все руки, притворявшегося неутомимым.
Знал ли Шорин о риске? Знал, конечно. Но в молодости как-то не веришь в возможность собственной смерти. К тому же путешествие на комете Шорин считал только началом пути, предварительной ступенькой – до функции было еще далеко.
Что было дальше, Ким знал и сам. Во всех детских хрестоматиях рассказывается о дрейфе четырех на комете. Они прошли на расстоянии полутора миллионов километров от Солнца – в сто раз ближе, чем Земля. Ослепительный диск разросся на четверть неба, оплавлял камни. Пятна, факелы, даже рисовые зерна были видны без телескопа (через толстые черные стекла, само собой разумеется). Трижды путники спасались от хромосферной вспышки на оборотную сторону кометы. Гигантский протуберанец достал их однажды, комета прошла сквозь полосу воющего огня. Люди отсиживались в узкой трещине, и как раз по этой трещине прошел разлом, ядро кометы лопнуло, разделилось надвое. Три человека остались на одной половине, Вандовская – на другой. Шорин прыгнул руками вперед, подхватил растерявшуюся женщину, перекинул через пропасть, перебросился сам.
Нет, романтическая любовь к спасителю не возникла, Зося любила Аренаса, потому и осталась с ним на комете.
Комета, видимо, никогда еще не проходила сквозь протуберанец, все скалы до единой растрескались, оплавились. Люди уцелели благодаря скафандрам, но был потерян дом, припасы, коллекции, все запасы, кроме неприкосновенного в скафандрах семидневного рациона воздуха, воды и пищи. Радиосвязи не было: Солнце нарушило радиосвязь, и люди Земли, глядя на двойное яркое светило, гадали, на котором из них будут обнаружены обуглившиеся трупы. Ракета с Меркурия шла наугад к той половине ядра, которая двигалась быстрее и вышла вперед. Цянь с товарищами находились на другой. У них кончилась пища, кончилась вода. Они сидели неподвижно, стараясь дышать пореже: экономили воздух. Было решено: Цянь и Аренас отдадут свой кислород женщине и юноше, Шорин ушел тайком от них. Он помнил все маршруты, надеялся на каком-нибудь разыскать баллоны, не выдышанные до дна. Он был уверен в успехе, ведь до функции было еще далеко. И действительно, нашел кислород еще на три дня.
К концу третьего дня их сняли с кометы.
Шорин стал знаменитостью наравне с Аренасом и Вандовской. Он читал лекции, диктовал записки, делился воспоминаниями. Мог свернуть на легкий путь мемуариста, мог отправиться в любую экспедицию на выбор: его приглашали наперебой. Но Шорин воспользовался своей славой, чтобы овладеть еще одной специальностью – стал летчиком-испытателем фотонолетов.
До тех времен космическая энергетика была ядерной. Ядерные двигатели давали скорость до пяти тысяч километров в секунду, вполне достаточную для путешествий к любой планете, но не к звезде. Даже до самой ближайшей звезды термоядерная ракета шла бы двести пятьдесят лет. Межзвездникам требовались скорости, близкие к скорости света, их могли развить только фотонолеты, любое вещество превращавшие в лучи.
Но лезвие Нгуенга, открытое в те годы, как раз и разрушало любое вещество, превращая его в лучи.
Правда, Шорин не мог знать заранее, когда идея превратится в ракету: через год или через сто лет?
Испытания продолжались восемнадцать лет.
Шорин жил на Ганимеде, на опытной базе, летал в пустоте, подальше от планет, подальше от трасс, не в плоскости Солнечной системы. Фотонолет был капризен и кровожаден, как древний мексиканский идол: он пожирал испытателей одного за другим. Иногда распад управляемый переходил в самопроизвольный, тогда аппарат и летчик кончали секундной вспышкой. Часто сбивался режим расщепления, вместо безвредных заданных лучей получались рентгеновские, и летчики гибли из-за лучевой болезни, или зеркало плавилось, или возникал резонанс, и фотонолет рассыпался; испытатель неожиданно оказывался в пустом пространстве, на кресле и среди звезд.
Шорин был на волосок от смерти не раз, но остался цел. Сам он был уверен, что не погибнет, не имеет права взорваться, не выполнив функцию. Весь космос посмеивался над чудаковатым суеверием знаменитого испытателя, а может, не стоило посмеиваться? Ведь в самые грозные и опасные секунды Шорин никогда не думал: «Прощай, милая жизнь, прощай Земля!» И не тратил мгновения, искал, что предпринять, предпринимал что-то. Конечно, уверенность прибавляла ему шансы на спасение. Не для того копил он мастерство, чтобы разлететься на атомы.
Постепенно фотонолеты становились все надежнее и все мощнее. Они развивали необыкновенные скорости и требовали необычайных полигонов. Вся Солнечная система оказалась тесной для испытаний. И когда появилась субсветовая (приближающаяся к скорости света) ракета, ее пришлось опробовать в звездном полете от Солнца к Альфе Центавра. Все равно, чтобы разогнать ее до скорости света, провести испытания, а после этого затормозить, требовался отрезок в два световых года. А до Альфы четыре с небольшим.
Гигантская остроносая башня выросла за лунной орбитой, в стороне от планет, в стороне от планетных дорог. Наконец подоспел день старта. Экипаж занял места. Аренас (бывший участник дрейфа на комете был командиром в этой экспедиции) нажал кнопку. Зеленое пламя заклубилось под зеркалами, подняло башню на своих плечах, кинуло ее к южным звездам. Второе зеленое солнце вспыхнуло на земном небе, Луна стала зелено-черной, как малахит.
А через два часа Луна превратилась в серп, а через день – в звездочку рядом с другой голубой звездой, поярче – с нашей Землей. А через месяц в звезду превратилось и Солнце. Корабль остался наедине со звездной пустотой.
Начались межзвездные будни. Тридцать три человека – крошечный мирок. Привычные лица, режим, расписание, однообразие. Основное занятие – астрономия, Звезды впереди, звезды позади, звезды сбоку. Изменения ничтожны, почти неприметны. Впереди созвездия чуть-чуть раздвигаются, позади чуть-чуть сдвигаются, но только телескопу заметна разница. Да еще меняется цвет звезд: впереди красные становятся желтыми, сзади желтые краснеют. Чтобы приблизиться к скорости света, разгоняться надо год. Год разгона! А первые лунные корабли набирали скорость за пять-шесть минут.
Ускорение нормальное, и тяжесть нормальная. Двигатель режет частицы, лучи отталкиваются от зеркала, скорость растет: через месяц – двадцать пять тысяч километров, через два месяца – пятьдесят тысяч, через четыре – сто тысяч, треть скорости света.
И тут возникло препятствие. Нельзя сказать, непредвиденное. Оцененное неправильно.
Просторная межзвездная пустота не абсолютно пуста. Там встречаются отдельные редкие пылинки и отдельные молекулы. Для термоядерных ракет они практически безвредны. Но энергия пропорциональна скорости, да еще в квадрате. Фотонолет налетает на каждую частицу со скоростью света. Для него блуждающий атом превращается в космический луч, каждая пылинка – в ливень космических лучей. Невидимый газ разъедает металл, как вода сахар. За полгода трижды меняли острый нос корабля: кристаллическая сталь превращалась в губку.
А потом на пути встретились неведомые газовые облака.
Увидеть их заранее было невозможно. Газа там было меньше, чем в земной атмосфере, меньше, чем в кометном хвосте, меньше, чем в лабораторном вакууме, и все же в миллион раз больше, чем обычно в межзвездном пространстве.
Фотонолет вошел в газ со скрежетом и барабанным боем, наполнился лязгом и гулом, как старинный котел при клепке. Носы пришлось сменять ежедневно, запас их был исчерпан вскоре. Над разъеденными бортами показались дымки. Вода испарялась, пропадало топливо.
И предпринять ничего нельзя. Нельзя обойти облака космического размера и нельзя затормозить, чтобы смягчить удары. Корабль разгонялся четыре месяца, значит, и тормозить должен был четыре месяца. Инерция влекла его вперед. Оставалось только надеяться, что облака кончатся вскоре.
Фотонолет пробил их через три дня. Но удары сделали свое дело. Вода стала радиоактивной. Очистить ее было невозможно и вылить невозможно. Ведь она служила топливом, от воды зависело движение, возвращение, прибытие. Приходилось жить рядом с заразой, под обстрелом невидимых лучей, разивших из-за каждой стенки.
Сначала заболели нежные приборы – слаботочные, полупроводниковые. Начали путаться вычислительные машины. Кончился период однообразного спокойствия, теперь работы хватало всем: приходилось проверять показания каждой стрелки и глаз не спускать с двигателя. Ежесекундно он мог подвести-дать толчок на сто «ж», и конец. Мгновенная стократная тяжесть – и люди раздавлены, как под прессом.
За приборами сдали и люди. В корабль пришла лучевая болезнь во всем ее противном разнообразии: тошнота, рвота, потеря аппетита, белокровие, малокровие, гнилокровие. Шорин заболел из первых – ему сменили костный мозг. Потом заболел Аренас, потом оба геолога – муж и жена. Хирург объявил, что операции придется делать всем по очереди. Потом заболел он сам… сам себе пилил кость под местным наркозом. Больные ждали, пока он выздоровеет, встанет на ноги…
И в больничной палате, куда переселилась добрая треть экипажа, Аренас созвал совещание.
Лететь или вернуться?
– Вперед! – сказал Шорин. – Мы долетим до первой планеты и сменим воду. Три солнца, десятки планет, на какой-нибудь – разум, нам окажут помощь…
Но лететь вперед предстояло еще почти три года, а вернуться возможно было за год. И никакой уверенности ее было, что у Альфы есть планеты с водой, не говоря уже о разуме.
Решено было вернуться. Тридцатью двумя голосами против одного.
Аренас приказал тормозить. Хочется сказать: «Приказал поворачивать к Земле». Но фотонолет не умеет поворачивать сразу. Прежде он должен снять скорость.
Треть года на торможение, потом следует поворот, треть года опять набирается скорость, и еще четыре месяца идет окончательное торможение перед прибытием в Солнечную систему. В общей сложности год провели звездолетчики возле бака со смертоносной водой. Год прожили люди под угрозой. Семеро вернулись калеками, четверых похоронили… сына Аренаса в том числе, молодого парня, способного, многообещающего математика. Остальные…
Нет, не сошли с ума. Остальные привезли проект.
Все были авторами. Но, пожалуй, идею подсказал Шорин – его воспоминания о дрейфе на комете. Тогда, оседлав комету, люди совершили путешествие вокруг Солнца, сквозь корону и протуберанцы. «А не стоит ли и к чужим солнцам лететь на небесном теле, на каком-либо астероиде?» – такая возникла мысль.
Воды на астероидах нет. Там камни, железо, никель. Но железо и никель состоят из тех же частиц: протонов, нейтронов, электронов. Их тоже можно резать, превращать в лучи, лучи отражать зеркалом. Правда, жидкую воду удобнее распределять, регулировать подачу ее в двигатель. Но, в конце концов, и железо возможно сделать жидкостью, расплавить, затратив некоторую толику энергии.
Зато какая защита от радиации: выбирай астероид в километр радиусом! Будет километровая броня из железа.
Конечно, корабль-астероид громоздок. Вес фотонолета тысячи тонн, вес астероида – миллиарды. Но зато весь он сплошное топливо. Вода нуждается в баках, стенки баков – мертвый груз. А если топливо-железо, оно само себе бак. Весь астероид – полезный груз. Он может весить в миллион раз больше, чем экипаж со всем своим багажом. Его можно подогнать вплотную к скорости света, в десятки раз увеличить массу, в десятки раз укоротить время. Нет сомнения: дальние звездные полеты можно совершать только на астероидах.
Целый год всем экипажем составляли проект. Четверо заплатили за него жизнью, семеро – здоровьем. Но когда установилась связь с Землей и на экране появились впервые лица земляков, сгорбленный и облысевший Аренас доложил: «Мы возвращаемся разбитые, но с планом победы».
И вот второй год шло обсуждение плана. Нет, не был он принят единогласно, к удивлению Шорина. Ведь не все люди на земле бредили космосом. Были противники дальних странствий, неудача фотонолета прибавила им доводов. Они говорили: «Человек рожден для жизни под Солнцем. Солнечной системы нам хватит на тысячи и тысячи лет. Бессмысленно швырять трудогоды в пустоту».
– Но мы привезем знания, – напоминал Аренас.
Даже так им возражали: «Вы ищете легкий путь. Человечество добывало знания упорным трудом, каждый шажок оплачивало потом и кровью. Вы отвлекаете людей от последовательной работы, маните их азартной надеждой на чужие готовенькие открытия».
Аренас говорил:
– Читайте историю. Народы никогда не гнушались учиться друг у друга. Нет нужды сто раз открывать интегралы, если они были уже открыты когда-то.
А каково было ему спорить, когда его собственная жена говорила, утирая слезы перед экраном:
– Преступно рисковать тридцатью жизнями. Нет ничего дороже человека. Прежде чем лететь, надо обеспечивать безопасность. Кто ответит за тридцать жизней? Нельзя превращать научные исследования в коллективное самоубийство.
Шорин отвечал ей вместо поникшего Аренаса:
– Зося, мы уважаем твое горе, но ты неправа. Риска нет лишь там, где все известно заранее. В конце концов, мы взрослые люди. Мы согласны рискнуть, если надо отдать жизнь.
В глубине души он был уверен, что жизнь отдать не потребуется. Ведь функция еще не выполнена.
А пока шло обсуждение, экономическое и техническое, он отрабатывал, как полагается гражданину, месяцы «неинтересной» работы на Луне: возил группу Альбани… вплоть до катастрофы.
– Ну, посуди сам, – так закончил Шорин, – могу я погибнуть здесь в пещере как дурак? Чтобы Шорин погиб на Луне! Смеху на весь космос!
Он рассказывал свою историю гораздо подробнее, с многочисленными, даже ненужными, деталями. Возможно, нарочно тянул время. Слушая с закрытыми глазами, Ким задремал в середине, но рассказчик ничуть не обиделся.
– Ну и отлично, – сказал он. – Когда спишь, часы бегут проворнее.
– Ну и отлично, – сказал он в следующей паузе. – Когда спишь, есть не хочется…
Они выспались, поспали еще и еще подремали, в конце концов устали ото сна. Даже в темноте глаза не закрывались больше. Автобиография Шорина была исчерпана.
– Теперь ты расскажи о себе, – сказал летчик. – Функция твоя в чем?
Но функции не оказалось у Кима. Он мечтал быть пятиконечным, быть хорошим студентом, профилактиком, не хуже других. «Не хуже» – это не функция. Подготовка к жизни была – жизни еще не было.
– Ничего, у тебя все впереди, ты можешь даже звездолетчиком стать, – сказал Шорин с глубоким убеждением, что его функция лучшая из лучших. – Некоторые данные есть у тебя: скромность, терпение. Вижу твое терпение, знаю, как болит вывих через полдня. И профессия подходящая – врач. Вторая еще полезнее – ратомическая.
Хватило времени обсудить, подумать, помечтать. Ким представил себя под чужим солнцем, среди неких существ – зеленокожих и лупоглазых. Но не переоценил ли Шорин его терпения? Годы, годы и годы пути. Сутки еще не прошли, и то терпение лопается.
– Который час?
Прошло, оказывается, только двадцать часов. Меньше суток.
– Спи, Ким, спи! Не спится? Поищи снотворное в левом кармане. Когда спишь, кислород экономится.
– Разве нам нужно экономить?
Шорин заворочался, откашлялся, помедлил.
– Ладно, – вымолвил он наконец. – Мы же взрослые люди. Воды нам хватит, наскребли в Гримальди. Еды мало. Но это не главная беда. Человек не умирает от голода за две недели. А вот кислорода на шесть суток, тут никуда не денешься. Потому я и не хотел сидеть, ждать утра. Надеялся: добежим.
Ким привскочил даже:
– Бегите сейчас же. Один вы успеете. Я во всем виноват, без меня вы спаслись бы…
– Ну нет, браток, так в космосе не поступают. У нас товарища бросать не принято.
– Вспомните, у вас же функция не выполнена. Оставьте меня.
– Поищи снотворное в левом кармане. Ну! Приказываю.
Ким подчинился. И даже заснул, к удивлению, судя по тому, что время как-то перескочило на шесть часов сразу.
Сон, однако, не принес бодрости. Кисло было во рту, все сильнее болела лодыжка, голова налилась мутной болью, рот пересох, а вода не освежала. В скафандре было жарко, как в бане. Едва ли скафандр был виноват, вероятнее, у самого Кима начался жар.
– Потерпи, сынок! Вторые сутки пошли. Уже разыскивают нас.
Черная явь путалась с отчетливыми снами. Нога все росла, росла, заполняя болезненной опухолью скафандр, растягивала его, выпирала из пещеры наружу. А снаружи было небезопасно. Там крутился огненный аркан, захлестывал горы, и срезанная, словно бритвой, скала, сверкнув полированной гладью, рушилась… на ногу Кима. Скрипя зубами от боли, он силился вытащить придавленную ступню.
– Осторожнее, черт! Куда тянешься? Скафандр лопнет.
Вновь и вновь, захлестнув скалу, огненный аркан режет камень. Скала рушится с лунной медлительностью. Ким старается выдернуть ногу, но сил мало, и ступня, громоздкая, неповоротливая, ворочается еле-еле. Скала все ближе. Хрясь! Опять на больную ногу. Другая скала нависла над грудью. Давит, давит, нечем дышать. Только к губам тянется холодная струйка воздуха.
– Глотни, еще глотни, не стесняйся!
Шорин возится со шлангом, дарит кислород из своих скудных запасов. Бормочет расстроенно: «Экая незадача! Где тонко, там и рвется! И ночь, и голод, и жар! Откуда жар?»
– Дифтерита наглотался, наверное, – шепчет Ким.
– А, очнулся? Дыши, дыши еще!
Безвольный, как тряпка, весь в липком поту, Ким дышит, слишком слабый, чтобы шевельнуться.
– Часов… сколько?
– Да я уж думаю, недолго ждать. Вероятно, возились у лунолета, раскидывали обломки, искали нас с тобой. Не сразу заметили след. Но сейчас, конечно, уже запущены «ищейки». Эти найдут обязательно. Скоро! Уже шестые сутки пошли.
– Шестые сутки? Последние!!!
Сил не хватает, чтобы удивиться и испугаться. Но Ким понимает: если пошли шестые сутки, значит, помощь запаздывает. И вполне возможно, что их не найдут до утра, не успеют спасти.
– Слушай, Ким, дружок, пока ты очнулся, ну-ка, повтори еще раз, как это у вас называется? Невидимый кабель, да? И в нем сохранились сигналы? Сохранились, потому что кабель закрутился кольцом? Замкнутый кабель – подобие ленты магнитофона. Так?
При робком свете лобового фонарика Шорин пишет что-то в записной книжке. Потом царапает на камнях. При этом приговаривает: «Эти ищейки хуже улиток. Шесть суток им в самый раз. С минуты на минуту можно ждать. Ты, друг, не падай духом. Человек не гибнет, пока он духом не упал. Пока не выполнена функция…»
Ким слишком слаб, чтобы спорить, но он понимает, что Шорин и сам не очень верит в функцию сейчас. Если бы верил, не писал бы завещание с сообщением о последнем открытии Альбани, человечеству пока неизвестном.
– Как в магнитофоне, – приговаривает Шорин. – Записывать можно все: книги, пищу, кислород… все, кроме живых людей… К сожалению… Нам бы с тобой очень пригодилась такая запись…
А может и вся функция Кима в том, чтобы донести до людей идею Альбани? Записка составлена – и функция выполнена. Конец. Грустно и обидно покидать жизнь, почти не начавши.
Ким кусает губы. Влажно становится возле глаз.
Шорин кряхтя царапает скалу у порога и бормочет:
– За нами придут вот-вот. С минуты на минуту. Ясно как дважды два. Чтобы Шорин погиб на Луне? Смеху на весь космос!