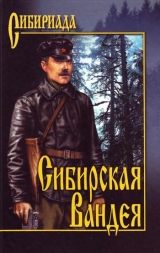
Текст книги "Сибирская Вандея"
Автор книги: Георгий Лосьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
V
Перед сельским собранием Иннокентий Харлампиевич заглянул в комячейку. Председатель ячейки Новоселов шагнул навстречу:
– Харлампыч!.. Слава богу – цел воротился!.. Заходи, садись. Беседовать будем.
Долго тряс дружески обе руки. Радушно усадил за стол, и все члены ячейки тоже радовались благополучному возвращению первого беспартийного активиста-партизана.
– Садись, садись, Харлампыч!
– Хорошо, что заглянул к нам.
– Дело прошлое, Накентий: крепко мы за тебя опасались…
– Да пошто? – удивился активист. – Кому я соли насыпал?… Кто противу советской власти пойдет? Кому жизнь надоела? Аль забыли партизанскую армию Игната Громова?…
– То-то, что не все всё помнят, – вздохнул Василий Павлович Шубин, – есть еще… – он взглянул на Новоселова. – Показать Седых городскую бумагу-то?…
– Кажи! – радостно сказал председатель. – Давай ее сюда. На, читай, Накентий Харлампыч.
Секретарь ячейки достал из старенького портфельчика и положил на столешницу, покрытую куском кумача, небольшую служебную бумажку с лиловым штампом в левом углу:
– Малограмотный я, – сконфузился активист Седых, – по крупному читать еще кой-как могу, а по мелкому – восподь не умудрил…
Члены партячейки рассмеялись.
– Эх ты, а еще вахмистром служил! – укоризненно сказал предревкома товарищ Предтеченский.
– Дык это ж при царе-косаре… А чему нас учили – сами знаете. «Отче наш иже еси на небеси…» да как царских дочек звали…
Снова посмеялись. Предтеченский стал читать вслух:
«Приказ начальника гарнизона города Новониколаевска о борьбе с врагами Советской власти
18 февраля 1920 года
Сибирская контрреволюция, вдохновляемая и возглавляемая Колчаком и царскими генералами, опиравшаяся на продавшиеся чехословацкие штыки и золото Антанты, под железными ударами Рабоче-Крестьянской Красной Армии быстро сдает свои позиции и с роковой быстротой приближается к неизбежной гибели.
…Но буржуазия не хочет отказаться от своих привилегий…
В то время, когда наиболее честные и сознательные элементы отдают все свои силы на восстановление разрушенного хозяйства, буржуазия и ее приспешники… начинают творить грязную, преступную работу для достижения своих замыслов.
…Буржуазия с каждым днем становится наглее и беззастенчивее в средствах: за последнее время ее агенты ведут открытую и злостную агитацию, широко распространяют провокационные слухи…
Здесь, в Сибири, где молодой Советский организм еще не окреп, мы должны быть особенно внимательны к своим врагам…
…Достигнув успехов, пролетариат объявил милосердие к врагу, отменивши расстрелы – красный террор.
Но пусть не забывают наши враги, что Советская власть не будет церемониться с теми, кто встанет на ее пути…
Все мерзавцы и негодяи, все предатели, шпионы и провокаторы, которые будут широко агитировать против Советской власти… будут расстреливаться без всякой пощады.
Подписал начальник гарнизона Атрашкевич.
Предтеченский кончил и вопросительно посмотрел на Шубина:
– А вторую читать?…
– Не нужно, – махнул рукой волвоенком, – и так уже по всему селу звон идет. И Седых, должно быть, слыхал.
– О чем это? – насторожился Иннокентий Харлампиевич.
– Уком упреждает… Банда Самсонова вышла из лесов на Пихтовский тракт. Убили бандиты партийцев Трошина и Прохоренку. Животы распороли…
– Слыхал! – сказал Седых. – Слыхал, как же… А правда это? Может, так, для острастки пишут…
– Нет, браток… правда.
– Ну, бог милует…
– То-то, что не милует… Вот и от штаба ВОХРа прислали бумажку, предлагают всем сельским коммунистам и комсомольцам установить ночные обходы, оружие держать дома, под рукой и в полной исправности…
– Во, как дело-то обертывается… – сказал Андрей Николаевич Предтеченский и густо, с надрывом закашлялся.
– Простыл, Андрюха, – сочувственно произнес Седых. – Ты вот чо… пошли свово парнишку ко мне. Я тебе – медку… Ишо водится у меня. Когда партизанили мы, я страсть сколь меду на раненых перевел. Однако многих выпользовал медком-то… И еще – остался. Посылай с туеском…
– Спасибо, Харлампыч, – прокашлявшись, ответил Предтеченский, – меня и так товарищи поддерживают…
Седых нахмурился.
– А я что же: тебе не товарищ?…
– Что ты, Харлампыч? – укоризненно покачал головой Предтеченский. – Ведь я к примеру. Ты человек многосемейный – самим нужно…
– А ну их к ляду! Семейство-то мое! – вдруг озлился Седых. – Одна маета с ними! Ни богу свеча, ни бесу кочерга! Расшиби их громом напрочь!
Ячеишные расхохотались.
– Чего ты на свое племя серчаешь? – спросил старый партизан Михаил Петрович Жихарев. – Али не угодили чем? Ты ить своенравный, на те угодить трудно…
– Да каки теперь угождения!.. А так: кто в лес, кто по дрова, живут, идолы, ни туды ни сюды. Порядку нету… Одна энта моя Егова православная, троеперстник, язви его…
– Никола, что ли?…
– Ну… Как с попом Раевым связался, так, видишь, и советская власть ему не мила стала… Ужо обратаю орясину, пошли бог силы. Так обратаю, что перья полетят!..
– Нельзя, Харлампыч, – наставительно сказал Предтеченский, – бить – это всякий умеет. Воспитывать нужно… Ты как отец… на-ка вот возьми книжечку. Насчет православия тут очень даже правильно говорится…
Седых заложил брошюрку за кушак.
– А у тебя, Накентий Харлампыч, самого-то… как с религией? – спросил Новоселов. – Все еще не могёшь расстаться?
Седых, помолчав, высморкался. Ответил на спеша, обстоятельно и вразумительно:
– Такое дело, дорогие мои товарищи партейные… такое дело: вера вере – рознь. Она, стара вера-то, кержанска – правильна… Я хоть старый мужик-гужеед, а скажу тебе так: кто супротив проклятова царизму до-прежь всяких ривалюций воевал? А ну, спомни, дорогой товарищ… Старого обряда люди. В скиты уходили, попов-жеребцов, поставленных анпираторами всякими, керженцы не миловали… Завсегда противу войны шли, детушек на убой не давали, самосжигали себя… Думаешь, так просто, за двуперстие? Н-н-нет, гражданы, – за правду боролись! Вот, как и вы теперича – за правду истинную!.. А кто себя чином соблюдает? Опять же мы, керженцы. Это иде ж вы видели, штобы старова обряду мужик на руку был нечист? Штоб сельчанам пакостил?… Сроду не бывало такова. А православные – жулье народ, того и ждут – напакостить. И рядовой, так сказать, мирянин, и дьякон, и поп. Лиходеи, мздоимцы!.. А кто Колчака с хоругвями встречал? Дружины святова креста кто на селах ставил? Опять же православные. А керженские людишки, между прочим, в тайгу с дрекольем уходили, господина Колчака рублеными гвоздями из самопалов потчевали, губили супостатов народных… Вот и выходит, што старая вера у советской власти вроде как кореннику пристяжная. Чуешь, Ваня, чо к чему? А коснись какая сволота, вроде того же Самсонова, на нашу, советскую, хвост задерет – кто же с вами будет, дорогой товарищ Новоселов? Полагаешь, поди, православные?… Э-э-э, не-е-ет!.. Православные по норам забьются, в кусты схоронятся. А мы, кержаки, будем с вами. Мы себя раз оправдали и вдругорядь оправдаем… Так-то!..
Коммунисты слушали с интересом. Приезжий гимназист-комсомолец наклонился к соседу.
– А ведь в этих словах много простой мужицкой правды…
Но сосед, не отрывая взора от распалившегося старика, буркнул:
– Дури много!.. И чего только с ним ячейка цацкается… – комсомолец не договорил и возмущенно плюнул в открытую печку.
Иннокентий Харлампиевич продолжал:
– А что касаемо, вы читали тут насчет энтова… Самсонова – я прямо скажу: не ровен час, конечно; иной раз и спишь, а такое выспишь, и не думал, не гадал, – вышло! Однако – бог не выдаст, свинья не съест. И еще так полагаю – много лишнего болтают. Да какой он, Самсонов то ись? Что за человек и какого виду?… Ну уж, если бы встрел – я бы его благословил! Топор-то завсегда при мне, куда ни поеду!
– Бывший есаул, – пояснил Новоселов, – казак. В городу мне говорили: организатор. И человек… суръезный. Родному отцу пощады не даст.
– Да с виду-то каков, обличьем? – не унимался Седых. – Кабы я его повидал, только бы и жить его благородию!..
Коммунисты снова посмеялись над ершистым старцем, а Жихарев заметил:
– Брось трепаться, кержак!.. Ежели и доведется перевидеться с господином Самсоновым – первый под куст залезешь! Знаю я вас, храбрых да геройских мужиков…
Седых посмотрел на Жихарева взглядом, полным глубокой укоризны.
– Грех тебе молвить такое, Михаил Петрович!.. Али я с тобой в отряде не был? Али не ходил на старости лет в тайгу с дробовиком беляков бить? И, может, не я на обоз чехословацкий напал и две подводы пригнал в отряд?…
– Было… Было и такое, – кивнул Жихарев, – и такое было: под Камнем дали нам беляки жару – где я тебя нашел, храбрый партизан? Молчишь? То-то, герой!.. – Жихарев обвел взглядом собравшихся и опять остановил глаза на Иннокентии Харлампиевиче. – Чо, застеснялся, храбрый драгун?… Ладно уж, не выдам, не скажу, где я тебя нашел, когда остатки отряда собирал после той бани…
Бывшие партизаны поугрюмели. Кто-то недовольно бросил:
– Да ладно уж, Жихарев!.. Чево старое ворошить?… Аль и у тебя запасных портков не было?…
Новоселов сказал примирительно:
– И впрямь, братцы, чего вспоминать?… Били нас, били и мы. Однако мы, все ж, больше беляков били, а то не сидели бы сичас здесь под красным флагом… А Накентия Седых мы все знаем – свой человек, вояка. Ежели когда и отпраздновал труса – с кем грех да беда не случается?… Да к тому же с безоружным… Чо мы, не знаем, что в тот день, когда беляки нас от Камня поперли, у нас на роту по десятку патронов было… Тут уж не до геройства!.. Да. А ты все ж, Накентий Харлампыч, стерегись. Случаем чево – бандиты не помилуют…
Начальник волостной милиции, веселый русоволосый парень, спросил:
– А не выдать ли ему винтаря, Новоселов?… Так, на всякий случай.
Седых замахал руками.
– Этта спасибо за веру-доверие. Только ни к чему. У меня дробовик добрый. Шестнадцатова калибра – бьет на семьдесят шагов.
– Дробовик, Накентий, – полдела. Ты все ж таки когда наладишься куда в поездку, прихватывай в милиции винтовку. Выдавай ему «посошок на дорожку», – подмигнул начмилу Новоселов.
Потом полушепотом спросил Иннокентия Харлампиевича:
– Разговор-то о хлебе на дороге не забыл?…
– Сказано – сделано…
– Спасибо, Харлампыч. Сочтемся. За советской властью не пропадет. А теперь вот что: собрание по вопросу о хлебосдаче назначено было на сегодня, да мы решили отложить. Завтра будем проводить… Так уж ты не подкачай…
Седых уверил председателя комячейки, что ни в жисть не подкачает, и осведомился: не следует ли кого из местных жителей предварительно поагитировать?
Новоселов обрадовался:
– Сделаешь, Накентий? Золотой ты у нас человек!.. – И сказал, кого надо поагитировать, кого постращать.
Седых попрощался с Новоселовым «по ручке» и весело зашагал к дому, а председатель ячейки объявил:
– Начнем заседание бюро ячейки совместно с активом…
Говорили много, нескладно и горячо о делах своей коммуны, торчавшей одиноким островком среди глубокого моря темноты, невежества и крестьянской алчности…
Потом сделал доклад о хлебосдаче приехавший с комсомольским продотрядом член Упродкома.
VI
Ночью того же дня в просторный двор земской больницы просочилась человеческая фигура: прижимаясь к надворным постройкам, неслышно и невидимо, поднялась на крылечко флигеля, в котором квартировал глава колыванской интеллигенции доктор Соколов.
Пришедший стукнул в дверь условно: три коротких и еще три коротких.
В эту ночь в докторской квартире собрались члены местного кружка спиритов: Михаил Дементьевич Губин, гильдейский купец; прасол-конеторговец Васька Жданов; купец-бакалейщик Василий Иванович Базыльников; кулак Сенцев и другие столпы колыванского общества.
В комнате было темно – окна закрыты наглухо ставнями и завешены больничными одеялами. Лампа в гостиной погашена, и лишь перед хозяйкой квартиры мерцала восковая церковная Свечка в древнем бронзовом подсвечнике с одутловатыми литыми амурами.
Сам доктор Соколов, накануне переведенный по личной просьбе в соседнее село Вьюны, не мог присутствовать на сеансе: был занят подготовкой к переезду на новое место.
Сеанс вела гостившая в Колывани родственница супруги доктора, Елизавета Николаевна Миловзорова, таперша электротеатра «Диана», ныне отданного под столовую ЕПО – ту самую, в которой партийный и комсомольский актив города Новониколаевска ел суп «кари глазки».
Елизавета была тощей дамой – нервной, пугливой и истеричной.
На круглом столе, с которого сняли бархатную скатерть с позументами и неизбежные толстенные альбомы, семейные реликвии, – лежал большой лист бумаги, разграфленный радиусами. В радиусы были вписаны буквы алфавитов – русского, с твердым знаком и с ятем, и латинского (предполагалось, что некоторые духи из иностранцев не смогут общаться с медиумом на русском языке).
По кругу скользило блюдечко со стрелкой.
Над блюдечком парили сцепленные мизинцами и большими пальцами руки спиритов.
В полумраке блюдечко описывало круги по бумажному листу, и когда стрелка останавливалась на алфавите, все жадно записывали выпавшую букву.
Таким образом получались слова и словосочетания.
В ту ночь вызывали дух расстрелянного царя Николая Второго.
Николай не замедлил явиться.
Он сказал при помощи блюдечка: «Тяжко народу, тяжко… освободите, освободите, освободите…»
Супруга доктора всхлипнула, а медиум – таперша – разрыдалась и забилась в истерике. Сеанс прервали, но лампу решили не зажигать… В этот патетический момент и послышался троекратный стук. Докторша пошла открывать. Вернувшись, наклонилась к уху купца Губина:
– К вам, Михаил Дементьевич… Я провела в кабинет мужа.
Губин позвал Базыльникова:
– Айда со мной…
Оставшиеся продолжали сеанс.
В кабинете за докторским столом сидели Губин и Базыльников, слушали доклад Иннокентия Харлампиевича, изредка переспрашивали, уточняя или вставляя реплики.
Был купец Губин грузен, угрюм и злобен. А бакалейщик Базыльников – тощ, смиренен и голос имел елейный…
– Деньги у ихней гарнизации есть, Михал Дементьич, – докладывал Седых, – да и не малые. Ентот полномоченный по школам-то, не сходя с места, Самсонову пять тыщ лично отвалил, да на отряд еще сорок тыщ посулил…
– Не брешешь? – подозрительно спросил Губин. – Сам видел?
– Пес брешет, Михал Дементьич, а я самолично очевидцем… И все серебром. Была и золотом малая толика… На моей подводе до Седовой Заимки везли… А там Самсонова поджидали евонные таежники-вершные. Как бы сказать – конвой. Увезли разбойнички денежки в свое логово…
Седых с глубоким сожалением вздохнул. Губин мерзко выматерился – не под стать старику, а Базыльников осенил себя крестом и прогнусавил:
– Не след жалеть-то деньги… Эх, все суета сует и всяческая суета! Помрем – с собой не прихватим. Ни к чему…
– Помолчи, христосик! – грубо оборвал дружка Губин. – Ну, до чего договорился с этим «капиталистом»?…
– А договорились так: начнем в сентябре. После уборки, стал-быть. Примерно к семнадцатому числу: «Веру, Надежду, Любовь и матерь иху Софью». Так и велел господин Рагозин…
Губин скрипнул зубами. Несколько раз сжал и разжал огромный волосатый кулак.
– Велел! Выходит, опеть под началом стрекулистов ходить?! Опеть есерешки командовать станут нашим братом?!.
– Вишь, Михал Дементьич, – покачал головой Иннокентий Харлампиевич, – оно, конечно, разлюбезное дело самим решать, да ить тут не одна Колывань наша… Инструктор сказывал, всюе Сибирь подымаем: Семипалатный с казачками и Кустанай, и томские, и кузнецкие, и мариинские… А паче всего – алтайцы. Там народ дикий – их куда хошь можно обернуть. Еще сказывал господин Рагозин: иркутские комитетчики уже к японцам своих людишек отправили. Сговариваться… Чтоб, значит, вместе…
– Послали! – саркастически хмыкнул Губин. – Послать можно, а вот как доедут? Иркутская Чека – штука сурьезная… Слыхал, поди: его превосходительство Колчака-то – тю-тю!.. На размен и в пролубь…
– Ан и наши не безголовые, – заметил Вазыльников.
Собеседники помолчали. После паузы Губин спросил недоверчиво:
– Говоришь, способная эта городская… гарнизация?
– Я так полагаю, Михал Дементьич… Так я думаю, что в ихней руке уже нонче пять, а то и все десять губерний.
– Все может быть… Может, и десять, а может… хрен да редька, видимость одна. Мечтания. Вот что неладно, Седых: Красная армия к нам никак нейдет… Благородия наши – Комиссаров да Некрасов уже вновь подъезжали и в сорок шестой полк и к военкоматским… Пустой номер, а начгар – губвоенком Атрашкевич брякнул приказом. Чтоб вообще нашего брата – к ногтю… Понял?… Псина!.. Даром что сам из офицерей… Об армии-то энтот… Рагозин ничего не сказывал?
– Нет. Не толковали об армии… Денег, ежели ты как председатель повстанческого комитета, Михал Дементьич, сам попросишь, – посулил. Сто тысяч сулился отвалить… Какими хошь – хошь японскими, хошь мериканскими… У них всякие есть. У них дело поставлено!
– Сто тысяч?… Брешет есерешка! У есеров на посуле, как на стуле!.. Ну, ладно. В другой раз скажи ему: мы люди не гордые – примем. А струменты привез, как было ранее оговорено?
– Десяток японских арисаков. Пулемет ручной, шош. Патронов два ящика, японских, да еще русских. Цинка.
– Негусто патронов…
– После распутицы «максим» пошлют. Разобратый. Надо б нам из своих пулеметные расчеты приготовить… специалистов. Велено оружие отвозить на баржу Крестьянычу. Там и проволока колючая завезена…
– Знаю… В ячейке-то побывал у своих дружков? Что они? Зачем комсомольцев привезли? Опять грабить народ?
– Известно дело, Михал Дементьич, – продотряд…
– Список коммунистов отдал Рагозину-то?…
– Так точно… собственноручно приняли, а вот новый список, Михал Дементьич… Это мне Ваньша Новоселов сообчил, которых они прижать покрепше решили. Наших.
Губин очень заинтересовался новым списком.
Когда нагруженный инструкциями и наставлениями Иннокентий Харлампиевич оставил гостеприимный докторский кров, в небе уже брезжила зорька.
Утром следующего дня Иннокентий Харлампиевич отправился в вояж по селу.
Первым на его пути был дом Дормидонта Севастьяныча Селезнева. Имел Селезнев до революции крупорушку и, кроме того, промышлял в селе прокатом сельскохозяйственных орудий, что понавезла в Сибирь американская фирма «Мак-Кормик».
Подойдя к пятистеннику с белыми наличниками окон, Иннокентий Харлампиевич остановился в изумлении. Селезнев с супругой Секлетеей Ульяновной старательно соскребали с ворот густые мазки дегтя. Селезниха поминутно утирала подолом горючие слезы. Дормидонт Севастьяныч, не здороваясь, сказал:
– Не глазей что баран, Накентий, не собирай народ. Проходи в избу.
В избе хозяин тяжело опустился на скамейку.
– Видал, как проздравили меня лешманы?!. Ославили Маньшу ни за што ни про што. Слышу ночью – кобель во дворе заливается, выскочил с берданом, да уж поздно… Покуль возился с затвором калитошным, утекли сатаны! Одначе одного зацепил с бердана – утресь кровь оказалась на улке. Дознаться бы. Добавил бы еще картечи!.. Кто, как думаешь?…
– Кто! – усмехнулся гость. – Чо ты, дите малое, чо ли? Известно дело – касамалисты-парни. Кому же боле? Фулиганье, сквернавцы!..
– Кто их знает?! – недоверчиво ответил хозяин. – Вроде не слыхал я от них никакой славы про Маньшу… Да ты, Накентий, скинь шабур-то. Чай пить будем. Манька! Замолчи ты, бога ради!
Из-за дверей горницы слышались приглушенные рыдания.
Седых погладил пегую бороду.
– Слышь, Дормидонт… Хоть и не ко времени мои слова будут тебе сичас, а надо… Нынче на собрании объявят подушно раскладку. Хлеб энтим… городским стрекулистам. Не вздумай противничать. Сколь наложат – вывезешь! Понял?…
Хозяин ответил с ненавистью:
– Лучше свиньям на замес!..
– Сам знаю: что лутче, что хуже, – строго отозвался Иннокентий Харлампиевич, – вывезешь без слова! И – чтобы всенародно!.. – Тут, приблизясь к хозяину, Седых сказал вполголоса: – Вернем после. Получишь опять с баржи у Крестьяныча… Как в прошлый раз. У его список будет.
– За свое – краденым! – усмехнулся Дормидонт.
– Не твоего ума дело! Болтай больше!..
– Да я что?… Мне – абы хлебушко. Свой ли, дядин ли… Сделаю…
– То-то… Помалкивай знай!.. Покличь Маньку.
Вошедшей в кухню зареванной девке Иннокентий Харлампиевич ласково сказал:
– Я так думаю, что тебе, Манюша, теперича одна дорога – в касамол.
Манюша опешила. И Дормидонт Севастьяныч возмутился:
– Ты чо баишь-то, Накентий Харлампыч? Испоганить девку? Ни в жисть не допущу!..
– Остынь! Дело говорю. Ей теперича защитник нужен. А кто защитник? Никто, как касамалисты. Для их деготь – пустое, так, хмарь на ясном небе. А они теперича большую силу берут…
Манька молчала. Собственно, предложение Иннокентия Харлампиевича было ей по душе. В комсомоле весело и таинственно: собираются, спорят о таких запрещенных вещах, как бог и сатана, песни поют, театры представляют. Верка Рожкова – брошенка рассказывала подружкам: комсомольцы из городу костюмов понавезли всяких разных… богато живут! А заправилой у них Федюнька Дроздов, о ком ославленная девка давно вздыхала… Ох, Федюнечка-дролечка, разыскал бы ты Манькиного обидчика да наказал примерно. У тебя и власть, и при пистолете ходишь.
Покосилась девка на отца и выпалила:
– Я, дядя Накентий, не против… Как батяня прикажет.
Но Манькин отец снова вскипел:
– На кой мне ляд касамол ихний? Одна шайка-лейка: грабители, сатаны! У меня гумага есть от фершала, Игнатий Лазаревича – девка-от Маньша! Чистая, непорочная девка… Неси, дочка, свою гумагу!
Но Седых остановил его:
– Не надо… Хороший человек хорошему человеку и без гумаги верит. Гумага та мне без надобности. А вот што другие-то скажут, Дормидонт Селезнев?… К примеру – сваты энту гумагу в резонт нипочем не возьмут. Знают все; у пьяницы фершала Игнашки за полведра первачу каку хошь гумагу можно выправить. Он и мне сочинит гумагу, что я не я, а святой Сергий Радонежский. Говорю тебе: сейчас Манечке твоей не гумага нужна, а защита. И первый защитник «униженных и скорбящих» – нонеча касамол. А вообче – дело ваше. Прощевайте… Про хлеб не забудь мои слова…
Иннокентий Харлампиевич взялся за шапку, но Селезнев вдруг засуетился:
– Ты обожди, посиди, сичас мы с тобой медку пригубим, погуторим, покалякаем… Ты – мне, я – тебе… Ан глядишь, и выйдет у нас какое решение. Погости малость. Таки дела в один минут не делаются… Сичас, сичас… Маньша! Маньша! Куды ее опять лешак унес?!.
– Не егози! – поморщился Седых. – Судачить да меды распивать мне нонче недосуг. Забот – по горло… Напоследок только скажу: кто тебе совет давал в колчаковску дружину не записываться? Кто упреждал, что Колчаку вот-вот перемена, карачун? Ну, кто?
– Ты, сват, – почесывая затылок, ответил Селезнев.
– И что ж вышло, не по-моему?
Селезнев обескураженно молчал.
– А кто тебе присоветовал хлеб на заимку увезти, как пришел Колчаку карачун и совецки воцарились?
– Обратно ты…
– То-то! Это ладно, что ты памятливый. Однако прощевай, гостевать нонче, говорю, недосуг… А делай что велю – внакладе не останешься.
– Сделаю обязательно, Накентий Харлампыч… Пущай Манька записывается в касамол… Пущай. Оно и верно – они нынче власть взяли. А фулигана, что ворота вымазал, дознаюсь – все одно пришибу с бердана!.. Энто, уж как хошь, а будет по-моему!..
– Вали! – ухмыльнулся Седых. – Только не будь дураком… Щенка ежели пришибить, и то во дворе своем не стреляют, а на реку: кирпичину на шею и – бултых… Понял? Ну, я пошел…
Иннокентий Харлампиевич шел по улице, облизывая тонкие губы и легонько посмеиваясь в пегую бороду. Славно вышло! Первое дело: давно было нужно иметь и в комсомольской ячейке своего человека. Парня туда совать нельзя – живо свихнут мозги набекрень, и получится, что назначил «шпиёном», а высидел врага себе же… Ино дело девка. Девка что овца, хоть и в чужом стаде походит, а от своей кошары не отобьется… Второе: комсомольцам «авторитету» прибавится: дескать, всех потаскух подбирают… Дудычеву Катюху снасильничали парни «помочью» – куда от стыда податься? В комсомол. Там приняли Катьку. Там – добрые. Им лихая девкина слава нипочем, наплевать!.. Верку Рожкову, брошенку порченую, куда? Опять же в комсомол!.. Теперь эту, ославленную, дегтем мазанную… Они возьмут. Им сейчас только давай народу! А молодой народишко, сыны да дочки самостоятельных хозяев, не шибко в комсомол проклятый идет. Все гольтепа, самая что ни на есть искони презираемая сельская рвань…
Иннокентий Харлампиевич долго еще ходил по дворам. Разговор со всеми избранными был один:
– Вези хлеб, сколь назначат. Для виду маленько покочевряжься… А вези бесперечь! Посля съездишь на баржу к Крестьянычу… Там список будет… Все в обрат получишь.
Однако в иных домах, значившихся в ревкомовских списках «середними», Иннокентий Харлампиевич не обещал возмещения из таинственных запасов у некоего Крестьяныча.
«Середним» Седых говорил:
– Вези. Точно знаю, не повезешь – все дотла продотрядчики пограбят.
– Как жить-то будем, что сеять? – плакался «середний».
– А энто ты спроси у комбедчиков али в ячейке, – Иннокентий Харлампиевич улыбался загадочно и непонятно. – Там разъяснят, – и уходил, оставив мужика в полном смятении.
Вечером на сельском собрании ревком объявил список подушной раскладки на сдачу хлеба.
Против фамилии Седых стояло: «середняк» и цифра «10».
Список зачитали до конца, и наступило молчание. Тогда Иннокентий Харлампиевич вышел к столу, за которым восседали ревкомовцы, сорвал с головы свою неизменную папаху солдатского искусственного смушка, образца тысяча девятьсот первого года, шмякнул ее об пол и поднял руки кверху, на манер человека, которого грабят.
Но лицо Иннокентия Харлампиевича было светлым, преисполненным неистовой радости.
– Пятнадцать! – крикнул Седых в зал. – Не десять, а пятнадцать жертвую на обчее дело! Ничего не жаль мне для нашей дорогой власти, для рабочего классу, для Красной, нашей родной, армии!.. Как я сам крестьянин-пролетарий и бывший армеец-партизан!.. Ничего, братаны-граждане, не обедняем! Осенью бог даст урожай – все убытки покроем, а нонеча – помогать надо власти нашей единокровной!.. Пятнадцать пудов жертвую и всех призываю – помогите своей власти!..
Потом выступали председатель волревкома, председатель комячейки, уполномоченный Губпродкома, и все хвалили Иннокентия Седых, ставили его в пример другим. Беднота яростно била в ладоши… Впрочем, и середняки тоже аплодировали. И крепкие хозяева. Столь велик был авторитет Иннокентия Харлампиевича.
Седых возвращался с собрания в группе коммунистов и беспартийных активистов-комбедчиков. Нагнавший группу уполномоченный Губпродкома похлопал старика по плечу.
– Спасибо тебе, мужик! Спасибо!.. Конечно, твои пять пудов лишку не решают хлебной проблемы, но свидетельствуют о кровной связи с народной властью, о гражданском мужестве и высокой сознательности. Непременно поместим в газете. Жди, товарищ Седых… Как говорится: не дорога ешка – дорога утешка!..
Сконфуженный Седых бормотал:
– Дык ить я… я что ж?… Мы партизаны… Мы завсегда готовы.
Перед ним наперебой раскрывали кисеты, забыв, что Иннокентий Харлампиевич ревнитель старой веры, не табачник.
А когда группа проходила мимо стоявших в отдалении трех спиритов – Губина, Базыльникова и кожевеннозаводчика Чупахина, – Михаил Дементьевич Губин густо харкнул вслед, сказал с совершенно не присущей этому суровому человеку восторженностью:
– Ат стерва!
Чупахин поддержал покровительственно:
– Художник, сукин кот!.. Накажи ему, втихую, Михаил Дементьич, пущай днями зайдет ко мне – побалую товаром на сапоги…
Базыльников истово перекрестился на соборную колокольню, прошамкал:
– И стоит, стоит!.. Восподь наш, Сусе Христе, рече во время оно: «Рука дающего не оскудеет!..»
– Айдате все ко мне, коньячку, так и быть, открою, – любезно пригласил Чупахин.
День был воскресный…
Во вторник село Колывань отправило в город Новониколаевск Красный обоз. Хлеб был вывезен не только полностью, но и с изрядным походцем противу упродкомовской разнарядки, чему продкомиссар немало подивился: ай да село Колывань! «Богато живут, но честно стоят за советскую власть…» – похвалил колыванцев на докладе в Сибревкоме продовольственный комиссар.
Иннокентий Харлампиевич не остался внакладе. Чупахин презентовал умнице крой на яловые сапоги-вытяжки, а сельская советская власть наградила благородного активиста премией: выдала овечку…
На селе наступили тишина, мир и благоденствие.
Но вскоре на Иннокентия Харлампиевича посыпался целый ворох домашних неприятностей.
Перво-наперво, нежданно ушел со двора сын-большак Николай. Тем утром Николай должен был съездить за сеном, да не поехал, а собрал малое число своих шмуток в котомку, приладил на спине крошни и, поклонясь дому от порога, сказал отцу и Дашке:
– Вот чо… Ты, Иннокентий Харлампиевич, не прогневайся, только я тебе теперича – не сын, а… свояк. Понял?… Надо б тебя, старого пса, в пролубь направить, да уж ладно!.. И без меня совецкие шлепнут!.. Прощай, лисовин. Прощай и ты… бывшая жена, а ноне – мне мачеха!.. Не поминайте лихом…
И – пропал, как сгинул.
Иннокентий Харлампиевич сидел, словно поленом по башке оглоушили, – не нашел слова в ответ сказать. Поднялся со скамьи с трудом. В голове застучали кувалды: выходит, вызнались сладкие ночи? Кто же соследил? Какая стерва доложила ненавистному сыну?…
Сколько ни размышлял – не было ни разгадки, ни догадок.
Сама Дашка сблажила, чтоб отстал?… Не-е-ет!.. Дашка без воли свекра слова не скажет, Дашка – бабенка умная, знает, чо к чему и когда. Тем более, что грешили свекор со сношенькой в такой тайне – и сатане не дознаться бы… Может, жена Ильинична сердцем бабьим унюхала? Нет, где ей!..
Давно ожирело сердце, а ума у ей сроду – не палата, и известно, как варят мозги у старухи; все помыслы на божественное.
На второй день по уходу Николая Ильинична побывала у начетчика кержацкого, а воротясь, заявила, что велено ей поехать на богомолье в Тою-Монастырское, где скрытно от человечьего глаза, в тайге, лепились к соснам и кедрам скитские избы праведниц-кержачек, отрешившихся от мира.
– Старец посылает, – поджав губы, строго сказала коренная жена, – ты меня, Накентий, не задерживай…
– Когда воротишься? – тоже строго спросил Седых.
– Как бог прикажет…
Старуха подрядила ямщика Федьку-Непутевого с другой околицы и, собрав громадный узел шмуток из своего личного сундука, уехала, ни с кем не попрощавшись: видать, без возврата.
– Ну, заварили мы с тобой, Дашутка!.. – вымолвил Иннокентий Харлампиевич, закрывая ворота на залом. – Ладно, хрен с имя всеми!..








