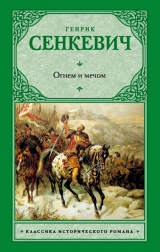
Текст книги "Огнем и мечом. Часть 1"
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Сказав это, он хлопнул в ладоши и велел пажу позвать пана Быховца.
Обрадованный наместник припал к руке князя, а тот стиснул в ладонях голову его и велел не падать духом. Он бесконечно любил Скшетуского, дельного воина и офицера, на которого во всем можно было положиться. К тому же меж них существовала связь, какая возникает между подчиненным, всею душою любящим начальника, и начальником, который это знает и чувствует. Возле князя толпилось немало придворных, служивших или угодничавших ради собственной корысти, но орлиный ум Иеремии хорошо видел, кто чего стоит. Знал он, что Скшетуский как человек – прозрачнее слезы, а потому ценил его и за преданность платил благодарностью.
С радостью услышал он, что любимец его избрал дочку Василя Курцевича, старого слуги Вишневецких, память о котором была князю тем дороже, чем печальнее.
– Не из неблагодарности ко князю, – сказал он, – не справлялся я о девушке, но потому, что опекуны не бывали в Лубнах, а жалоб никаких я на них не получал, и полагал посему, что они люди достойные. Но уж коли ты мне сейчас о княжне рассказал, я, как о родной, о ней помнить буду.
Скшетуский, слыша такое, не мог не подивиться доброте господина своего, который как бы сам себя упрекал за то, что посреди обширных своих трудов не занялся судьбою дитяти старого солдата и дворянина.
Между тем явился Быховец.
– Любезный сударь, – обратился к нему князь, – слово сказано: желаешь
– поезжай, но я прошу, уступи ты ради меня это поручение Скшетускому. У него на то есть свои особые резоны, а я уж, сударь, для тебя взамен что-нибудь придумаю.
– Ваше сиятельство, – ответил Быховец, – величайшая это милость от вашего сиятельства, что, имея право приказать, ты полагаешь дело на мое усмотрение. И недостоин был бы я такой милости, не прими я ее с наиблагодарнейшим сердцем.
– Поблагодари же своего товарища, – обратился князь к Скшетускому, – и ступай собираться.
Скшетуский стал горячо благодарить Быховца и через несколько часов был готов в дорогу. В Лубнах ему уже давно не сиделось, а поездка соответствовала всем его намерениям. Сперва ему предстояло повидать Елену, а потом, увы, расстаться с нею на долгое время, правда, именно это время и нужно было, чтобы после небывалых дождей дороги стали проезжими для колесного передвижения. Прежде того княгиня с Еленой добраться до Лубен бы не смогли, поэтому Скшетускому оставалось ждать или в Лубнах, или перебраться в Разлоги, что было противно договору с княгиней и, самое главное, возбудило бы подозрения Богуна. В полной безопасности от притязаний последнего Елена могла себя чувствовать только в Лубнах, но, поскольку она была вынуждена долгое время оставаться в Разлогах, лучше всего Скшетускому было уехать, а на обратном пути под охраною княжеского отряда увезти ее с собою. Все таким образом обдумав, наместник торопился с отъездом и, получив от князя инструкции и письма, а деньги на поездку от скарбничего, задолго до наступления ночи пустился в дорогу; прихватив Редзяна и имея при себе сорок верховых из казацкой княжеской хоругви.
Глава VII
Была уже вторая половина марта. Травы буйно пошли в рост, зацвели перекати-поле, степь закипела жизнью. Наутро пан Скшетуский в челе своих людей ехал словно бы по морю, бегучею волной которого была колеблемая ветром трава. А вокруг бесконечно было радости и весенних голосов: кликов, чиликанья, посвистов, щелканья, трепетания крыл, гудения насекомых; степь звучала лирою, на которой бряцала рука господня. Над головами ездоков ястребы, словно подвешенные крестики, неподвижно стояли в лазури, дикие гуси летели клином, проплывали станицы журавлей; на земле же – гон одичалых табунов: вон мчатся степные кони, видишь, как вспарывают они грудью травы, летят, словно буря, и останавливаются как вкопанные, полукольцом окружая всадников; гривы их разметались, ноздри раздуты, очи удивленные! Кажется – растоптать готовы незваных гостей. Но мгновение – и вдруг срываются с места, и пропадают так же быстро, как примчались, только трава шумит, только цветики мелькают! Топот утихнул, и опять слышна громкая птичья разноголосица. И все бы, кажется, радостно, но есть какая-то печаль в радости этой, шумливо вроде бы, а пусто, – гей! – а широко, а просторно! Конем не достичь, мыслью не постичь… Разве что печаль эту, безлюдье это, степи эти полюбить и смятенною душою кружить над ними, спать вечным сном в их курганах, голоса степные внимать и самому откликаться.
Стояло утро. Крупные капли сверкали на полыни и бурьяне, свежие дуновения ветра просушивали землю, на которой дожди оставили обширные лужи, разлившиеся озерками и сиявшие на солнце. Отряд наместника медленно продвигался вперед, ибо трудно поспешать, когда лошади то и дело проваливаются по колено в мягкую землю. Наместник, однако, не позволял подолгу отдыхать на могильных буграх – он спешил встретиться и проститься. Этак к полудню следующего дня, проехав полоску леса, увидел он ветряки Разлогов, разбросанные по холмам и ближним курганам. Сердце в груди Скшетуского застучало, как молот. Его не ждут, никто о его приезде не знает: что скажет она, когда он появится? А вон, вон уже хаты пiдсусiдков, потонувшие в молодых садах вишневых; далее раскиданная деревенька холопей, а еще далее завиднелся и колодезный журавль на господском майдане. Наместник поднял коня и погнал его в галоп. За ним кинулись остальные; так и полетели они по деревне со звоном и криками. Здесь и там селянин показывался из хаты, глядел, крестился: черти не черти, татары не татары. Грязь из-под копыт летит так, что не поймешь, кто скачет. А они доскакали уже до майдана и осадили перед затворенными воротами.
– Эй вы там! Отворяй, кто живой!
На шум, стук и собачий лай прибежали со двора люди. В испуге приникли они к воротам, решив, что на усадьбу напали.
– Кто такие?
– Отворяй!
– Князей дома нету.
– Отворяй же, собачий сын! Мы от князя из Лубен.
Наконец челядь узнала Скшетуского.
– Это ваша милость! Сейчас мы, сейчас!
Ворота отворились, а тут и сама княгиня вышла на крыльцо, воззрившись из-под ладони на гостей.
Скшетуский спрыгнул с коня и, подойдя к ней, сказал:
– Не узнаешь, ваша милость сударыня?
– Ах! Вы ли это, сударь наместник? А я уж думаю, татары напали. Кланяюсь и милости прошу в дом.
– Удивляешься, верно, любезная сударыня, – сказал Скшетуский, когда вошли, – видя меня в Разлогах, а ведь я слова не нарушил. Это князь меня в Чигирин, а затем и далее посылает. Он велел и в Разлогах остановиться, о здоровье вашем справиться.
– Благодарствую его княжескому сиятельству, милостивому господину и благодетелю нашему. Скоро ли он задумал нас из Разлогов сгонять?
– Князь вообще об этом не помышляет, не зная, что прогнать бы вас не мешало; а я что сказал, тому и быть. Останетесь вы в Разлогах, у меня своего добра хватит.
Княгиня сразу повеселела и сказала:
– Садись же, ваша милость, и пребывай в приятности, как я, видя тебя.
– Княжна здорова? Где она?
– Уж я понимаю, что не ко мне ты приехал, мой кавалер. Здорова она, здорова; от амуров этих девка еще глаже стала. Да я ее тотчас и кликну, а сама приберусь малость – стыдно мне в таком виде гостя принимать.
Одета была княгиня в платье из линялой набойки, поверх которого был накинут кожух; обута же в яловые сапоги.
Но тут Елена, хоть и непозванная, влетела в горницу, узнав от татарина Чехлы, кто приехал. Вбежав, запыхавшаяся и красная, как вишня, она никак не могла отдышаться, и только глаза ее смеялись счастьем и радостью. Скшетуский кинулся к ней руки целовать, а когда княгиня намеренно вышла, стал целовать в уста, потому что человек он был пылкий. Она же не очень и противилась, слабея от счастливого восторга.
– А я вашу милость и не ждала, – шептала она, жмуря свои прелестные очи. – Да уж не целуй так, негоже оно.
– Как не целовать, – отвечал рыцарь, – ежели мне и мед не столь сладок? Я уж думал – засохну без тебя; сам князь велел поехать.
– Значит, ему известно?
– Я признался. А он еще и рад был, вспомнив про князя Василя. Эй, видать, опоила ты меня чем-то, девица, ничего и никого, кроме тебя, не вижу!
– Милость это божья – таковое ослепление твое.
– А помнишь, как кречет руки наши соединил? Видно, оно суждено было.
– Помню…
– Когда я в Лубнах с тоски на Солоницу ходил, ты мне словно живая являлась, а руки протяну – исчезаешь. Но теперь никуда ты от меня не денешься, и ничего уже нам больше не помешает.
– Если и помешает, то не по воле моей.
– Скажи, любезен ли я тебе?
Елена опустила очи, но ответила торжественно и четко:
– Как никто другой в целом свете.
– Пускай меня золотом и почестями осыплют, я предпочту эти слова, ибо вижу, что правду ты говоришь, хоть сам не знаю, чем сумел заслужить благосклонность такую.
– Ты меня пожалел, приголубил, вступился за меня и такие слова сказал, каких я прежде никогда не слыхала.
Елена взволнованно умолкла, а поручик снова стал целовать ей руки.
– Госпожою мне будешь, не женой, – сказал он.
И оба замолчали, только он взора с нее не сводил, торопясь вознаградить себя за долгую разлуку. Девушка показалась ему еще красивей, чем раньше. В сумрачной этой горнице, в игре солнечных лучей, разбивающихся в радуги стеклянными репейками окон, она походила на изображения пречистых дев в темных костельных приделах. Но при этом от нее исходила такая теплота и такая жизнерадостность, столько прелестной женственности и очарования являл собою и лик, и весь облик ее, что можно было голову потерять, без ума влюбиться и любить вечно.
– От красы твоей я ослепнуть могу, – сказал наместник.
Белые зубки княжны весело блеснули в улыбке.
– Анна Борзобогатая, наверно, в сто раз краше!
– Ей до тебя, как оловянной этой тарелке до луны.
– А мне его милость Редзян другое говорил.
– Его милость Редзян по шее давно не получал. Что мне та панна! Пускай другие пчелы с цветка того мед берут, там их достаточно жужжит.
Дальнейшая беседа была прервана появлением старого Чехлы, явившегося приветствовать наместника. Он полагал его уже своим будущим господином и поэтому кланяться начал от порога, восточным обычаем, выказывая уважение.
– Ну, старый, возьму с девицей и тебя. Ты ей тоже служи до смерти.
– Недолго уже и ждать, господин! Да сколько жить, столько служить. Нет бога, кроме бога!
– Этак через месяц, как вернусь из Сечи, уедем в Лубны, – сказал наместник, обращаясь к Елене. – А там ксендз Муховецкий с епитрахилью ждет.
Елена обомлела.
– Ты на Сечь едешь?
– Князь с письмом послал. Но ты не пугайся. Персона посла даже у поганых неприкосновенна. Тебя же с княгинею я хоть сейчас отправил бы в Лубны, да вот дороги страшные. Сам испытал, даже верхом не очень проедешь.
– А к нам надолго?
– Сегодня к вечеру на Чигирин двинемся. Раньше прощусь, скорей ворочусь. Княжья служба. Не моя воля, не мой час.
– Прошу откушать, коли налюбезничались да наворковались, – сказала, входя, княгиня. – Ого! Щеки-то у девки пылают, видно, не терял ты времени, пан кавалер! Да чего там, так оно и быть должно!
Она покровительственно похлопала Елену по плечу, и все пошли обедать. Княгиня была в прекрасном настроении. По Богуну она уже давно отпечалилась, к тому же благодаря щедрости наместника все складывалось так, что Разлоги «cum борис, лесис, границибус et колониис» она могла считать собственностью своей и сыновей своих.
А богатства это были немалые.
Наместник расспрашивал про князей, скоро ли вернутся.
– Со дня на день жду. Сперва серчали они, но потом, обдумав действия твои, очень как будущего родича полюбили, потому, мол, что такого лихого кавалера трудно уже в нынешние мягкие времена найти.
Отобедав, пан Скшетуский с Еленою пошли в вишенник, тянувшийся за майданом до самого рва. Сад, точно снегом, осыпан был ранним цветом, а за садом чернелась дубрава, в которой куковала кукушка.
– Пусть наворожит нам счастье, – сказал пан Скшетуский. – Только нужно спрос спросить.
И, повернувшись к дубраве, сказал:
– Зозуля-рябуля, сколько лет нам с этою вот панной в супружестве жить?
Кукушка тотчас закуковала и накуковала полсотни с лишним.
– Дай же бог!
– Зозули всегда правду говорят, – сказала Елена.
– А коли так, то я еще спрошу! – разохотился наместник.
И спросил:
– Зозуля-рябуля, а много ли парнишек у нас народится?
Кукушка, словно по заказу, тотчас откликнулась и накуковала ни больше ни меньше как двенадцать.
Пан Скшетуский не знал от радости, что и делать.
– Вот пожалте! Старостою сделаюсь, ей-богу! Слыхала, любезная панна? А?
– Ничего я не слыхала, – ответила красная, как вишня, Елена. – О чем спрашивал, даже не знаю.
– Может, повторить?
– И этого не нужно.
В таких беседах и беззаботных шутках, словно сон, прошел их день. Вечером после долгого нежного прощания наместник двинулся на Чигирин.
Глава VIII
В Чигирине пан Скшетуский застал старого Зацвилиховского в великих волнениях и беспокойстве; тот нетерпеливо ждал княжеского посланника, ибо из Сечи приходили вести одна зловещее другой. Уже не вызывало сомнений, что Хмельницкий готовится с оружием в руках расквитаться за свои обиды и отстоять давние казацкие привилегии. Зацвилиховскому стало известно, что тот побывал в Крыму у хана, выклянчивая татарской подмоги, с каковою со дня на день ожидался на Сечи. Все говорило за то, что задуман великий от Низовья до Речи Посполитой поход, который при участии татар мог оказаться роковым. Гроза угадывалась все явственней, отчетливее, страшней. Уже не темная, неясная тревога расползалась по Украине, а повсеместное предчувствие неотвратимой резни и войны. Великий гетман, поначалу не принимавший всего этого близко к сердцу, сейчас перевел свои силы к Черкассам, но главным образом затем, чтобы ловить беглых, так как городовые казаки и простонародье во множестве стали убегать на Сечь. Шляхта скапливалась в городах. Поговаривали, что в южных воеводствах имело быть объявленным народное ополчение. Кое-кто, не ожидая обычного в таких случаях королевского указа, отослав жен и детей в замки, направлялся в Черкассы. Несчастная Украина разделилась на два лагеря: одни устремились на Сечь, другие – в коронное войско; одни были за существующий порядок, другие – за дикую волю; одни намеревались сохранить то, что было плодом вековых трудов, другие вознамерились нажитое это у них отнять. Вскорости и тем и тем суждено было обагрить братские руки кровью собственного тела. Ужасающая распря, прежде чем обрести религиозные лозунги, совершенно чуждые Низовью, затевалась как война социальная.
И хотя черные тучи обложили украинский горизонт, хотя отбрасывали они зловещую мрачную тень, хотя в недрах их все клубилось и грохотало, а громы перекатывались из конца в конец, люди пока не отдавали себе отчета, какая неимоверная разгуливается гроза. Возможно, что отчета не отдавал себе и сам Хмельницкий, пока что славший краковскому правителю, казацкому комиссару и коронному хорунжему письма, полные жалоб и нареканий, а заодно и клятвенных признаний в верности Владиславу IV и Речи Посполитой. Хотел ли он выиграть время или же полагал, что какой-нибудь договор еще может положить конец конфликту – мнения расходились, и только два человека ни на мгновение не обольщались по этому поводу.
Людьми этими были Зацвилиховский и престарелый Барабаш.
Старый полковник тоже получил от Хмельницкого послание. Было оно издевательским, угрожающим и оскорбительным. «Со всем Войском Запорожским починаем мы, – писал Хмельницкий, – горячо взывать и молить, дабы в соблюдении были оные привилегии, каковые ваша милость у себя укрывал. А посколь сокрыл ты их для собственной корысти и богатств умножения, постольку все Войско Запорожское полагает тебя достойным полковничать над баранами или свиньями, но не человеками. Я же прошу прощения у вашей милости, ежели в чем не угодил в убогом доме моем в Чигирине о празднике св. Миколы и что уехал на Запорожье, не сказавшись и не спросившись».
– Вы только поглядите, судари мои, – говорил Зацвилиховскому и Скшетускому Барабаш, – как глумится он надо мною, а ведь я его ратному делу обучал и, можно сказать, вместо отца был!
– Значит, он со всем войском запорожским привилегий добиваться собирается, – сказал Зацвилиховский. – И война, попросту говоря, будет гражданская, изо всех самая страшная.
На это Скшетуский:
– Видно, спешить мне надо; дайте же, милостивые государи, письма к тем, с кем по приезде следует мне связаться.
– К кошевому атаману есть у тебя?
– Есть. От самого князя.
– Тогда дам я тебе к одному куренному, а у его милости Барабаша есть там сродственник, тоже Барабаш; обо всем и узнаешь. Да только не опоздали ли мы с таковой экспедицией? Князю угодно знать, что там происходит? Ответ простой: недоброе там! Угодно знать, что делать? Совет простой: собрать как можно больше войска и соединиться с гетманами.
– Пошлите же к нему гонца с ответом и советом, – сказал Скшетуский. – А мне так и так ехать, ибо послан и княжеского решения изменить не могу.
– А знаешь ли ты, сударь, что это очень опасная поездка? – сказал Зацвилиховский. – Народ уже столь разошелся, что упастись трудно. Не будь поблизости коронного войска, чернь и на нас бы накинулась. Что же тогда там? К дьяволу в пасть едешь.
– Ваша милость хорунжий! Иона не в пасти даже, но во чреве китовом был, а с божьей помощью цел и невредим остался.
– Тогда езжай. Решимость твою хвалю. До Кудака, ваша милость, доедешь в безопасности, там же решишь, как действовать. Гродзицкий – солдат старый, он тебе и даст верные инструкции. А ко князю я сам, наверно, двинусь; если уж мне сражаться на старости лет, то лучше под его рукой, чем под чьей еще. А пока что байдак или дубас для вашей милости снаряжу и гребцов дам, которые тебя до Кудака доставят.
Скшетуский вышел и отправился к себе на квартиру, на базарную площадь в дом князя, намереваясь поскорей закончить приготовления. Несмотря на опасности предстоящей поездки, о которых предупреждал его Зацвилиховский, наместник думал о ней не без удовольствия. Ему предстояло на всем почти протяжении, до самого до Низовья, увидеть Днепр, да еще и пороги; а земли эти представлялись тогдашнему рыцарству заколдованными, таинственными, куда стремилась всякая душа, жадная до приключений. Большинство из проживших всю жизнь свою на Украине не могли похвастаться, что видели Сечь
– разве что пожелали бы записаться в товарищество, а желающих сделать это среди шляхты было теперь немного. Времена Самека Зборовского прошли безвозвратно. Разрыв Сечи с Речью Посполитой, начавшийся в эпоху Наливайки и Павлюка, не только не приостановился, но все более углублялся, и приток на Сечь благородного люда, как польского, так и русского, ни языком, ни верою не отличавшегося от низовых, значительно уменьшился. У таких, как Булыги-Курцевичи, находилось немного подражателей; вообще на Низовье и в товарищество вынуждали теперь уйти шляхту неудачи, изгнание, то есть грехи, покаянием не замаливаемые.
Оттого-то некая тайна, непроницаемая, как днепровские туманы, окружала когтистую низовую республику. Про нее баяли чудеса, и пан Скшетуский собственными глазами увидеть их любопытствовал.
Но в то, что оттуда не вернется, он, по правде говоря, не верил. Посол есть посол, да к тому же еще от князя Иеремии.
Размышляя этак, глядел он из окна своего на площадь, и за этим занятием прошел час и второй, как вдруг Скшетускому показалось, что видит он две знакомые фигуры, направляющиеся в Звонецкий Кут, где была торговля валаха Допула.
Он вгляделся. Это были пан Заглоба с Богуном.
Они шли, держа друг друга под руки, и вскорости исчезли в темном входе, над которым торчала метелка, обозначавшая корчму и погребок.
Наместника удивило и пребывание Богуна в Чигирине, и дружба его с паном Заглобой.
– Редзян! Ко мне! – крикнул он слугу.
Тот появился в дверях соседней комнаты.
– Слушай же, Редзян: пойдешь вон в тот погребок, видишь, где метелка? Подойдешь к толстому шляхтичу с дыркой во лбу и передашь, что некий человек хочеть видеть его по неотложному делу. А ежели спросит, кто, не говори.
Редзян исчез, и через какое-то время наместник увидел его на майдане в обществе пана Заглобы.
– Приветствую тебя, сударь! – сказал Скшетуский, когда шляхтич возник на пороге. – Узнаешь ли меня?
– Узнаю ли? Чтоб меня татаре на сало перетопили и свечек из него Магомету понаставили, если не узнаю! Ты же, ваша милость, несколько месяцев назад Чаплинским двери у Допула отворял, что мне особенно понравилось, ибо я из темницы в Стамбуле освободился таким же образом. А что поделывает господин Сбейнабойка герба Сорвиштанец, а также его непорочность и меч? Все ли еще садятся ему на голову воробьи, за сухое дерево его принимая?
– Пан Подбипятка здоров и просил вашей милости кланяться.
– Богатый шляхтич, но глупый ужасно. Ежели он отсечет такие же три головы, как его собственная, то засчитывать просто нечего, потому что посечет он трех безголовых. Тьфу! Ну и жара, а ведь только март еще на дворе! Аж горло пересыхает.
– У меня мед изрядный с собою, может, чарку отведаешь, ваша милость?
– Дурак отказывается, когда умный угощает. Мне цирюльник как раз мед прописал принимать, чтобы меланхолию от головы оттянуло. Тяжелые времена для шляхты настают: dies irae et calamitatis[48]48
день гнева и смятения (лат.).
[Закрыть]. Чаплинский со страху чуть живой, к Допулу не ходит, потому как там верхушка казацкая пьет. Я один и противостою опасности, составляя оным полковникам компанию, хотя полковничество их дегтем смердит. Добрый мед!.. И правда отменный. Откуда это он у тебя, ваша милость?
– Из Лубен. Значит, много тут казацкого начальства?
– Кого только нет! Федор Якубович тут, старый Филон Дедяла тут, Данила Нечай тут, а еще любимчик ихний, Богун, который друг мне стал, когда я его перепил и пообещал усыновить. Все они теперь в Чигирине смердят и соображают, в какую сторону податься, потому что пока не смеют в открытую за Хмельницким пойти. А если не пойдут, в том моя заслуга.
– Это как же?
– А я пью с ними и на сторону Речи Посполитой перетягиваю. Верными уговариваю оставаться. Ежели король меня старостой не сделает, то считай, сударь мой, что нету правды и благодарности за службу в этой нашей Речи Посполитой и лучше оно куриц на яйца сажать, чем головой рисковать pro publico bono[49]49
ради общественного блага (лат.).
[Закрыть].
– Лучше, ваша милость, рисковать, на нашей стороне сражаясь. Но сдается мне, что ты деньги попусту тратишь на угощенье, ибо таким путем их на нашу сторону не склонить.
– Я? Деньги трачу? За кого ты, сударь, меня принимаешь? Разве не довольно, что я запросто держу себя с хамами, так еще и платить? Фавором я полагаю позволение платить за свою персону.
– А Богун этот что тут делает?
– Он? У него, как и у прочих, ушки на макушке насчет новостей из Сечи. За тем и приехал. Это же любимец всех казаков! Все с ним, точно потаскухи, заигрывают, потому что переяславский полк за ним, а не за Лободой пойдет. А кто, к примеру, может знать, к кому реестровые Кречовского перекинутся? Брат низовым Богун, когда нужно идти на турка или татарву, но сейчас осторожничает он ужас как, ибо мне по пьяному делу признался, что влюблен в шляхтянку и с нею пожениться хочет; оттого и некстати ему перед женитьбою с холопами брататься, оттого он ждет, чтобы я его усыновил и к гербу допустил… Ай да мед! Ай хорош!
– Налей же себе, ваша милость, еще.
– Налью, налью. Не в кабаках такой продают.
– А не интересовался ли ты, сударь, как зовут эту самую шляхтянку, на которой Богун жениться собрался?
– А на кой мне, досточтимый наместник, ее имя! Знаю только, что когда она Богуну рога наставит, то будет госпожой оленихой величаться.
Наместник почувствовал огромное желание дать пану Заглобе по уху, а тот, ничего не заметив, продолжал:
– Ох и красавчик был я смолоду! Рассказал бы я тебе, за что муки в Галате принял! Видишь дырку во лбу? Довольно будет, если скажу, что ее мне евнухи в серале тамошнего паши пробили.
– А говорил, что пуля разбойничья!
– Говорил? Правду говорил! Всякий турчин – разбойник. Господь не даст соврать!
Дальнейшая беседа была прервана появлением Зацвилиховского.
– Ну, сударь наместник, – сказал старый хорунжий, – байдаки готовы, гребцы у тебя люди верные; отправляйся же с богом, хоть сейчас, если желаешь. А вот и письма.
– Тогда я велю людям идти на берег.
– В какие края ты, ваша милость, собрался? – поинтересовался пан Заглоба.
– На Сечь.
– Горячо тебе там будет.
Однако наместник предупреждения этого уже не слышал, потому что вышел из дому на подворье, где при конях находились казаки, совсем уже готовые в дорогу.
– В седло и к берегу! – скомандовал пан Скшетуский. – Лошадей перевести на челны и ждать меня.
В доме тем временем старый хорунжий сказал Заглобе:
– Слыхал я, что ты, сударь, с полковниками казацкими якшаешься и пьянствуешь с ними.
– Pro publico bono, ваша милость хорунжий.
– Быстрый умом ты, сударь, и его у тебя поболе, чем стыда. Хочешь казаков in poculis[50]50
за кубками (лат.).
[Закрыть] расположить к себе, чтобы, если победят, друзьями твоими были.
– А что ж! Мучеником турецким будучи, казацким стать не тороплюсь, и нет в том ничего удивительного, ибо два грибочка доведут до гробочка. В рассуждении же стыда, так я никого не приглашаю испить его со мною – сам же изопью, и, даст бог, он мне не меньше меда вот этого по вкусу придется. Заслуга – она, что масло, наверх всплывет.
В этот момент вернулся Скшетуский.
– Люди уже выступили, – сказал он.
Зацвилиховский налил по чарке.
– За счастливую поездку!
– И благополучное возвращение! – добавил пан Заглоба.
– Плыть вам легко будет, вода безбрежная.
– Садитесь же, милостивые государи, допьем. Невелик бочонок-то.
Они сели и разлили мед.
– Интересные края повидаешь, ваша милость, – говорил Зацвилиховский.
– Уж ты пану Гродзицкому в Кудаке от меня поклонись! Вот солдат так солдат! На самом краю света сидит, вдали от присмотра гетманского, а порядок у него, дай боже такому во всей Речи Посполитой быть. Я-то знаю и Кудак, и пороги. Бывало, туда чаще ездили, и тоска прямо за душу берет, как подумаешь, что все это прошло, минуло, а теперь…
Тут хорунжий подпер седую свою голову и глубоко задумался. Сделалось тихо, слышалось только цоканье в воротах: это последние люди Скшетуского выходили на берег к байдакам.
– Боже мой! – молвил, очнувшись от раздумий, Зацвилиховский. – Хоть распри и не стихали, а раньше лучше было. Как сейчас помню, под Хотином, двадцать семь лет тому назад! Когда гусары под командой Любомирского шли в атаку на янычар, так молодцы за своим валом шапки подкидывали и кричали Сагайдачному, аж земля тряслася: «Пусти, батьку, з ляхами вмирати!» А сейчас? Сейчас Низовье, которому форпостом христианства надлежит быть, впускает татар в пределы Речи Посполитой, чтобы накинуться на них, когда будут с награбленным возвращаться. Чего там! хуже еще: Хмельницкий с татарами снюхивается, чтобы христиан за компанию убивать…
– Выпьемте же с горя! – прервал Заглоба. – Ай мед!
– Дай же, господи, умереть поскорее, чтобы усобицы не видеть, – продолжал старый хорунжий. – Взаимные грехи придется кровью смывать, но не будет это кровь искупления, ибо брат брата убивать станет. Кто на Низовье? Русины. А кто в войске князя Яремы? Кто в шляхетских отрядах? Русины. А в коронном стане разве мало их? А я сам кто такой? Эй, злосчастная Украйна! Крымские нехристи закуют тебя в цепи, и на турецких галерах грести будешь!
– Да не убивайся так, сударь хорунжий! – сказал Скшетуский. – А то нас прямо слеза прошибает. Может, еще и солнышко взойдет!
Но солнце-то как раз заходило, и последние лучи его лежали красными отсветами на белой голове хорунжего.
В городе звонили к вечерне и к похвальной.
Они вышли. Пан Скшетуский отправился в костел, пан Зацвилиховский в церковь, а пан Заглоба к Допулу в Звонецкий Кут.
Уже совсем стемнело, когда все трое снова сошлись у пристани на берегу Тясмина. Люди Скшетуского сидели по байдакам. Весельщики еще перетаскивали груз. Холодный ветер тянул в сторону недалекого устья, где река впадала в Днепр, и ночь собиралась быть не очень погожей. При свете огня, пылавшего на берегу, вода в реке кроваво поблескивала и, казалось, с неимоверной стремительностью уносилась куда-то в неведомую тьму.
– Ну, счастливого пути! – сказал хорунжий, сердечно пожимая руку молодому человеку. – Держи, ваша милость, ухо востро.
– Уж постараюсь. Даст бог, скоро свидимся.
– Теперь, наверное, в Лубнах или в княжеском войске.
– Значит, ты, ваша милость, окончательно к князю собрался?
– А что ж? Война так война!
– Оставайся же в добром здравии, сударь хорунжий.
– Храни тебя бог!
– Vive valeque![51]51
Живи и будь здрав! (лат.).
[Закрыть] – кричал Заглоба. – А ежели вода аж до Стамбула тебя, сударь, донесет, кланяйся султану. А нет – так черт с ним!.. Ох и отменный был медок!.. Брр! А тут не тепло!
– До свиданьица!
– До скорого!
– Помогай вам бог!
Заскрипели весла, плеснули водой, и байдаки отплыли. Огонь на берегу стал быстро удаляться. Долго еще видел Скшетуский внушительную фигуру хорунжего, освещенную пламенем костра, и необъяснимая печаль стеснила внезапно грудь его.
Несет челны вода, несет, да только уносит от благожелательных сердец, от любимой и от родных сторон, уносит неумолимо, как судьба, в стороны дикие, во тьму…
Из тясминова устья выплыли на Днепр.
Ветер свистел, весла издавали однообразный и печальный звук. Весельщики затянули песню:
Гей, то не пили пилили, Не тумани уставали.
Скшетуский закутался в бурку и улегся на постелю, устроенную для него солдатами. Он стал думать об Елене, о том, что она все еще в Лубнах, что Богун остался, а он вот уехал. Опасения, недобрые предчувствия, тревога слетелись к нему, точно вороны. Он попытался было совладать с ними, но устал, мысли его начали путаться, странно как-то смешались с посвистом ветра, с плеском весел, с песнями рыбаков, и он уснул.








