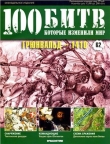Текст книги "Крестоносцы. Том 2"
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
X
После того как крестоносцы в тысяча триста тридцать первом году предали Серадз огню и мечу и сравняли его с землей, Казимир Великий отстроил город, однако он не был уже так великолепен и не мог идти в сравнение с другими городами королевства. И все же Ягенка, жизнь которой текла до сих пор между Згожелицами и Кшесной, просто потрясена была, когда взору ее открылись стены, башни, ратуша и особенно костелы, каких она, видавшая один кшесненский деревянный костел, и представить себе не могла. Куда девалась вся ее бойкость, в первую минуту девушка не решалась даже громко заговорить и только шепотом расспрашивала Мацька обо всех чудесах, которые ее ослепили; когда же старый рыцарь стал уверять ее, что Серадзу так же далеко до Кракова, как обыкновенной головешке до солнца, она ушам своим не верила, ей казалось совершенно немыслимым, чтобы где-то на свете мог быть еще другой такой великолепный город.
В монастыре их принял тот самый дряхлый приор, который с детских лет помнил резню, учиненную в городе крестоносцами, и недавно принимал у себя Збышка. Вести об аббате очень огорчили и обеспокоили их. Он долго жил в монастыре; но две недели назад уехал к своему другу, епископу плоцкому. Старик все хворал. Днем ему бывало получше, но по вечерам он впадал в беспамятство, срывался с постели, приказывал, чтобы на него надели панцирь, и вызывал на бой князя Яна из Рацибора. Причетникам приходилось силой удерживать его в постели, это было нелегко, а порой даже опасно для них. Только недели две назад аббат совсем пришел в себя и, хотя еще больше ослаб, велел, однако, немедленно везти его в Плоцк.
– Он говорил, что никому так не доверяет, как епископу плоцкому, – кончил свой рассказ приор, – и хочет из его рук принять святое причастие, да и духовную ему оставить. Аббат был очень слаб, и мы всячески уговаривали его не ехать, опасаясь, что он и мили не проедет, кончится. Но разве его уломаешь! Положили скоморохи сена на повозку и увезли его – дай бог, в добрый час.
– Если бы старик умер где-нибудь неподалеку от Серадза, вы бы об этом прослышали, – заметил Мацько.
– Непременно прослышали бы, – ответил старичок. – Потому мы и думаем, что не умер он, и, уж во всяком случае, до Ленчицы не отдал богу душу; но что дальше могло с ним приключиться, этого мы не знаем. Коли вы следом за ним поедете, так узнаете по дороге.
Мацько, очень встревоженный этими вестями, направился на совет к Ягенке, которой чех уже сказал, куда уехал аббат.
– Что же делать? – спросил старик. – Как быть с тобой?
– Вы поедете в Плоцк, и я с вами, – коротко ответила девушка.
– В Плоцк! – тоненьким голоском повторила за нею Анулька.
– Нет, вы только послушайте их! Так-таки в Плоцк, будто туда рукой подать?
– Ну, а как же мне возвращаться одной с Анулькой? Уж коли мне дальше нельзя ехать с вами, так лучше было совсем не уезжать. А вы подумали о том, что те еще больше осердились и взъелись там на меня?
– Вильки тебя оборонят от Чтана.
– Я их обороны так же боюсь, как набега Чтана, да и вижу, что вы так только противитесь, лишь бы противиться.
Мацько и впрямь притворялся. Он предпочитал, чтобы Ягенка ехала с ним; поэтому улыбнувшись на ее слова, старик сказал:
– Юбку скинула и куда как умна стала!
– Ум-то не где-нибудь, а в голове.
– Да ведь мне в Плоцк не по дороге.
– А чех говорил, что по дороге, а коли в Мальборк ехать, так через Плоцк еще ближе.
– Так вы уже с чехом совет держали?
– А как же! Он нам еще вот что сказал: коли, говорит, молодой пан попал в Мальборке в беду, так через княгиню Александру плоцкую можно много сделать, она ведь родная сестра королю, да и с крестоносцами в большой дружбе, они очень ее уважают.
– А ведь правда, ей-ей, правда! – воскликнул Мацько. – Все про то знают, и пожелай она только дать письмо к магистру, так мы бы в полной безопасности разъезжали по всем землям крестоносцев. Они ее любят, да и она их любит… Это дельный совет, и твой чех – неглупый парень!
– Еще какой неглупый! – пылко воскликнула Анулька, подняв к небу свои лазоревые глазки.
Мацько вдруг повернулся к ней:
– А ты чего?
Девушка страшно смутилась и, опустив длинные ресницы, зарумянилась, как роза.
Мацько видел, что нет другого выхода, надо брать с собой обеих девушек, да в душе он и рад был этому, так что на другой день, простившись со старичком-приором, все тронулись снова в путь. Ехать было теперь труднее, – снег уже таял и начинался разлив. По дороге путники расспрашивали везде про аббата; они побывали во многих шляхетских усадьбах, у ксендзов, а то и просто в корчмах, где аббат останавливался на ночлег. Легко было ехать по его следу, старик щедро раздавал милостыню, заказывал обедни, жертвовал на колокола, оказывал помощь обедневшим костелам, так что не один нищий, просивший подаяния, не один костельный служка и даже ксендз вспоминал о нем с благодарностью. Всюду говорили, что «он ехал, как ангел», и всюду молились за его здоровье, хотя многие высказывали опасение, что не жилец уж он на свете. В некоторых местах аббат по причине большой слабости останавливался на два-три дня отдохнуть. Мацьку казалось, что они в самом деле могут догнать старика.
Однако он ошибся в своих расчетах, их задержали воды Нера и Бзуры. Не доезжая до Ленчицы, путники целых четыре дня вынуждены были просидеть в пустой корчме, брошенной хозяином, который, видно, опасался наводнения. Хотя дорога от корчмы до города была вымощена бревнами, однако ее на большом протяжении поняло водой, и она превратилась в болото. Слуга Мацька Вит сам был родом из этих мест и слыхал, что через болота в лесах есть проходы, но не хотел вести путников, так как знал, что в ленчицких болотах нечисто, что живет там могущественный Борута, который заманивает людей в бездонную трясину, а потом спасает их, если только несчастные продадут ему свою душу. Да и сама корчма пользовалась худой славой, и, хотя в те времена путешественники возили с собой всякий припас и не боялись поэтому голода, все же пребывание в таком месте пугало даже старого Мацька.
По ночам путники слышали какую-то возню на крыше корчмы, а порой кто-то стучался в дверь. Ягенка и Анулька спали в боковуше, рядом с большой горницей, и слышали в темноте шорох маленьких ножек. Это их не очень пугало, обе они в Згожелицах привыкли уже ко всякой нежити; старый Зых в свое время приказывал ее подкармливать, и, по тогдашним верованиям, она не вредила тем, кто не жалел для нее крошек. Но однажды ночью неподалеку от корчмы раздался в лесной чаще глухой и грозный рев, а на другой день на болоте были обнаружены следы чудовищных копыт. Это мог быть зубр или тур, но Вит уверял, что это сам Борута, образ, мол, у него человека, даже шляхтича, но вместо ступней копыта, а сапоги, в которых он показывается среди людей, он из бережливости на болоте снимает. Мацько, дознавшись, что Боруту можно задобрить хмельным, целый день раздумывал, не грех ли это будет заручиться поддержкой нечисти, и даже советовался об этом с Ягенкой.
– Повесил бы я на ночь на плетне воловий пузырь с вином или медом, – говорил ей старик, – и коли ночью кто-нибудь выпил бы, так мы бы по крайности знали, что бродит он тут.
– Как бы не оскорбить силы небесные, – ответила девушка, – нам ведь ихнее благословение надобно, чтобы удалось спасти Збышка.
– Да вот и я того же боюсь, ну, а ежели пораздумать, так ведь мед – это не душа. Души я не дам, а что для небесных сил один пузырь меда!
Тут он понизил голос и прибавил:
– Это ведь обыкновенное дело, когда шляхтич угощает шляхтича, пусть самого отчаянного головореза, а люди толкуют, будто он шляхтич.
– Кто? – спросила Ягенка.
– Не хочу поминать нечистого.
Однако в тот же вечер Мацько собственноручно повесил на плетне огромный воловий пузырь, в каких обычно возили напитки, а на другой день оказалось, что пузырь выпит до дна.
Правда, чех, когда об этом шел разговор, как-то странно улыбался; но никто на него не обратил внимания, а Мацько в душе радовался и надеялся, что уж теперь-то, когда придется переправляться через болота, на пути их не ждут никакие неожиданные препятствия и случайности.
– Разве только врут, будто знает он, что такое честь, – говорил он себе.
Впрочем, надо было прежде всего разведать, нельзя ли как-нибудь пробраться через болота лесом. Это было вполне вероятно, так как там, где грунт укреплен корнями деревьев и кустов, дожди не так легко размывают землю. Легче всего поискать проход было Виту, уроженцу здешних мест, но не успел Мапько заикнуться об этом, как тот закричал: «Хоть убейте, пан, не пойду!» Напрасно ему толковали, что нежить днем теряет свою власть, Мацько решил уже было сам пойти; но дело кончилось тем, что Глава, парень смелый, любивший показать людям и особенно девушкам свое удальство, сунул за пояс секиру, взял в руки палку и ушел.
Ушел Глава затемно, и ждали его к полудню, однако он не появлялся, и все стали тревожиться. Напрасно после полудня слуги все прислушивались, не раздадутся ли в лесу его шаги. Вит только рукой махал: «Не воротится, а коли и воротится, так на наше же горе, потому бог один знает, не с волчьей ли мордой, оборотит его нечистая сила в вурдалака!» Все пугались, слушая его речи, Мацьку и то было не по себе, а Ягенка все повертывалась к лесу и осеняла его крестом. Анулька тщетно искала передник на своих обтянутых штанишками коленках, нечего было ей прижать к глазам, прижимала она пальцы, и они тотчас становились у нее мокрыми от слез, которые катились одна за другой по щекам.
Однако в час вечерней дойки, когда солнце клонилось к закату, чех вернулся, да не один, а с каким-то человеком, которого он гнал впереди на веревке. Все выбежали навстречу ему с радостными криками, но смолкли при виде этого человека, черного, низенького, косолапого и заросшего, одетого в волчьи шкуры.
– Во имя отца и сына, что это за чудище ты приволок? – воскликнул, опомнившись, Мацько.
– Мне-то что! – ответил оруженосец. – Говорит, что человек он и смолокур, а правда ли, не знаю.
– Ох, не человек он, не человек! – крикнул Вит.
Но Мацько велел ему замолчать, пристально поглядел на пленника и вдруг сказал:
– Ну-ка, перекрестись! Сейчас же перекрестись!..
– Слава Иисусу Христу! – воскликнул пленник и, скоренько перекрестившись, вздохнул с облегчением, доверчиво на всех поглядел и повторил:
– Слава Иисусу Христу! Я ведь тоже не знал, то ли в христианские руки попал, то ли к самому дьяволу. О господи!..
– Не бойся. Ты среди христиан, которые усердно молятся богу в костеле. Кто ты такой?
– Смолокур, милостивый пан, будник. Семеро нас в будах с бабами и детьми.
– Далеко ли отсюда?
– Да с полверсты.
– А как же вы в город ходите?
– У нас своя дорога, за Чертовым логом.
– За чертовым? Ну-ка, перекрестись еще раз.
– Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь!
– Ну ладно, а телега по этой дороге проедет?
– Теперь везде грязь, но там не так, как на большой дороге, потому в логу ветер дует и сушит болото. Вот только до Буд плохо, но кто знает лес, тот потихоньку и до Буд доведет.
– За скоец проведешь? Ну, не за один, так за два!
Смолокур охотно согласился, только выпросил еще полкаравая хлеба – они в лесу хоть и не умирали с голоду, но хлеба уж давно не видали. Порешили выехать на другой день рано поутру, так как под вечер в лесу было «нечисто». Смолокур говорил, что Борута порой очень в бору «бесится»; но людей простых не обижает и, оберегая от другой нежити свое ленчицкое княжество, гоняет ее по бору. С ним только ночью нехорошо встретиться, особенно если человек под хмельком, а днем, да трезвому, его нечего бояться.
– А все-таки ты боялся? – спросил Мацько.
– Да ведь этот рыцарь схватил меня так неожиданно и крепко, что я думал, он не человек.
Тут Ягенка стала смеяться над тем, что все они приняли за «нечистого» смолокура, а он почел «нечистыми» их. Смеялась с нею и Ануля, да так, что Мацько сказал ей:
– У тебя еще слезы по Главе не обсохли, а ты уже зубы скалишь.
Чех поглядел на ее розовое личико, увидел ее мокрые ресницы и спросил:
– Это вы обо мне плакали?
– Нет, – ответила девушка, – я только боялась.
– Ведь вы шляхтянка, а шляхтянке стыдно бояться. Ваша пани не такая трусиха. Что худого могло с вами случиться, днем, среди людей?
– Со мной ничего, а вот с вами.
– Ведь вы говорите, что плакали не обо мне?
– Не об вас.
– О чем же вы плакали?
– Я от страха плакала.
– А теперь вы не боитесь?
– Нет.
– Отчего же?
– Ведь вы вернулись.
Чех посмотрел на нее с благодарностью и сказал улыбаясь:
– Так мы с вами до утра можем говорить. Уж больно вы хитры.
Но ее можно было обвинить в чем угодно, только не в хитрости, и Глава, парень лукавый, отлично это понимал. Он понимал и то, что девушка с каждым днем все больше льнет к нему. Сам он любил Ягенку, но так, как подданный любит королевну, смиренно и почтительно, однако без всякой надежды. А тем временем в дороге он все больше сближался с Анулькой.
Старый Мацько ехал обычно впереди с Ягенкой, а за ними чех с Анулей; Глава был парень могучий, как тур, кровь в нем играла, и когда по дороге он поглядывал на ясные глазки Анули, на светлые прядки волос, выбивавшиеся у девушки из-под сетки, на всю ее стройную, ладную фигурку, и особенно на чудные, точеные ноги, которые охватывали бока вороного, его в дрожь кидало. Все чаще заглядывался он на все эти совершенства, невольно думая, что, если бы дьявол оборотился таким мальчишкой, то легко довел бы его до искушения. К тому же это был мальчишечка сладкий как мед, послушный такой, что только в глаза заглядывал, угадывая его желания, и веселый, как воробей на крыше. Иногда чеху приходили странные мысли в голову, и однажды, когда они с Анулей немного отстали и поравнялись с вьючными лошадьми, он вдруг повернулся к девушке и сказал:
– Еду я, знаете, подле вас, как волк подле ягненка.
А у нее только белые зубки сверкнули в милой улыбке.
– Вам хочется меня съесть? – спросила она.
– Да еще как! С косточками!
Он бросил на Анулю такой взгляд, что она зарумянилась, потом оба они смолкли, только сердца у них бились – у него от страсти, у нее же от сладкого, пьянящего страха.
Но вначале страсть подавляла у чеха нежное чувство, и он правду говорил Анульке, что глядит на нее, как волк на ягненка. Только в тот вечер, когда он увидел ее мокрые от слез щечки и ресницы, сердце его растаяло. Она показалась ему доброй, родной и близкой; он и сам по натуре был парень хороший, настоящий рыцарь, поэтому не только не возомнил о себе, увидев эти сладостные слезы, но стал робким и более внимательным к ней. В разговоре он не был уже развязен, и хотя за ужином иногда еще посмеивался над робостью девушки, но уже иначе, и притом служил ей так, как оруженосец рыцаря должен служить шляхтянке. Хотя старый Мацько думал главным образом о завтрашней переправе и о дальнейшем путешествии, однако он это заметил и похвалил Главу за хороший обычай, которому он, как говорил старик, научился, наверно, у Збышка при мазовецком дворе.
Тут он обернулся к Ягенке и прибавил:
– Эх, Збышко!.. Он и у короля нашелся бы!
После ужина, когда все стали расходиться, Глава поцеловал руку Ягенке, а потом поднес к губам и руку Анульки.
– Вы за меня не бойтесь, – сказал он девушке, – да и при мне ничего не бойтесь, я вас никому не дам в обиду.
Мужчины после ужина легли спать в горнице, а Ягенка с Анулькой в боковуше вдвоем на широкой и мягкой постели. Девушкам что-то не спалось, особенно Ануля все ворочалась на своей холщовой простыне. Через некоторое время Ягенка придвинулась к ней и шепнула:
– Ануля?
– Что тебе?
– Что-то… сдается мне, что тебе очень по сердцу чех… Правда ведь?
Ответа не последовало, тогда Ягенка снова зашептала:
– Я ведь понимаю… Ты скажи мне…
Анулька не ответила и на этот раз, только прижалась губами к щеке Ягенки и осыпала свою госпожу поцелуями.
У бедной Ягенки девичья грудь стала вздыматься от вздохов.
– Ах, понимаю я тебя, понимаю! – шепнула она так тихо, что Ануля с трудом уловила ее слова.
XI
День после мглистой, теплой ночи встал ветреный, на дворе то прояснялось, то снова хмурилось, когда по небу, гонимые ветром, проносились стаи туч. Мацько велел выступать с рассветом. Смолокур, который взялся довести путников до Буд, уверял, что лошади пройдут всюду, но повозки кое-где придется разбирать и переносить по частям, да и лубяные короба с одеждой и припасом тоже придется перетаскивать на руках. Это было хлопотное и нелегкое дело; но закаленные, привычные к труду люди, чем сидеть сложа руки в пустой корчме, предпочли бы самую тяжелую работу и поэтому охотно двинулись в путь. Перестал бояться даже ободренный смолокуром трусливый Вит.
Сразу же за корчмой путники углубились в высокоствольный чистый лес, где, умело правя лошадьми, можно было подвигаться вперед, даже не разбирая телег. Ветер то затихал, то налетал порывами с неслыханной силой, точно хлопая огромными крыльями по ветвям стройных сосен, пригибая к земле, ломая и выворачивая их и крутя вершины, словно крылья ветряной мельницы; лес гнулся под неистовым дыханием бури и даже в минуту затишья не переставал шуметь, словно негодуя на такой налет ветра и такое насилие. Тучи по временам совсем заслоняли дневной свет; сек дождь вперемешку со снежной крупой, и становилось так темно, словно надвигались вечерние сумерки. Тогда Вит снова терял присутствие духа и кричал, что «нечистая сила осердилась и не дает им идти»; но его никто не слушал; даже пугливая Ануля не принимала близко к сердцу его слов: ведь чех был так близко, что она могла коснуться стременем его стремени, и так смело глядел вперед, будто хотел вызвать на единоборство самого дьявола.
За высокоствольным бором начиналась лесная дрема, а там глухая чаща, где совсем нельзя было проехать. Пришлось разобрать повозки, что было сделано с большой ловкостью и быстротой. Крепыши слуги перенесли на плечах колеса, дышла и передки, а затем перетаскали узлы и припасы. Такого бездорожья оказалось всего каких-нибудь четверть версты, и все же путники добрались до Буд только к вечеру. Смолокуры радушно приняли их и заверили, что по Чертову логу, вернее – вдоль него, можно добраться до города. Эти люди, привыкшие к лесу, редко видали хлеб и муку, но не страдали от голода. У них было вдосталь копченого мяса и особенно много копченых пескарей, все болота кругом кишели пескарями. Смолокуры щедро угощали ими прибывших, а сами жадно тянулись за лепешками. Среди них были женщины и дети, черные от смолистого дыма; был также один старый крестьянин, который прожил уже более ста лет и помнил еще ленчицкую резню 1331 года, когда крестоносцы до основания разрушили город. Мацько, чех и обе девушки слыхали уже подобный рассказ от приора в Серадзе, и все же они с любопытством слушали старика, который, сидя у костра и шевеля угли, казалось, шевелил и страшные воспоминания своей молодости. Да! В Ленчице, как и в Серадзе, не пощадили даже церквей и священников, и кровь стариков, женщин и детей лилась под ножами захватчиков. Крестоносцы, вечно крестоносцы! Все думы Мацька и Ягенки летели к Збышку, который находился теперь в волчьей пасти, среди враждебного племени, не ведающего ни жалости, ни законов гостеприимства. У Анули сердце замирало при мысли, что и им придется, быть может, гонясь за аббатом, заехать туда, где живут эти жестокие люди…
Но старик стал потом рассказывать о битве под Пловцами, положившей конец набегу крестоносцев; он участвовал в этой битве с железным чеканом в руках в пешем отряде, выставленном крестьянской общиной. В этой битве погиб почти весь род Градов, так что Мацько знал о ней досконально, однако и сейчас он будто впервые слушал рассказ о страшном разгроме немцев, когда они, словно нива под напором ветра, полегли под мечами польского рыцарства, побежденные могущественным королем Локотком…
– Да! Я все помню, – говорил старик. – Набежали они, пожгли города и замки, детей и тех резали в колыбелях; но пришла и для них черная година. Эх! И жаркая битва была! Только закрою глаза, так и вижу поле…
Он закрыл глаза и надолго умолк, шевеля только тихонько угли в костре, пока наконец Ягенка, не дождавшись продолжения рассказа, спросила в нетерпении:
– Как же это все было?
– Как это все было? – переспросил старик. – Помню я поле, будто сейчас его вижу: оно поросло кустами, справа тянулось болото да клочок стерни – так, клин небольшой. Но после битвы не стало видно ни кустов, ни стерни, ни болота – одно только оружие, мечи, секиры, копья да груды отменных доспехов, словно кто ими всю святую землю прикрыл… Отродясь не видывал я столько убитых и таких рек людской крови…
Мацько от этих воспоминаний снова воодушевился.
– Правда! – воскликнул он. – Велик бог милостию! Они тогда обратили в пепел наше королевство, как чума прошли по нашей земле. Разрушили не только Серадз и Ленчицу, но и много других городов. И что же? Живуч наш народ, и сила у него великая. Хоть ты, тевтонский пес, и схватишь его за горло, да задушить не сможешь, а он тебе еще зубы выбьет… Поглядите только, как отстроил король Казимир и Серадз, и Ленчицу: они еще краше стали, и съезды собираются там по-старому, а крестоносцы, как разбили их под Пловцами, так и лежат там да гниют. Дай-то, господи, чтоб им всегда такой был конец!
Старый мужик сперва одобрительно кивнул головой, но потом сказал:
– Нет, не лежат там и не гниют. После битвы повелел король пешим воинам копать рвы, помочь нам пришли и окольные мужики, рыли мы так, что только лопаты звенели. Уложили мы потом немцев во рвы и засыпали для порядка, чтоб не пошла от них какая зараза; но только они там не остались.
– Как так не остались? Что же с ними приключилось?
– Сам я этого не видал, скажу только, что люди потом говорили. Разыгралась после битвы неистовая буря, и двенадцать недель бушевала она, да все по ночам. Днем солнышко сияет, а ночью ветер так и рвет. Это целые тучи чертей кружили в вихре, да все с вилами; подлетит черт, тык вилами в землю, подденет крестоносца да в пекло его и тащит. Народ в Пловцах такой шум слыхал, будто целые стаи собак выли, никто только понять не мог, немцы ли это выли со страху и с горя или черти от радости. И так было до той самой поры, покуда ксендзы не освятили ров и покуда земля под новый год не замерзла так, что в нее и вилы не всадишь.
Он умолк, а немного погодя прибавил:
– Дай-то, господи, пан рыцарь, такой конец им, как вы сказали, и хоть я до этого не доживу, да доживут такие парнишки, как эти вот двое, и не увидят они того, что видели мои глаза.
И он стал любоваться то на Ягенку, то на Анульку, дивясь чудным их личикам.
– Словно маки в хлебах, – сказал он, качая головой, – таких я еще не видывал.
За беседой прошла часть ночи, а там все улеглись спать в будах на мохе, мягком, как пух, и покрытом теплыми шкурами. А на другой день, когда богатырский сон укрепил их члены и совсем уже рассвело, путники двинулись дальше. Правда, дорога вдоль лога была нельзя сказать чтобы легкая, но, впрочем, не такая уж и трудная, так что еще до захода солнца путники увидели ленчицкий замок. Город был вознесен из пепла, частью отстроен из красного кирпича и даже камня. Стены были высокие, защищенные башнями, костелы еще великолепнее, чем в Серадзе. У доминиканцев путники легко разузнали про аббата. Он был в Ленчице, говорил, что ему лучше, что он надеется выздороветь, и несколько дней назад отправился дальше. Мацьку не было теперь надобности непременно догонять аббата, он все равно решил везти девушек в Плоцк, куда повез бы их и аббат; но старый рыцарь спешил к Збышку и потому очень обеспокоился, узнав о том, что уже после отъезда аббата вода в реках так поднялась, что ехать дальше было нельзя. Рыцарю со столь значительной свитой, направлявшемуся, по его словам, к князю Земовиту, доминиканцы оказали радушный прием и на дорогу снабдили даже оливковой дощечкой, на которой была начертана по-латыни молитва архангелу Рафаилу, покровителю путешествующих.
Две недели продолжалось вынужденное пребывание путников в Ленчице; один из оруженосцев замкового старосты обнаружил за это время, что у проезжего рыцаря оруженосцы – девушки, и тут же без памяти влюбился в Ягенку. Чех хотел тотчас вызвать его на бой на утоптанной земле, но все это произошло накануне отъезда, и Мацько отсоветовал Главе драться.
Когда они тронулись в путь, ветер уже подсушил дорогу. Правда, часто выпадали дожди, но, как всегда весною, они быстро проносились. Это были теплые и бурные ливни, пришла уже настоящая весна. На полях сверкали в бороздах светлые полоски воды, при каждом дуновении ветра от пашен тянуло прелью. Болота покрылись желтоголовниками, в лесах расцвели подснежники, малиновки весело звенели в ветвях. Путники ощутили прилив новой бодрости и надежды, ехали они хорошо и через шестнадцать дней остановились у ворот Плоцка.
Однако уже спустилась ночь, городские ворота были заперты, и путникам пришлось переночевать у ткача за городской стеной. Девушки легли поздно и после трудного и долгого путешествия уснули крепким сном. Как только отворили ворота, Мацько, который не знал устали, не стал будить их и сам отправился в город; он легко отыскал кафедральный собор и епископский дом, где ему первым делом сообщили, что аббат неделю назад умер.
Умер он неделю назад; но, по тогдашним обычаям, у гроба в течение шести дней служили панихиды, так что хоронить аббата должны были только сегодня, а после похорон должны были править тризну.
Разогорченный Мацько не стал даже осматривать город, с которым он, впрочем, успел немного познакомиться, когда ездил с письмом от княгини Александры к великому магистру, и поспешил за ворота города, к дому ткача.
«Да, помер, царство ему небесное! – рассуждал по дороге старик. – Тут уж ничего не поделаешь; но как же мне быть теперь с девчонками?», И он стал раздумывать, оставить ли их у княгини Александры или княгини Анны Дануты или уж лучше отвезти в Спыхов. Все думалось ему по дороге, что, если Дануси нет в живых, не худо было бы Ягенке быть поближе к Збышку. Он не сомневался, что Збышко долго будет тосковать по той, которую любил больше всех, долго будет ее оплакивать, но не сомневался и в том, что такая девушка, как Ягенка, под боком у парня свое дело сделает. Помнил он, что хоть рвалась душа Збышка через леса и боры в Мазовию, но при Ягенке его всегда брала истома. По этой причине Мацько, твердо уверенный в том, что Дануська погибла, не раз подумывал, что в случае смерти аббата Ягенку никуда усылать не следует. Но жаден был старик до земных благ и поэтому не мог не думать и о наследстве, оставшемся после аббата. Правда, аббат на них разгневался и грозился ничего им не оставить, ну, а вдруг он перед смертью раскаялся? Он оставил что-то Ягенке, в этом не было никакого сомнения, он и сам не раз говорил об этом в Згожелицах, а через Ягенку наследство, может статься, и так не минует Збышка. И все же Мацька так и подмывало остаться в Плоцке, обо всем поразведать и заняться всем этим делом; однако он тотчас подавил в себе это желание. «Я тут буду об имениях хлопотать, – думал он, – а мой хлопец, может, руки протягивает ко мне из тевтонского подземелья, спасения ждет от меня». Был, правда, один выход: оставить Ягенку на попечении княгини и епископа с просьбой присмотреть, чтобы девушку не обидели, если аббат ей что-нибудь оставил. Но не очень-то это понравилось Мацьку. «У девчонки и без того богатое приданое, – думал он, – а ежели она получит еще наследство после аббата, то, как бог свят, подхватит ее какой-нибудь мазур, да и она долго устоять не сможет, ведь еще покойный Зых говорил, что и тогда девка была огонь огнем». И испугался старый рыцарь, что Збышко может тогда остаться и без Дануси, и без Ягенки, а об этом он и думать не хотел.
«Какая ему от бога назначена, пусть та его и будет, но одна должна ему достаться».
В конце концов он решил прежде всего спасать Збышка, а Ягенку, если уж непременно надо будет с нею расстаться, оставить либо в Спыхове, либо у княгини Дануты, только не в Плоцке, где двор был гораздо более блестящим и где было много красивых рыцарей.
Погруженный в эти мысли, Мацько быстрым шагом шел к дому ткача, чтобы сообщить Ягенке о смерти аббата, а сам в душе давал себе слово сразу ей этого не говорить, чтобы от неожиданной и притом печальной вести дыхание не сперло в груди у девушки, отчего она впоследствии могла остаться бесплодной. Когда он пришел домой, обе девушки уже были одеты, даже принаряжены и веселы, как птички. Усевшись на скамейку, Мацько велел ученикам ткача принести миску подогретого пива, нахмурил и без того суровое лицо и сказал:
– Слышь, как в городе звонят? Угадай-ка, почему такой звон, нынче ведь не воскресенье, а утреню ты проспала. Хочешь видеть аббата?
– Конечно, хочу, – ответила Ягенка.
– Не видать тебе его как своих ушей.
– Неужто он дальше поехал?
– Как же, поехал! Разве не слышишь, что звонят?
– Помер? – вскричала Ягенка.
– Помолись за упокой души его.
Ягенка и Анулька тотчас опустились на колени и звонкими, как колокольчики, голосами начали читать заупокойную молитву. Слезы текли ручьем по лицу Ягенки, она очень любила аббата, который хоть и был горяч, но никому не причинял зла, а добро творил обеими руками и ее, свою крестницу, любил, как родную дочь. Мацько вспомнил, что аббат и ему со Збышком был сродни, и тоже растрогался и всплакнул, а когда от слез им стало легче, взял с собой чеха и обеих девушек и отправился в костел на отпевание.
Похороны были пышные. Погребальное шествие открывал сам епископ Якуб из Курдванова, были все священники и монахи плоцких монастырей, звонили во все колокола, произносили надгробные слова, которых никто не понимал, кроме духовенства, так как произносили их по-латыни, а затем и духовенство, и миряне отправились к епископу на богатую тризну.
Пошел на тризну и Мацько в сопровождении двоих оруженосцев, на что он как родственник покойного и знакомый епископа имел неоспоримое право. Епископ и принял его, как родственника покойного, с почетом и радушием и после первых же приветствий сказал:
– Вам, Градам из Богданца, завещаны леса, а все прочее, что не отписано монастырям и аббатству, оставлено крестнице аббата, некой Ягенке из Згожелиц.
Мацько на многое не рассчитывал и рад был и лесам. Епископ не заметил, что один из оруженосцев старого рыцаря при упоминании об Ягенке из Згожелиц поднял к небу голубые, как васильки, глаза, увлажненные слезами, и проговорил:
– Да вознаградит его бог, но я бы хотела, чтобы он был жив.
Мацько повернулся к оруженосцу и сердито сказал: