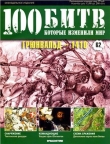Текст книги "Крестоносцы. Том 2"
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
L
Ветер к утру не только не стих, но усилился, так что нельзя было раскинуть шатер, в котором король с самого начала похода слушал каждый день три обедни. Прибежал наконец Витовт, стал просить и молить отложить службу до более подходящего времени, когда войско сможет укрыться в лесу, и не задерживать выступления. Волей-неволей пришлось покориться.
С восходом солнца войско лавой двинулось вперед, а за ним – необозримые вереницы повозок. Через час ветер поутих, и хорунжие смогли развернуть хоругви. Все поле кругом, насколько хватает глаз, покрылось словно пестрыми цветами. Не окинуть глазами было эту рать и лес знамен, под которыми двигались вперед полки. Шла краковская земля под красной хоругвью с белым орлом в короне; это была главная хоругвь всего королевства, великое знамя всего войска. Нес его Марцин из Вроцимовиц, герба Пулкозы, могучий и славный рыцарь. Далее шли королевские полки, один под двойным литовским крестом, другой под Погоней. Под знаменем Георгия Победоносца двигался сильный отряд иноземных наемников и охотников, состоявший преимущественно из чехов и моравов. На войну их много пришло, вся сорок девятая хоругвь состояла из одних моравов и чехов. Дикие и необузданные, особенно в пехоте, которая следовала за копейщиками, они были, однако, столь закалены в бою и с такой яростью бросались на врага, что все прочие пешие воины, сшибаясь с ними, отскакивали от них, как собака от ежа. Оружием им служили бердыши, косы, секиры и особенно железные чеканы; действовали они ими просто с устрашающей силой. Нанимались чехи и моравы ко всякому, кто платил деньги, ибо война, грабеж и сеча были их родной стихией.
Рядом с ними шли под своими знаменами шестнадцать хоругвей польских земель, в том числе одна перемышльская, одна львовская, одна галицкая и три подольские, а за ними пехота тех же земель, вооруженная больше рогатинами и косами. Мазовецкие князья, Януш и Земовит, вели двадцать первую, двадцать вторую и двадцать третью хоругвиnote 42Note42
Земовита IV под Грюнвальдом не было. Он выслал на битву две хоругви и сыновей.
[Закрыть]. За ними шли двадцать две хоругви епископов и вельмож: Яська из Тарнова, Ендрека из Тенчина, Спытка Леливы и Кшона из Острова, Миколая из Михалова, Збигнева из Бжезя, Кшона из Козихглув, Кубы из Конецполя, Яська Лигензы, Кмиты и Заклики, а кроме того, родовые хоругви Грифитов, Бобовских, Козих Рогов и многих других, которые выходили на войну под хоругвями с одним гербом, и клич у них был тоже один.
Земля расцвела под ними, как расцветают весною луга. Волна за волной текли кони и люди; над ними колыхался лес копий с пестрыми, словно цветочки, значками, а в хвосте выступали в облаках пыли пешие воины городов и деревень. Все знали, что идут на страшный бой, но знали, что это их долг, и с радостью шли вперед.
На правом крыле шли хоругви Витовта под разноцветными знаменами, но с одинаковым изображением литовской Погони.note 43Note43
то есть скачущего всадника (герб Литвы).
[Закрыть] Не окинуть взором было всю эту рать, которая растянулась вширь среди полей и лесов на целую немецкую милю.
К полудню войско подошло к деревням Логдау и Танненберг и остановилось на опушке леса. Место как будто было удобное для отдыха, защищенное от неожиданного нападения; с левой стороны его ограждал плес Домбровского озера, с правой – озеро Любень, а впереди открывалось поле шириною с милю. Посреди этого поля, плавно поднимавшегося к западу, зеленели болотистые леса Грюнвальда, а поодаль серели соломенные крыши и пустые унылые перелоги Танненберга. Если бы крестоносцы стали спускаться к лесам с возвышенности, их легко можно было бы заметить, но поляки не ждали врагов раньше следующего дня. Войско остановилось здесь только на отдых; искушенный в военном деле Зындрам из Машковиц даже в походе сохранял боевой порядок, и потому хоругви расположились так, чтобы в любую минуту быть готовыми к бою. По приказу военачальника в сторону Грюнвальда, Танненберга и дальше были посланы гонцы на легких и быстроногих конях, чтобы разведать окрестности, а тем временем для Ягайла, который жаждал молитвы, на высоком берегу озера Любень раскинули часовенный шатер, чтобы король мог прослушать свои три обедни.
Ягайло, Витовт, князья мазовецкие и военный совет направились в часовню. Перед ней собрались славнейшие рыцари, чтобы накануне решительного дня поручить себя богу да и поглядеть на короля. Все видели, как он шел в серой походной одежде, на суровом лице его лежала печать тяжелых забот. Годы мало изменили его, не покрыли морщинами лица и не убелили волос, которые он и сейчас заправлял за уши таким же быстрым движением, как и тогда, когда Збышко впервые увидел его в Кракове. Но теперь король шел, словно согбенный страшной ответственностью, тяготевшей на нем, словно погруженный в глубокую печаль. В войске говорили, что он все время плачет о христианской крови, которую придется пролить; так оно на самом деле и было. Ягайло содрогался при мысли о войне, особенно с людьми, у которых крест на плащах и хоругвях, и всей душой жаждал мира.
Напрасно польские вельможи и даже венгерские посредники, Сцибор и Гара,note 44Note44
Они были направлены Сигизмундом в Пруссию через Польшу, Ягелло разрешил им проезд. Результатом было лишь заключение десятидневного перемирия (24 июня – 4 июля). Роль венгерского короля в конфликте трудно назвать миротворческой. Сигизмунд безуспешно пытался склонить Витовта к разрыву с Польшей, суля ему королевский титул. За 40 тысяч флоринов он согласился объявить польскому королю войну. Владиславу Ягелло 12 июля доставили послание о разрыве мирного договора (в ответ на вторжение в орденские земли), а одновременно дали понять, что решительных действий не последует (король мог даже не сообщать войску накануне битвы об этом послании).
[Закрыть] обращали его внимание на то, что магистр Ульрих, обуянный гордыней, как и все крестоносцы, готов вызвать на бой весь мир; напрасно собственный посол короля, Петр Кожбуг, клялся крестом господним и рыбами своего герба, что крестоносцы и слышать не хотят о мире, что они глумились и издевались над единственным человеком, который склонял их к миру, – над гневским комтуром, графом фон Венде, – король все еще лелеял надежду, что враг признает правоту его требований, пожалеет людскую кровь и страшный раздор окончится справедливым миром.
И теперь король направился в часовню молиться о мире, ибо страшной тревогой была объята его простая и добрая душа. Когда-то он сам предавал огню и мечу земли крестоносцев, но он был тогда языческим литовским князем, а теперь, увидев полыхающие селения, пепелища, слезы и кровь, он, польский король и христианин, устрашился гнева божия, а ведь это было только начало войны. О, если бы на этом остановиться! Но не сегодня-завтра народы схватятся, и земля напитается кровью. Воистину, творит беззаконие враг, но он носит крест на плаще и столь великие святыни охраняют его, что при мысли о них трепещет душа христианина. Все войско со страхом думало о них, и не копий, не мечей, не секир боялись поляки, а прежде всего этих священных останков. «Как же поднять руку на магистра, – говорили рыцари, не знавшие страха, – коли на панцире у него ковчежец, а в нем святые кости и древо животворящего креста господня!» Да, Витовт жаждал битвы, он толкал Ягайла к войне и рвался в бой, но исполненный страха божия король просто трепетал при мысли о тех силах, которыми орден прикрывал свои беззакония.
LI
Ксендз Бартош из Клобуцка уже кончил первую обедню, калишский ксендз Ярош должен был скоро начать вторую,note 45Note45
В литературе высказывалось мнение, что король не торопился с началом битвы, желая, чтобы его войска заняли более удобные позиции, и что богослужение было одним из средств удержать воинов от преждевременного выступления.
[Закрыть] и король вышел из шатра поразмять ноги, затекшие от стояния на коленях; в эту минуту на взмыленном коне ураганом прискакал шляхтич Ганко Остойчик и крикнул, не успев соскочить с коня:
– Всемилостивейший король, немцы идут!
Рыцари при этих словах схватились за оружие, король же изменился в лице, умолк на мгновение, а затем воскликнул:
– Слава Иисусу Христу! Где ты их видел, сколько хоругвей?
– Я видел одну хоругвь у Грюнвальда, – задыхаясь, ответил Ганко, – но за холмом пыль поднималась, их, верно, больше шло!
– Слава Иисусу Христу! – повторил король.
При первых же словах Ганки кровь бросилась Витовту в лицо, глаза его разгорелись, как угли; повернувшись к придворным, великий князь крикнул:
– Отменить вторую обедню, коня мне!
Но король положил ему руку на плечо и сказал:
– Брат, ты поезжай, а я останусь и прослушаю вторую обедню.
Витовт и Зындрам из Машковиц вскочили на коней, но не успели они повернуть к лагерю, как примчался второй гонец, шляхтич Петр Окша из Влостова, и закричал еще издали:
– Немцы! Немцы! Я видел две хоругви!
– По коням! – раздались голоса в толпе придворных и рыцарей.
Не успел Петр кончить, как снова раздался конский топот и прискакал третий гонец, за ним четвертый, пятый и шестой: все видели, что движутся все новые и новые немецкие хоругви. Сомнений не было: вся рать крестоносцев преграждала дорогу королевскому войску.
Рыцари во весь дух понеслись к своим хоругвям. С королем у походной часовни осталась только горсточка придворных, ксендзов и оруженосцев. В эту минуту колокольчик возвестил, что калишский ксендз выходит служить вторую обедню. Ягайло воздел руки, молитвенно сложил их и, подняв очи горе, медленным шагом направился в шатер.
Когда кончилась обедня и он снова вышел из шатра, то собственными глазами увидел, что гонцы говорили правду: на краю широкой равнины, плавно поднимавшейся в гору, что-то темнело словно лес вырос нежданно на пустынных полях, а над лесом, переливаясь на солнце всеми цветами радуги, развевались хоругви. Еще дальше, за Грюнвальдом и Танненбергом, к небу поднималась туча пыли. Король окинул взором всю грозную эту картину, а затем спросил у ксендза подканцлера Миколая:
– Какого нынче святого мы поминаем?
– Нынче день апостолов, – ответил ксендз подканцлер.
Король вздохнул.
– Итак, день апостолов станет последним днем жизни для многих христиан, которые схватятся сегодня на этом поле.
И он указал рукой на широкую пустынную равнину, посредине которой, на полпути к Танненбергу, виднелась лишь купа вековых дубов.
Тем временем королю подвели коня, а в отдалении показались шестьдесят копейщиков, которых Зындрам из Машковиц прислал для личной охраны его величества.
Королевской стражей предводительствовал Александрnote 46Note46
Сын Земовита А л е к с а н д р (1400 – 1444) – был впоследствии ректором Краковской академии, епископом и кардиналом.
[Закрыть], младший сын плоцкого князя, брат того самого Земовита, который обладал особым даром полководца и заседал в военном совете. Следующее за ним место занимал в охране литовский племянник государя, Зигмунт Корибутnote 47Note47
З и г м у н т К о р и б у т, племянник Ягелло, сыграл впоследствии заметную роль в истории Чехии. Гуситы предлагали чешскую корону сперва польскому королю, затем Витовту, который и послал в 1422 г. Зигмунта в Прагу как наместника. Зигмунт примкнул к гуситскому движению, деятельно участвовал в войнах. Под конец жизни он принял участие в выступлении Свидригайла против Польши, в одной из битв попал в плен и умер от ран в 1435 г.
[Закрыть], юноша беспокойный, но подававший большие надежды, которому пророчили великую будущность. Из рыцарей наиболее прославленными были: Ясько Монжик из Домбровы, сущий великан, очень схожий статью с Пашком из Бискупиц, а в силе мало чем уступавший самому Завише Чарному; чешский барон Жулава, щуплый, худощавый, но на диво искусный воитель, прославившийся своими поединками при чешском и венгерском дворах, где он положил десятка два австрийских рыцарей; и другой чех, Сокол, лучник над лучниками; Бениаш Веруш из Великой Польши; Петр Миланский; литовский боярин Сенко из Погоста, отец которого, Петр, предводительствовал одной из смоленских хоругвей; родич короля, князь Федушко; князь Ямонт и, наконец, польские рыцари, «избранные из тысяч», которые поклялись до последней капли крови защищать короля и охранять его в битве от опасности. Непосредственно при особе короля находились: ксендз подканцлер Миколай и писец – Збышко из Олесницы, ученый юноша, искусный в чтении и письме, и вместе с тем сильный, как вепрь. Оружие государя охраняли три оруженосца: Чайка из Нового Двора, Миколай из Моравицы и Данилко Русин, который держал лук короля и колчан. В свите состояло также десятка два придворных, которые на быстрых скакунах должны были доставлять войску приказы.
Оруженосцы облачили короля в пышные блестящие доспехи, а затем подвели ему гнедого коня, тоже «избранного из тысяч», который в знак доброго предзнаменования фыркал из-под стального налобника и, оглашая воздух ржанием, приседал, будто птица, готовая взмыть кверху. Почувствовав под собой коня, а в руке копье, король мгновенно преобразился. Выражение грусти пропало на его лице, маленькие черные глаза сверкнули огнем, на щеках заиграл румянец; но это длилось лишь один краткий миг – когда ксендз подканцлер стал осенять его крестом, король снова стал мрачен и смиренно склонил голову в серебристом шлеме.
Тем временем немецкое войско, медленно спускаясь с холмов, миновало Грюнвальд, миновало Танненберг и в полном боевом порядке остановилось посредине поля. Снизу из польского лагеря были прекрасно видны грозные ряды рослых, закованных в броню коней и рыцарей. Когда ветер не так сильно развевал хоругви, зоркий глаз мог даже явственно различить знаки, которыми были расшиты доспехи: кресты, орлы, грифы, мечи, шлемы, агнцы, головы зубров и медведей.
Старый Мацько и Збышко, которые воевали уже с крестоносцами и знали их войско и гербы, показывали своим серадзянам две хоругви магистра, в которых служили цвет и гордость рыцарства, главную хоругвь ордена, которой предводительствовал Фридрих фон Валленрод, могучую хоругвь Георгия Победоносца, под знаменем с красным крестом на белом поле, и множество других хоругвей крестоносцев. Мацько и Збышко не знали только знамен разных иноземных гостей, тысячи которых стекались сюда со всех концов света: из Австрии, Баварии, Швабии и Швейцарии, из Бургундии с ее прославленным рыцарством, из богатой Фландрии, из солнечной Франции, о рыцарях которой Мацько в свое время рассказывал, что, даже поверженные в прах, они говорят дерзкие слова, из заморской Англии – родины метких лучников, и даже из далекой Испании, где в непрерывных сражениях с сарацинами расцвели, как нигде, мужество и рыцарская доблесть.
При мысли о том, что через минуту им придется схватиться с немцами и всем этим блестящим рыцарством, кровь закипела в жилах непреклонных шляхтичей из Серадза, Конецполя, Кшесни, Богданца, Рогова и Бжозовой и из прочих польских земель. У стариков лица стали суровы и сосредоточенны, они знали, какой тяжкий и суровый ждет их бранный труд. Зато у молодых сердца забились, как бьются, скуля, на своре собаки, завидев издали дикого зверя. Одни крепче сжимали копья, рукояти мечей и секир и осаживали коней, словно готовясь к прыжку; другие пылали; иные дышали тяжело, словно им стал вдруг тесен панцирь. Однако искушенные опытом воители успокаивали их. «Не минует сия чаша и вас, – говорили они, – хватит на всех, дай только бог, чтобы не стала она чашей смертной».
Озирая с холмов лесистую низменность, крестоносцы видели на опушке леса лишь десятка два польских хоругвей и не знали, все ли это королевское войско. Правда, слева, у озера, тоже виднелись серые толпы воинов, а в кустах сверкали как будто сулицы, то есть легкие копья литвинов. Но это мог быть и крупный разведочный польский отряд. И лишь беглецы из разрушенного Гильгенбурга, десятка два которых привели к магистру, заверили, что крестоносцам противостоит все польско-литовское войско.
Но напрасно говорили беглецы о том, сколь сильно это войско. Магистр Ульрих не хотел им верить, ибо с самого начала этой войны он верил только в то, что было ему на руку и предвещало несомненную победу. Разведчиков и гонцов он не рассылал, полагая, что решительная битва все равно должна разыграться, а кончиться она может только страшным разгромом врага. Уверенный в силе своего неисчислимого войска, какого еще ни один магистр не выводил доселе на битву, он пренебрегал врагом; когда же гневский комтур, который по собственному почину производил разведку, докладывал ему, что у Ягайла войско все же больше, магистр отвечал ему:
– Что это за войско! Только с поляками придется повозиться, а все прочие – будь их хоть тьма там – просто сброд, который не оружием ловко орудует, а ложкой.
Двигаясь с неисчислимой силой в бой, магистр вспыхнул от радости, когда, представ вдруг перед неприятелем, увидел пурпурную хоругвь всего королевства, приметную на темном фоне леса, и перестал сомневаться в том, что перед ним стоят главные силы короля.
Но немцы не могли ударить на поляков, стоявших под лесом и в самом лесу, ибо рыцарство было страшным только в открытом поле, а сражаться в лесной чаще не любило и не умело.
Магистр созвал военачальников на краткий совет, чтобы решить, как выманить врага из лесу.
– Клянусь Георгием Победоносцем! – воскликнул он. – Мы проехали без отдыха две мили, изнываем от жары, обливаемся под доспехами потом. Не станем же мы ждать, пока врагу вздумается выйти в поле.
В ответ на это умудренный годами и опытом граф Венде сказал:
– Посмеялись уже здесь над моими словами, и посмеялись те, кто, чего доброго, побежит с этого поля, на котором я сложу свою голову. – Тут он бросил взгляд на Вернера фон Теттингена. – И все же я скажу то, что повелевают мне сказать совесть и любовь к ордену. Нет, не трусы поляки; знаю я, что это король до последней минуты ждет посланцев мира.
Ничего не ответил ему Вернер фон Теттинген, только фыркнул пренебрежительно; но речи Венде не по вкусу пришлись магистру.
– Разве время теперь думать о мире! – воскликнул он. – О другом надо держать нам совет.
– Делу, которое угодно богу, всегда время, – возразил фон Венде.
Но свирепый члуховский комтур Генрих, который поклялся, что прикажет носить перед собою два обнаженных меча до тех пор, пока не обагрит их польскою кровью, обратил на магистра свое жирное, лоснящееся от пота лицо и вскричал в диком гневе:
– По мне, лучше смерть, чем позор! Я один ударю с этими мечами на все польское войско!
Ульрих насупился.
– Ты непокорствуешь, – сказал он.
А затем обратился к комтурам:
– Подумайте, как выманить врага из лесу.
Каждый военачальник давал свой совет; но комтурам и славнейшим иноземным рыцарям понравился совет Герсдорфа отправить к королю двух герольдов, которые возвестили бы, что магистр посылает ему два меча и вызывает поляков на смертный бой, а коли мало им поля, то он, магистр, отойдет с войском, чтобы дать и им место.
Не успел король покинуть берег озера и направиться на левое крыло к польским хоругвям, где он должен был опоясать многих рыцарей, как ему дали вдруг знать, что со стороны войска крестоносцев едут два герольда.
Сердце Владислава преисполнилось надеждой:
– А может, они едут со справедливым миром!
– Дай-то бог! – ответили духовные.
Король послал за Витовтом, но великий князь был занят построением своих хоругвей и не мог прибыть, а герольды тем временем не спеша приближались к лагерю.
В ярких лучах солнца было ясно видно, как они подъезжают на рослых, покрытых попонами боевых конях; у одного из них на щите был императорский черный орел на золотом поле, у другого, который был герольдом князя щецинскогоnote 48Note48
Казимира V (ум. в 1435 г.).
[Закрыть], – гриф на белом поле. Ряды воинов расступились перед ними, и, спешившись, герольды через минуту предстали перед великим королем; склонив головы и воздав тем самым ему почесть, они приступили к делу.
– Магистр Ульрих, – сказал первый герольд, – вызывает вас, ваше величество, и князя Витовта на смертный бой и, дабы поднять дух ваш, а храбрости у вас, видно, мало, посылает вам эти два обнаженных меча.
С этими словами он сложил мечи у королевских ног. Ясько Монжик из Домбровы перевел его слова королю, и как только он кончил переводить, выступил вперед второй герольд, с грифом на щите, и сказал:
– Магистр Ульрих повелел возвестить вам, государь, что, коли мало вам поля для битвы, он отойдет со своим войском, дабы не тратили вы в лесу праздно время.
Ясько Монжик перевел и его слова; воцарилась тишина, только рыцари королевской свиты, услышав эти дерзостные и оскорбительные речи, заскрежетали тихо зубами.
Последняя надежда Ягайла пропала. Он ожидал посланцев мира и согласия, а перед ним предстали посланцы гордыни и войны.
Подняв горе увлажненные слезами глаза, он ответил:
– Нет у нас недостатка в мечах; но я принимаю и эти, как предвозвестие победы, которое через вас ниспосылает мне сам бог. И поле битвы определит всевышний, к суду коего я взываю, коему жалобу приношу на обиду, нанесенную мне, на беззаконие ваше и гордыню, аминь.
И две крупные слезы скатились по его смуглым щекам.
Но тут в толпе рыцарей раздались голоса:
– Немцы отходят. Дают нам поле!
Герольды удалились, и через минуту их увидели снова; они поднимались в гору на своих рослых конях, и шелковые одежды, надетые поверх доспехов, переливались в солнечных лучах.
Польское войско стройными боевыми порядками выступило из лесной чащи. В передних рядах шли самые могучие рыцари, за ними, отступив, – главная хоругвь, а уж за главной хоругвью – пешие и наемные воины. Таким образом, между рядами войска образовались две длинные улицы, вдоль которых пролетали на конях Зындрам из Машковиц и Витовт. Последний без шлема, в блестящих доспехах был подобен зловещей звезде или пламени, гонимому вихрем.
Рыцари втягивали полной грудью воздух и крепче усаживались в седлах.
Вот-вот должна была начаться битва.
Тем временем магистр озирал королевское войско, которое выступало из лесу.
Долго глядел он на бесчисленные его ряды, на два распростершихся, словно у огромной птицы, крыла, на радужные переливы колеблемых ветром хоругвей, и вдруг сердце его сжалось от незнакомого страшного предчувствия. Быть может, духовному взору его представились горы трупов и реки крови. Он не страшился людей; но, быть может, убоялся бога, который там, на небесах, держал уже чаши весов победы…
Впервые пришло ему на ум, что настал страшный день, и только сейчас он почувствовал, сколь безмерна тяжесть ответственности, которую принял он на свои плечи.
Лицо его побледнело, губы задрожали, и из глаз полились слезы. Комтуры с изумлением смотрели на своего вождя.
– Что с вами? – спросил граф Венде.
– Вот уж поистине подходящее время для слез! – воскликнул комтур члуховский, свирепый Генрих.
А великий комтур Куно Лихтенштейн произнес, выпятив губы:
– Я открыто осуждаю вас за это, магистр, ибо ныне вам приличествует поднимать дух рыцарей, а не расслаблять сердца их. Воистину, не таким мы доныне видели вас.
Но магистр не мог унять слезы, и они все текли на его черную бороду, словно это не он плакал, а кто-то другой.
Наконец, совладав с собою и обратив суровый взор на комтуров, он крикнул:
– К хоругвям!
И так властен был этот призыв, что все бросились к своим хоругвям, а он протянул руку и приказал оруженосцу:
– Подай мне шлем.
У воинов обеих ратей уже давно молотом стучали сердца, а трубы все еще не давали сигнала к бою.
Наступила минута ожидания, которая всем показалась тягостней самой битвы. Между немцами и королевским войском, ближе к Танненбергу, высилась в поле купа вековых, дубов, на которые взобрались местные крестьяне, чтобы поглядеть на схватку несметных ратей, каких мир не видывал с незапамятных времен. Одна только эта купа дубов и видна была в поле, а так все оно было пустынным, унылым и серым, подобным мертвой степи. Только ветер гулял по нему да над ним тихо витала смерть. Взоры рыцарей невольно обращались к этой зловещей, безмолвной равнине. Тучи, проносясь по небу, по временам застилали солнце, и тогда на равнину падала тень смерти.
И вдруг поднялась буря. Она зашумела в лесу, сорвала множество листьев, ринулась в поле, подхватила сухие стебли трав, подняла тучи пыли и швырнула их в глаза крестоносцам. И в эту минуту воздух сотрясли звуки труб, рогов и пищалок, и все литовское крыло ринулось вперед, словно несметная стая птиц. Литвины, по своему обычаю, с места пустились вскачь. Вытянув шеи и прижав уши, кони во весь дух мчались вперед; размахивая мечами и сулицами, всадники с оглушительным криком летели на левое крыло крестоносцев.
Именно там был магистр. Тревога его смирилась, слезы иссякли, глаза сверкали. Увидев тьму литвинов, он обратился к Фридриху Валленроду, который предводительствовал левым крылом:
– Витовт выступил первым. Начинайте и вы во имя бога.
И манием правой руки он двинул в бой четырнадцать хоругвей железного рыцарства.
– Gott mit uns!note 49Note49
С нами бог! (нем.)
[Закрыть] – воскликнул Валленрод.
Наклонив копья, хоругви сперва тронулись шагом. Но как сброшенный с горы камень набирает при падении все большую скорость, так и крестоносцы перешли с шага на рысь, затем на галоп и мчались страшные, неукротимые, словно лавина, которая должна все сокрушить, все смести с лица земли, что только встретится на ее пути.
Земля дрожала и сотрясалась под ними.
С минуты на минуту битва должна была разлиться и разгореться по всему строю, и польские хоругви запели старую боевую песнь святого Войцехаnote 50Note50
В о й ц е х (ок. 955 – 997) был чехом, пражским епископом, прибыл в Польшу в 996 г., отправился к пруссам с религиозной миссией и был убит. Канонизирован в 999 г. Цитируемый ниже боевой гимн, песнь о Богородице, – старейшее из польских религиозных песнопений. Легенда XVI в. приписала авторство Войцеку, но о доказательствах говорить трудно. Лингвистические данные не исключают разнобоя в гипотезах (от Х по XIV в.).
[Закрыть]. Тысячи одетых бронею голов поднялись к небу, тысячи очей устремились ввысь, и из тысяч грудей вырвался один могучий голос, подобный небесному грому:
Божья матерь, дева матерь, О пречистая Мария, Ты Христа нам Иисуса Ниспошли, низведи…
Кирие элейсон!..
И они тотчас ощутили силу в своих жилах и в сердце своем готовность принять смерть. И такая неодолимая победная мощь слышалась в их голосах, словно по небу и в самом деле перекатывался гром. Колыхнулись копья в руках рыцарей, колыхнулись хоругви и значки, колыхнулся воздух, затрепетали ветви в лесу, разбуженное эхо отозвалось в его недрах и, как бы вторя песне, понесло ее по озерам и лугам, по всей необъятной шири:
Ниспошли, низведи…
Кирие элейсон!..
А поляки все пели:
Христе, сыне божий, на тя уповаем, Услыши глас наш, к тебе взываем, Услышь, господи, моленья, Ниспошли благословенье, Житие во смирении И по смерти спасение…
Кирие элейсон!..
И эхо снова подхватило: «Кирие элейсон!» А на правом крыле, все приближаясь к середине поля, уже кипела жестокая битва.
Гром, ржание коней, страшные крики воителей смешались со звуками песни. Но по временам крики стихали, словно у людей спирало дух, и тогда снова можно было услышать гром голосов:
Адам, ты у бога в совете, Взывают к тебе твои дети, Исполнили мы обеты, В чертог нас райский прими!
Там радость, Там сладость, Там бога мы узрим, всевышнего узрим…
Кирие элейсон!
И снова эхом раскатилось по лесу: «Кирие элейсон!» Крики на правом крыле стали громче; но никто не мог ни увидеть, ни рассказать, что там творится, ибо магистр Ульрих, наблюдавший с холма за битвой, обрушил в эту минуту на поляков двадцать хоругвей под предводительством Лихтенштейна.
К передним рядам поляков, состоявшим из прославленных рыцарей, ураганом примчался Зындрам из Машковиц и, указывая мечом на надвигавшуюся тучу немцев, крикнул так громко, что кони в первом ряду присели на задние ноги:
– Вперед! На врага!
Припав к шеям коней и наставив копья, рыцари ринулись вперед.
Но Литва дрогнула под страшным натиском немцев. Полегли в бою первые ряды лучше вооруженных знатных бояр. Следующие яростно схватились с крестоносцами; но никакое мужество, никакая стойкость, ничто не могло спасти их от разгрома и гибели. Да и как могло быть иначе, когда на одной стороне сражались рыцари, закованные в броню, на защищенных бронею конях, а на другой – крепкий и рослый народ, но на маленьких лошадках и покрытый одними звериными шкурами?.. Тщетно упорный литвин силился добраться до шкуры немца. Сулицы, сабли, рогатины, палицы с насаженными на них кремнями или гвоздями отскакивали от железных доспехов, словно от каменной глыбы или замковой стены. Люди и кони теснили злосчастные рати Витовта, их рубили мечи и секиры, пронзали и крушили бердыши, топтали конские копыта. Тщетно князь Витовт бросал на смерть все новые и новые рати, тщетно было упорство, напрасно презрение к смерти, напрасны реки крови! Сначала рассыпались татары, бессарабы и валахи, а вскоре дала трещину стена литвинов, и дикое смятение охватило всех воинов.
Большая часть литовского войска бежала в сторону озера Любень, а за ней бросились в погоню главные немецкие силы; тысячами косили крестоносцы бегущих, так что весь берег озера усеялся трупами.
Другая, меньшая часть войска Витовта, состоявшая из трех смоленских полков, отступала к польскому крылу, теснимая шестью хоругвями немцев, к которым присоединились потом и те, что преследовали литвинов. Но смоленцы были лучше вооружены и упорно сдерживали натиск врага. Битва обратилась в кровавую сечу. За каждый шаг, за каждую пядь земли лились реки крови. Один из смоленских полков был почти совсем уничтожен. Два другие боролись с яростью и отчаянием. Но воодушевленных победой немцев уже ничто не могло остановить. Некоторые их хоругви пришли в исступление. Многие рыцари, вонзая шпоры в бока коням и поднимая своих скакунов на дыбы, очертя голову бросались с занесенной секирой или мечом в самую гущу врагов. Удары их мечей и бердышей стали страшными по силе, и вся лавина, тесня, топча и круша смоленских витязей, зашла наконец во фланг переднему и главному польским отрядам, которые уже час сражались с немцами, предводимыми Куно Лихтенштейном.
Но с поляками Лихтенштейну не так легко было справиться, потому что и броня, и кони были у них лишь немногим хуже, а рыцарская выучка одинакова. Польские тяжелые копья остановили немцев и отбросили их назад; первыми на крестоносцев обрушились три грозные хоругви: краковская, конная под предводительством Ендрека из Брохоциц и королевская, которой предводительствовал Повала из Тачева. Однако самая жестокая битва разгорелась только после того, как рыцари, переломав копья, схватились за мечи и секиры. Щит ударялся о щит, сшибались воители, падали кони, повергались знамена; под ударами мечей и обухов трещали шлемы, наплечники и панцири; обагрялось кровью железо, и рыцари валились с седел, как подрубленные сосны. Те крестоносцы, которые уже сражались с поляками под Вильно, знали, как «дик» и «необуздан» этот народ; но потрясенные новички и иноземные гости испытали чувство, подобное страху. Не один из них, невольно осадив коня, потерянно глядел вперед и погибал от удара польской длани, так и не успев сообразить, что же ему делать. Словно град, который сыплется из медно-черной тучи, безжалостно выбивая ржаное поле, сыпались на врага страшные удары; разили мечи, разили топоры, разили секиры, разили без пощады, без отдыха и передышки; лязгали, словно в кузнице, железные доспехи; смерть, как вихрь, гасила жизни; стон рвался из груди, потухали глаза, смертельная бледность разливалась по лицам, и молодые воины погружались в вечный сон.
Летели искры, высеченные железом, обломки копий, значки, страусовые и павлиньи перья. Конские копыта скользили по лежавшим на земле окровавленным панцирям и убитым коням. Раненых кони топтали подковами.
Но никто не пал еще из прославленных польских рыцарей; выкрикивая имена своих патронов или родовые кличи, они шли вперед в шуме и смятении, как огонь идет по сухой степи, пожирая кусты и травы. Лис из Тарговиска первый напал на могучего комтура из Остероды, Гамрата, который, потеряв щит, обвил руку своим белым плащом и прикрывался им от ударов.
Лезвием меча Лис рассек плащ и наплечник и отрубил Гамрату руку, а другим ударом проткнул ему живот так, что острие уперлось в спинной хребет. Увидев гибель вождя, воины из Остероды в тревоге подняли крик; но Лис ринулся на них, как орел на журавлей. Сташко из Харбимовиц и Домарат из Кобылян бросились к нему на помощь, и втроем они в ярости щелкали крестоносцев, словно медведи, когда, забравшись на поле гороха, они лущат молодые стручки.