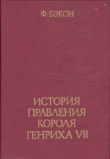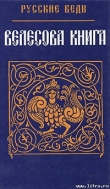Текст книги "Книга Вечной Премудрости"
Автор книги: Генрих Сузо
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Признаком этого является то обстоятельство, что обезличенные маски дидактического диалога подвергаются в текстах Сузо проникновенной интимной персонификации. Образ Христа-Учителя, причем Христа распятого, вызывает у читателей гораздо более глубокое и сильное переживание, чем простая формальная почтительность к авторитету наставника. Ученик, Служитель Вечной Премудрости, также предстает не в рафинированных условиях виртуальной школьной аудитории, но в самый драматичный момент своей жизни. Создаваемая Сузо панорама интимного автобиографизма преподносит этот образ не как продукт школьной нормативности с институционально ограниченной сферой значимости, пригодный разве что для искусственных, дидактически моделируемых ситуаций, но представляет ее как фигуру, имеющую универсальный, общезначимый характер. При этом вопрос о том, насколько структурированная по методу автобиографизма интимность Служителя Вечной Премудрости отражает подлинную историю внутреннего мира исторического Генриха Сузо, представляется в данном случае совершенно второстепенным.
Характеризующие диалог между Учителем и Учеником иерархические отношения в силу несопоставимости человека и Бога окрашиваются у Сузо в апофатические тона и приобретают характер драматической неопределенности, с какой бедный грешник молится всемогущему Богу, не ожидая от Него ничего и все же надеясь на Его милосердие. Характерные для жанра дидактического диалога информативность и наставительность в текстах Сузо сохраняются. Однако то главное, что сообщает своему Служителю Вечная Премудрость, – это не определения и не сентенции, обогащающие интеллектуальный багаж Ученика, но совершенная Личность, сам Иисус Христос, к божественности Которого Ученик должен прийти через Его человечность. Поэтому при всей дидактической, наставительной ориентации диалогов Сузо главная их тема – не столько сообщаемое знание, сколько раскрытие фундаментальной личностной связи человека и Бога, причем в самой что ни на есть практической перспективе.
В «Книге Вечной Премудрости» диалог между Служителем и Вечной Премудростью уже в прологе стилистически оформляется как литературный диалог. Фабула, искусственность которой автор не скрывает, объясняет читателю цель создания произведения, оправдывает замысел автора и одновременно сразу же вводит нас в область сверхъестественного. Испытывая затруднения в служении Богу, Служитель обращается к Всевышнему с просьбой открыть ему правильный путь. В результате он получает свыше наставление сто раз распростереться на земле, каждый раз созерцая особым образом страдания Иисуса Христа на Кресте[154]154
BdEW 196, 2-12.
[Закрыть]. Когда в конце концов не без затруднений ему все же удается исполнить предписанное, он, осознавая всю нормативную важность данного типа служения, решает для наставления других записать то, что с ним произошло, добавляя, что он это делает по-немецки, потому что именно по-немецки ему было и откровение от Бога[155]155
BdEW 197, 10 sq.
[Закрыть].
Последняя обмолвка кажется несколько странной и противоречащей представлению о несомненном приоритете в священных вопросах латинского, древнегреческого и древнееврейского языков, общему для всей средневековой культуры Западной Европы. Неужели перед нами одно из, так сказать, первых свидетельств возросшей богословской значимости народных языков, процесса, уходящего, несомненно, своими истоками в позднее Средневековье и завершившегося апофеозом Реформации?
Между тем, такая интерпретация, при всей ее кажущейся привлекательности, как и любая сделанная post factum ретроспективная проекция, представляется не слишком убедительной. Полагаю, что современным исследователям средневековой мистики на народных языках нет никакого резона в том, чтобы в духе прогрессистской историографии XIX в. стремиться отыскивать в тех или иных элементах средневековой культуры легитимное основание
Реформации или протестантизма. К тому же сам Генрих Сузо, придумывая столь фантастический сюжет в прологе своей «Книги Вечной Премудрости», вряд ли имел в виду какое-либо всеобщее оправдание немецкого языка перед лицом богословской латыни. Максимум, о чем идет речь, – это оправдание достоверности религиозного опыта, описываемого по-немецки. Иначе говоря, Сузо стремился к тому, чтобы записанное им имело значение не только для ученых богословов и монахов, владеющих латинским языком, но и для читателей, для которых путь к овладению ученой латыни был закрыт – для горожан и особенно женщин. Не случайно поэтому, что «Книга Вечной Премудрости» получила такое широкое распространение в женских монастырях.
И все же оговорку Сузо следует, по-видимому, понимать в более узком, конкретном смысле, а именно как оправдание написания по-немецки именно этой книги. Особенно это важно для третьей части «Книги Вечной Премудрости», так называемых «Ста созерцаний», которая, собственно, и представляет собой фиксацию откровения и последовавших за ним событий, о которых Сузо повествует в прологе. В силу практической ориентации этой части в условиях всеобщего доминирования в литургической, молитвенной и духовной практике латинского языка попытка Сузо придать своим записям легитимный характер представляется вполне адекватной. О том, что при всей кажущейся нарочитости и ходульности оговорка Сузо была воспринята современниками и потомками как вполне удачная, свидетельствует огромное количество списков «Ста созерцаний», встречающихся по всей Европе в столь огромном количестве манускриптов, что точно подсчитать их число до сих пор не представляется возможным. И это не считая бесчисленных парафраз, аллюзий, эксцерптов и подражаний, которые в культуре позднего Средневековья можно порой встретить в самых неожиданных местах.
И все-таки вряд ли стоит рассматривать Генриха Сузо исключительно в интригующем ключе языкового, религиозного и литературного новаторства. Через пару страниц все в том же прологе «Книги Вечной Премудрости» он, словно спохватившись, оговаривается во второй раз. Теперь его слова полны сожаления о том, что он написал книгу на таком несовершенном языке, как немецкий.
Он старается убедить нас в том, что это признак необразованности и даже греховности автора книги. Подлинное содержание книги, уверяет он, не способен выразить ни один человеческий язык, тем более вульгарный немецкий[156]156
BdEW 199, 19.
[Закрыть]. Однако, несмотря на то, что высшая истина сквозь мутное стекло несовершенного языка видна плохо, ее общие контуры все же разглядеть можно. Обе оговорки, одна – в начале, другая – в конце пролога, парадоксальным образом соединяют оптимизм опыта откровения и апофатизм рассказа об этом опыте, чудесную несомненность божественной реальности и грубость человеческого разумения, непроницаемого для высших смыслов, которые оно хотя и отражает, но не способно самостоятельно ни постичь до конца, ни выразить словами. А то, что Сузо не имел никаких амбиций и намерений реабилитировать немецкий язык и поднять его статус как языка богословия, подтверждает и один пассаж из 27-го письма «Большой книги писем»: «Благая молитва, добрые слова и хорошая немецкая книга – все это послание любовное божественной любви твоей. Но прояви благоразумие и не слишком желай этих вещей»[157]157
Bihlmeyer, 484, 10–12. См. также: Bindschedler, Maria. Seuses Auffassung von der deutschen Sprache // Heinrich Seuse. Studien zum 600. Todestag 1366–1966 / Hrsg. von E.M. Filthaut OP. Koln, 1966, S. 71–75.
[Закрыть]. Таким образом, нарочитая парадоксальность используемых Сузо языковых средств и конструкций с самого начала определяет характер и направление развития всего сюжета его повествования как драму отношений между человеком и Богом. Тем самым диалогическая форма оказывается не просто оправданной и необходимой, но, более того, единственно возможной.
Однако двойная ссылка на то, что текст был записан на немецком языке, по-видимому, выполняет в прологе еще одну важную функцию: она лигитимирует написанное, и не только как истину, но и как литературную фикцию. Текст был специально написан на языке, вовсе не предназначенном для сочинений о вещах духовных, возвышенных. Поэтому для того, чтобы написанное приобрело в глазах читателя смысл, этот язык должен был по мере написания неизбежно подвергаться стилизации, искусственной обработке, перекомпоновке по правилам эстетической условности. И то, что Бог, открывающий высшую истину по-немецки, оказывается равноправным соавтором текста, вовсе не уменьшает, но, напротив, подчеркивает литературность созданного и достоинство автора. Означает ли это, что Генрих Сузо специально вводит своего читателя в обман? Нисколько. Напротив, перед читателем он предельно честен. Он сразу заявляет в прологе о том, что описываемый им диалог произошел не в форме реальной беседы, которую можно было слушать и воспринимать в действительности, но особым, чувственно не воспринимаемым образом, и был предназначен специально для него, Служителя. Написанный Сузо текст, в котором представлен диалог Служителя с Вечной Премудростью, – не фактографическое, протокольное описание случившегося, но и не обман, не фальсификация, не фикция, а всего лишь литературная стилизация. Не больше, но и не меньше. Именно литературность произведения и гарантирует, по мнению Сузо, его достоверность. Литературная фабула не уводит от истины, но приводит к ней, что подчеркивается, например, частой интерполяцией в авторский текст Сузо цитат из Библии и церковных авторитетов. Вечная Премудрость говорит Служителю словами Евангелия, а семантику причитаний Девы Марии автор, как он сам признается, заимствует у Бернарда Клервосского[158]158
BdEW 197, 24 sq.
[Закрыть].
Постоянная рефлексия автора над собственным текстом и его стратегия саморазоблачений, в рамках которой подчеркивается литературность написанного, помимо прочего, позволяет сохранять дистанцию между текстом и читателем, которому не остается ничего другого, как принять навязанные автором правила литературной игры. Тем самым удается преодолеть неизбежное для диалогической формы включение читателя в происходящие в тексте события. Это, в свою очередь, позволяет избежать важных богословских ошибок. Во-первых, сохраняется дистанция между Богом, выступающим как равноправный участник диалога, и читателем. Литературно инсценированный диалог подчеркивает также и дистанцию между Служителем, который является всего лишь грешным человеком, и трансцендентным Богом. Божественные недостижимость и непостижимость инсценируются литературной фикцией диалога, и именно благодаря этому становятся непреодолимо реальными. А как иначе продемонстрировать их реальность? Как по-другому выразить невыразимое?
Во-вторых, нарочитое выпячивание литературной стилизованности позволяет почувствовать едва уловимые различия между автором (Генрихом Сузо) и героем (Служителем Вечной Премудрости). При всем несомненном автобиографизме, который пронизывает это, как, впрочем, и многие другие произведения Генриха Сузо, природа этого автобиографизма, его характер, а, главное, его содержание остаются неуловимыми. Автор никогда не стремится целиком отождествлять себя с героем, но, наоборот, всячески дистанцируется от него. Дело не в том, что он не говорит о своем Я. Напротив, он говорит о сокровенных глубинах своего Я постоянно. Но всякий раз, когда он заводит о нем речь, это Я удаляется от него. Оно словно бы и не принадлежит ему. Оно словно бы и не Я вовсе.
Благодаря этим двум обстоятельствам удается, в-третьих, избежать трансформации всего текста в нечто такое, что можно заменить или компенсировать эстетическим вживанием в литературное произведение. Сохранение дистанции между читателем и текстом, читателем и участниками литературного диалога делает совершенно необходимым, чтобы читатель, опираясь именно на то, что он пережил как читатель, выполнил сам те практические действия по созерцанию Христа, которые предписывает третья часть «Книги Вечной Премудрости», стилистически и композиционно заметно отличающаяся от остальных частей произведения. Если не принимать во внимание это обстоятельство, то так и останется загадкой вопрос, почему «Сто созерцаний» Генрих Сузо помещает в конце своего сочинения, а не приводит их сразу в начале, в прологе, как это было бы логически уместно при фактографическом и автобиографическом изложении событий. Но еще большее удивление будет вызывать тот факт, что именно третья часть, намного уступающая своими художественными достоинствами и яркой образностью своего языка прологу и первым двум частям, стала в периоды позднего Средневековья и раннего Нового времени самой популярной и самой читаемой. По сути дела, перед нами – европейский бестселлер по меньшей мере двух столетий. Вопрос о том, почему это было так, а не иначе, невозможно оставить без ответа. В противном случае мы не поймем в идейном наследии Генриха Сузо того главного, чему посвящена его «Книга Вечной Премудрости», да и не только она одна.
Итак, именно литературность, а отнюдь не фактографичность «Книги Вечной Премудрости» постоянно подчеркивается Генрихом Сузо. Это происходит на двух уровнях конструирования и подачи текста. Во-первых, Сузо отмечает, что записанные им слова диалога лишь условно, опосредованно передают произошедшее: «То не была беседа во плоти, и ответы не представали в образах». Беседа Служителя с Вечной Премудростью, подчеркивает Сузо, «происходила созерцательно». Во-вторых, эта беседа имела место «в свете Св. Писания, ответы которого обмануть не могут, возникают ли они из уст Вечной Премудрости, как Она сама речет в Евангелии, или происходят от возвышенных учителей». При этом Сузо уточняет, что «ответы передают не те же самые слова и не тот же самый смысл, но такие истины, которые соответствуют смыслу Св. Писания». Это означает, что ориентированность автора в своем сочинении на образцовый текст, а не на документальную протокольную фактографию, т. е. примат литературности, вовсе не означает отказ от стремления к объективной, общезначимой истине в угоду прихотливому субъективизму. Напротив, в Средние века ориентация создателя текста на образцовую нормативность Св. Писания была верным признаком того, что в тексте содержится нечто общезначимое, и поэтому достойное внимания читателя, стремящегося к несомненной истине. Литературность фабулы в данном случае вовсе не мешает раскрытию истины, но, напротив, позволяет донести ее до читателя. В этом смысле характерно другое замечание Генриха Сузо, где он говорит о том, что «видения, о которых далее пойдет речь, произошли также не плотским образом. Их следует воспринимать лишь как примеры» (курсив мой – М.Х.)[159]159
BdEW 197, 22 sqq.
[Закрыть].
Не случайной, поэтому, становится и форма диалога: «Учение дается в вопросах и ответах для того, чтобы оно выглядело более привлекательным и чтобы никто не подумал, что оно является достоянием одного автора или что он излагает его от своего имени.
Написавший эту книгу считает, что излагает всем известное учение, в котором он сам и любой другой человек может найти подходящее себе»[160]160
BdEW 197, 26–30.
[Закрыть]. Общезначимым диалог становится в силу его индивидуа-лизованной персонифицированности, а выражающим истинное учение – в силу своей литературности. Благодаря этому диалог между Служителем и Вечной Премудростью становится не только по форме, но и по своей сущности дидактическим диалогом, предназначенным для самой широкой аудитории. Речь в данном случае идет не только о привлекательности диалогической формы самой по себе, но о том, что Сузо сконструировал особую форму диалога, благодаря которой его текст и приобрел такую значимость и популярность.
Привлекательность формы диалога сам Сузо объясняет в прологе не только введенными им персонажами и драматургией развития сюжета, но и пронизывающей весь текст многослойной структурой сообщения Вечного Слова и форм его выражения, которая присутствует в каждом пассаже «Книги Вечной Премудрости». Эта структура простирается от непостижимого и невыразимого Божества через восприятие Вечного Слова человеком вплоть до рассказа об этом в человеческих словах, записанных в виде определенного текста. Всю огромность дистанции между первым и последним Генрих Сузо прекрасно осознает: «Сколь мало похоже непосредственное внимание приятной игре милых струн на выслушивание рассказа того, кто слышал о ней со слов других, столь же мало слова, благодатно воспринятые, пережитые сердцем и истекающие из живых уст, сравнимы с теми словами, что записаны на мертвом пергаменте, особенно записанные по-немецки»[161]161
BdEW 199, 14–19.
[Закрыть]. Человеческое слово лишь в малой степени способно передать всю возвышенность божественного Слова. Но в то же время оно – единственное средство сообщения о божественном Слове другим людям. Для того чтобы стать понятным, человеческое слово должно приблизиться к Слову божественному. Поэтому подлинной школой, в которой говорятся слова, способные стать понятными и могущие научить другого человека, является школа Иисуса Христа, Вечного Слова, Логоса.
«Дидактический» диалог как образцовую модель этой школы и представляет Сузо в «Книге Вечной Премудрости».
Однако представленный диалог разворачивается не наяву, но в сокровенных глубинах человеческой души. Строго говоря, между Вечной Премудростью и ее Служителем не происходит никакого диалога в привычном понимании этого слова, и Сузо, кстати, то и дело об этом напоминает. Однако для рассказа о случившемся в записанных в виде литературного произведения человеческих словах диалог – это наиболее адекватная форма, способная передать смысл того, что же, собственно, имело место. Иначе говоря, диалог является наиболее удачной формой для того, чтобы душе открылся смысл Св. Писания, поскольку, как подчеркивает Сузо, смысл разговора Вечной Премудрости и Служителя и смысл Св. Писания – один и тот же[162]162
См. об этом подробнее: Stirnimann, Heinrich. Mystik und Metaphorik. Zu Seuses Dialog // Das Ein ig Ein. Studien zur Theorie und Sprache der deutschen Mystik / Hrsg. von A.M. Haas und H. Stirnimann. Freiburg/Schw., 1980, S. 222 sq. (Dokimion, Bd. 6).
[Закрыть].
Между тем, как всякий школьный диалог, диалог Вечной Премудрости и Служителя ориентирован на педагогические цели развития души и формирования нового человека, представленного в тексте фигурой Служителя. Поэтому с дидактичностью сочинения Сузо необходимым образом оказывается связанной и его биографичность, можно даже сказать, авто-биографичность. Автобиографические элементы, точнее, литературная стилизация под автобиографию, маркирует в тексте основные периоды развития диалога, задает его рамки и определяет его динамику. Без них написанное лишилось бы как своей убедительной конкретности, так и неподражаемого колорита деталей, не банализирующих развитие фабулы, но, напротив, придающих ей новый, универсальный смысл.
Требуемое замыслом Генриха Сузо единство персонально автобиографического и авторитетно общезначимого форма диалога также передает наиболее удачным образом. Два персонажа, участвующие в диалоге, воплощают одновременно две названные тенденции. Фигура Служителя представляет по преимуществу индивидуальное человеческое начало, тогда как Вечная Премудрость говорит, как правило, словами поучений, наставляя Служителя в духе Евангелия и открывая ему высшую истину. Однако эти роли выдерживаются не до конца. Служитель и Вечная Премудрость то и дело меняются ими. Чаще всего, в тексте это происходит непредсказуемо, неожиданно. С одной стороны, это позволяет придать диалогу обостренное драматическое напряжение, с другой стороны, – свести обе перспективы, проникновенно-интимную и дидактически-общезначимую, сами по себе с трудом соединимые, во внутренне единый смысловой комплекс. Этот вырастающий из диалога, формируемый диалогом, обыгрываемый в диалоге единый смысловой комплекс и соединяет в тексте все пласты смысла – от банальности обыденной человеческой речи до непостижимой глубины божественного Слова.
Например, в первой главе «Книги Вечной Премудрости» обе эти перспективы развиваются следующим образом. В глубоком внутреннем смятении Служитель обращается к Вечной Премудрости и с сокрушением сердца рассказывает Ей о своих мытарствах:
Любезнейший, дражайший Господи, от детских дней моих, сам не зная почему, искал я чего-то ревностно; но что именно я искал, я и сам до конца не понимал. Господи, многие годы гнался я изо всех сил за чем-то и никогда не мог достигнуть того, за чем я гнался, ибо не знал доподлинно, что это такое. Однако это то, к чему стремится сердце мое и душа моя, то, без чего не найти мне истинного успокоения. Господи, в первые дни детства моего, видя пример других людей, желал я найти то, что искал, в сотворенных вещах. Но чем больше я искал, чем ближе, казалось, подступался, тем все более и более отдалялся от искомого, ибо, приближаясь к какому-либо образу и вопрошая себя, то ли это, что я искал, то ли это, что успокоит меня, я каждый раз получал ответ: «Это не то, что ты ищешь». И так было у меня со всеми вещами. Ныне, Господи, мучается жестоко сердце мое, ибо я знаю слишком хорошо и более чем один раз обнаруживал, чем не является то, что я ищу.
Но чем оно является, то мне пока не ведомо. О любезный Господи на Небесах, что же это такое, и как оно сотворено – то, что так проникновенно движет мною[163]163
BdEW 201, 1–18.
[Закрыть]?
Когда же Вечная Премудрость открывается Служителю и сообщает ему, что именно Ее он искал и к Ней стремился все дни своей жизни, то Служитель обращается к Ней с глубоко интимными словами, преисполненными искреннего любовного желания:
Ах, избранная мною, любезнейшая Премудрость, в Тебе нашел я то, что так любит душа моя, так не побрезгуй же своим бедным творением! Воззри, как совершенно утихло сердце мое перед лицом всего этого мира с его радостями и горестями! Господи, должно ли сердце мое всегда молчать пред Тобою? Позволь, о, позволь же, любезный Господи, беспомощной душе моей обратиться к тебе со словами, которые сердце мое более не может переносить в одиночку. Ибо в целом мире нет никого, кроме Тебя, дражайший, избраннейший, любезнейший Господь и Брат мой, кто мог бы облегчить сердце мое[164]164
BdEW 202, 20–28.
[Закрыть].
Подчеркиваемый постоянными восклицаниями и трогательными обращениями эмоциональный накал речей Служителя развивается от проникновенного автобиографизма в духе Августина до необузданного эротического стремления к Возлюбленному, навеянного, по-видимому, семантикой проповедей на Песнь Песней Бернарда Клервосского. Вечная Премудрость, со своей стороны, вещает спокойным и умиротворенным, поучительным тоном. Ее высокая позиция недосягаема, Ее размеренные слова уверенно льются откуда-то свыше в растерзанное и беспокойное сердце Служителя. В них – сама мудрость и само совершенство:
Это мало похоже на ответ Возлюбленного любящему, обратившемуся к Нему с горячими мольбами. Скорее, перед нами фрагмент лекции университетского профессора, что недалеко от истины: слова Высшей Премудрости в данном случае очень напоминают отдельные пассажи 44-го вопроса «Суммы теологии» Фомы Аквинского[166]166
Thomas Aquinas, S. th. 1, q. 44: De processione creaturarum a Deo.
[Закрыть]. Один из участников диалога словно бы не слышит другого – оттого, что оба они, похоже, говорят на разных языках. От этого неизбежно возникает напряжение, которое грозит разрядиться тем сильнее, тем скорее, чем острее оно дает о себе знать. Это в конце концов и происходит, причем быстро, без каких-либо промедлений. Просто вдруг неожиданно все меняется. Вечная Премудрость произносит слова, открывающие Служителю глаза и на самого себя, и на все глубину божественности Иисуса Христа, явленную в Его человеческом облике и Его Крестных муках:
В самом конце главы Служитель успокаивается. Он поумнел и готов спокойно и сосредоточенно внимать словам Наставника. Он превратился в образцовый объект благотворного педагогического воздействия. Параллельно с этим образ Вечной Премудрости окрашивается в глубоко личностные тона, лишается своей недосягаемой трансцендентности и приближается к Служителю совсем близко. Теперь Ее слова уже не просто бесстрастные наставления ученого мужа, но ответ Возлюбленного, принявшего моления любящего и отвечающего ему с проникновенной нежностью:
Чем изможденнее, чем мертвеннее являю Я Себя в любви Своей, тем любезнее Я воспринимающей истину душе. Бездонная любовь Моя явлена в великой горечи Страстей Моих подобно солнцу в его сиянии, розе в ее благоухании, сильному пламени в раскаленном жаре. Поэтому внимай с благоговением тому, как, преисполненная любви, пострадала Я ради тебя[168]168
BdEW 203, 19–25.
[Закрыть].
Возлюбленный явился любящему во всей своей человеческой телесности, открылся ему в глубоко личном облике и сообщает ему истину из своих сокровенных глубин. То, что это божественная истина, вовсе не отменяет необходимости ее постижения через человеческий облик и телесную жизнь и смерть Иисуса Христа. Напротив, только так, считает Сузо, эта истина и может быть постигнута. Космологический процесс исхождения всех творений от Бога завершается глубоко интимным процессом возвращения человеческой души к Богу. Непостижимые законы мироздания обретают свое смысловое завершение в слабостях человеческой природы, в ее страданиях, в ее смертности, в которых они и обнаруживают свой смысл.
Вместе с тем за радикальной персонализацией и любовной ин-тимизацией фигуры Вечной Премудрости Служителю открывается вся глубина новой сотериологической перспективы, проступающей в конце первой главы в его собственных словах, напоминающих об основных событиях земной биографии Иисуса Христа:
Господи, ныне вспомню я бездонную любовь Твою, из-за которой Ты снизошел с Высокого Престола, с царского Трона сердца Отца Своего, и был тридцать три года гоним и презираем, любовь Твою ко мне и ко всем людям, явленную в жесточайших страданиях мучительной кончины Твоей. И буду вспоминать я о Тебе, созерцая то, в чем Ты духовно являешься душе моей – в наилюбезнейшем образе, какой когда-либо принимала безмерная любовь Твоя[169]169
BdEW 203, 11–18.
[Закрыть].
Весь масштаб и вся смысловая глубина этой перспективы ощущаются не в последнюю очередь благодаря тому, что служитель обращается здесь к Вечной Премудрости на «ты». Именно в атмосфере такой коммуникативной непосредственности вербальных жестов он и подступает ближе всего к божественному величию. Здесь становится очевиден замысел автора: образ Служителя, со своей стороны, так же, как и образ Вечной Премудрости, с самого начала олицетворяет собой универсальную перспективу. Она заключается в идентификации личности Служителя со всеми людьми, о чем прямо говорится еще в прологе:
Собственно говоря, это и приближает Служителя к Христу, пострадавшему за все человечество. В процессе развития диалога позиции двух его участников не просто сближаются, и они не просто приходят к одному общему мнению, которым, как и следовало ожидать, оказывается мнение Учителя. Оба они персонифицируют одно изначальное единство творения и Творца, хотя и по-разному. Их позиции не столько сближаются, сколько противостоят друг другу, но не в силу различия в идейном содержании, а в силу различия ролей, взаимно образующих единство диалога. И хотя, как было уже сказано, две основные перспективы – персонифицированной интимности и универсальности – присутствуют в обоих образах, и поэтому оба персонажа взаимно меняются своими амплуа, ведущим в развитии темы универсальности все же остается образ Вечной Премудрости, тогда как ключевым для темы интимности является фигура Служителя. Личные местоимения «я» (ich) и «ты» (du), равно как и пространные описания собственных интимных переживаний и биографические/автобиографические экскурсы чаще всего встречаются в репликах Служителя. Это заметно в процитированных пассажах пролога и первой главы, и это же можно наблюдать и в других главах[171]171
См., например, во второй главе: BdEW 204, 27-205, 7.
[Закрыть]. Даже пространные рассказы Вечной Премудрости о своих Крестных муках являются, по сути дела, ответом на настойчивые просьбы Служителя. В то же время, в словах Вечной Премудрости, даже когда Она рассказывает о своих страданиях, доминируют формы местоимений третьего лица или безличные конструкции. Часто слова «должно» или «следует», а также «возможно» или «невозможно» сочетаются в ответах Вечной Премудрости с безличной частицей man[172]172
См., например, BdEW 205, 3–6.
[Закрыть]. Нередко встречаются и такие слова, как «никто»[173]173
BdEW 205, 1 и др.
[Закрыть] и «который» [174]174
BdEW 205, 6 и др.
[Закрыть].
Определенная неизменность позиций Вечной Премудрости и Служителя и, следовательно, иерархичность структуры дидактического диалога определяется уже тем, что Вечная Премудрость выступает как высший источник спасения и милости, в то время как Служитель, напротив, формулирует лишь просьбы и мольбы, обращенные к Ней, потому что выступает почти всегда в качестве принимающей милости стороны. Иногда контраст между позициями двух персонажей диалога выглядит очень резким. В этих случаях кажется, что горячечная метафорика Служителя, его страстные, пропитанные неистовым эротизмом призывы разбиваются о холодные и короткие высказывания Вечной Премудрости, словно бы не дающей прямого ответа и отмахивающейся от неуместной назойливости своего поклонника. Примером этого может служить следующий пассаж в начале шестой главы «Книги Вечной Премудрости»:
СЛУЖИТЕЛЬ: Господи, час без Тебя – для меня целый год. День вдали от Тебя – для любящего сердца тысяча лет. Посему, о росток счастья, о майский побег, о цветущий розан, раствори свои объятия, простри и распространи украшенные цветами ветви своей божественной и человеческой природы. Господи, сколь милостив лик Твой, уста Твои полны слов любви, вся перемена Твоя – яснейшее зеркало заботы и милости. О Ты, взор, которым наслаждаются святые, сколь блажен тот, кто удостаивается преисполненного любви единства с Тобой.
ВЕЧНАЯ ПРЕМУДРОСТЬ: Многие люди к этому призваны, но мало избранных.
СЛУЖИТЕЛЬ: Они осуждены Тобою или подвергнуты Тобою мучительному испытанию?[175]175
BdEW 216, 17–29.
[Закрыть]
Трогательные словоизлияния Служителя наталкиваются на дидактический монолит Вечной Премудрости, Которая своими ответами направляет весь диалог в новое тематическое русло. Но этот поворот, который насильственно совершает Вечная Премудрость, не уводит прочь от развития темы интимности, но напротив, углубляет ее и придает ей еще большую значимость. Поворот, собственно, заканчивается тогда, кода на недоуменный вопрос разочарованного Служителя в конце приведенного пассажа Вечная Премудрость отвечает: «Отверзи свои внутренние очи и взгляни на то, что ты видишь»[176]176
BdEW 216, 30–31.
[Закрыть]. Служитель делает это, и там, в собственном сокровенном, он открывает подлинное величие Вечной Премудрости, предстающей в обличье жалкого, бедного и гонимого странника[177]177
BdEW 217, 1-21.
[Закрыть].