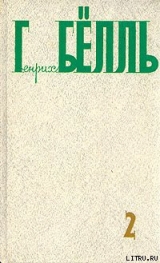
Текст книги "Хлеб ранних лет"
Автор книги: Генрих Бёлль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
– Господи, – воскликнул Вольф, – тебе незачем есть сухой хлеб!
– Да, – сказал я, – мне незачем есть сухой хлеб.
– С тобой невозможно разговаривать, – сказал он.
– Да, – повторил я, – со мной невозможно разговаривать. Уходи.
– Ладно, – проговорил он, – может быть, завтра ты опять придешь в себя.
Он засмеялся, встал и, вызвав женщину из большой комнаты, расплатился за две чашки кофе и за три булочки; он хотел дать ей мелочь на чай, но молодая женщина улыбнулась и вложила монетки обратно в его большую сильную руку; покачав головой, он сунул их в кошелек. Разламывая вторую булочку, я чувствовал, что взгляд Вольфа скользнул по моему затылку, волосам и лицу и остановился на моих руках.
– Между прочим, – сказал он, – дело выгорело. Я вопросительно взглянул на него.
– Разве Улла не рассказала тебе вчера о заказе для «Тритонии»?
– Конечно, – проговорил я тихо, – она вчера рассказала мне об этом.
– Мы получили заказ, – заявил Вольф, сияя. – Сегодня утром нам сообщили о решении. Надеюсь, что; к тому дню, когда мы начнем, к пятнице, ты уже будешь вполне вменяем. Что сказать отцу? Что мне вообще сказать отцу? Он в ярости; со времени той глупой истории с ним еще такого не случалось.
Отложив булочку в сторону, я встал.
– Со времени какой истории? – спросил я.
По лицу Вольфа я видел, что он уже жалеет о начатом разговоре, но разговор был начат – и я расстегнул задний карман брюк, где были спрятаны мои деньги, потрогал сложенные бумажки и вдруг вспомнил, что все бумажки по сто или по пятьдесят марок; тогда я сунул деньги обратно, застегнул пуговицу и полез в карман пиджака, где лежали деньги, которые я забрал с прилавка в цветочном магазине. Я вытащил бумажку в двадцать марок, двухмарковую бумажку и пятьдесят пфеннигов мелочью, взял правую руку Вольфа, разжал ее и вложил в нее деньги.
– Это за тогдашнюю историю, – произнес я, – электрические плитки, украденные мной, стоили по две марки двадцать пять пфеннигов за штуку. Отдай твоему отцу эти деньги, плиток было ровно десять штук.
– Эта история, – прибавил я тихо, – случилась шесть лет назад, но вы ее не забыли. Я рад, что ты мне о ней напомнил.
– Я сожалею, – сказал Вольф, – что упомянул о ней.
– И все же ты упомянул о ней сегодня на этом самом месте, и вот тебе деньги, отдай их твоему отцу.
– Возьми деньги, – попросил он, – так не поступают.
– А почему бы и нет? – проговорил я спокойно. – Тогда я воровал, а сейчас хочу оплатить украденное мной. Ну как, теперь мы в расчете?
Он молчал, и мне стало его жаль, потому что он не знал, как ему поступить с деньгами; он держал их в руке, и я видел, что на его сжатой в кулак руке и на его лице выступили капельки пота. Лицо у него стало таким, каким оно бывало, когда мастера орали на него или рассказывали неприличные анекдоты.
– Когда эта история случилась, нам обоим было по шестнадцать, – сказал я, – мы начали вместе учиться, а теперь тебе уже двадцать три, но ты не забыл о ней; отдай деньги обратно, если это тебя мучает. Я могу послать их твоему отцу по почте.
Я опять раскрыл его руку, горячую и влажную от пота, а всю мелочь и бумажки положил снова в карман пиджака.
– А теперь иди, – сказал я тихо, но он продолжал стоять и смотреть на меня точно так же, как смотрел в тот день, когда кража выплыла наружу: он не поверил, что я виноват, и защищал меня своим звонким, энергичным юношеским голосом; хотя мы были ровесники, он казался мне тогда намного моложе меня, моим младшим братом, готовым вытерпеть порку, предназначавшуюся мне; старик рычал на него, а под конец влепил ему пощечину, и я отдал бы тысячу буханок хлеба, лишь бы мне не пришлось сознаться в воровстве. Но мне пришлось сознаться; это произошло во дворе перед мастерской, уже погруженной во мрак, при свете жалкой пятнадцатисвечовой лампочки в проржавевшем патроне, которая раскачивалась от ноябрьского ветра. И все слова, какие Вольф произнес своим звонким протестующим детским голосом, рассыпались в прах перед крохотным словечком «да», которым я ответил на вопрос старика; и оба они пошли через двор к себе домой. Вольф всегда видел во мне то, что в его детской душе определялось понятием «хороший парень», и ему было тяжело лишать меня этого титула. Возвращаясь на трамвае в общежитие, я чувствовал себя глупым и несчастным; я ни на секунду не ощущал угрызений совести из-за сворованных плиток, которые обменивал на хлеб и сигареты; я уже начал задумываться о ценах. Для меня мало значило то, что Вольф считает меня «хорошим парнем», но я не хотел, чтобы он несправедливо перестал считать меня таковым.
На следующее утро старик позвал меня в свою контору; он выслал из комнаты Веронику и смущенно вертел сигару в темных руках, потом он снял свою зеленую фетровую шляпу, чего никогда не делал раньше.
– Я позвонил капеллану Дерихсу, – сказал он, – и только от него узнал, что у тебя недавно умерла мать. Мы больше не будем говорить об этом, никогда не будем, слышишь? А теперь иди.
Я ушел, и когда вернулся обратно в мастерскую, то подумал: о чем, собственно, мы не будем говорить? О смерти матери? Я возненавидел старика еще сильней, чем прежде; причины этого я не знал, но был уверен, что причина есть. С тех пор об этой истории никогда не говорили, никогда, и я никогда больше не воровал – и не потому, что считал воровство нехорошим делом, а потому, что боялся, что они еще раз простят меня из-за смерти матери.
– Уходи, – сказал я Вольфу, – уходи.
– Мне жаль, – пробормотал он, – мне… я… Он посмотрел на меня такими глазами, словно до сих пор сохранил веру в хороших парней, и я произнес; – Ладно, не думай больше об этом, иди.
Вольф напоминал теперь людей, которые в сорок лет теряют то, что они называют своими идеалами; он стал уже несколько рыхлым, был приветлив, и в нем самом было некоторое сходство с тем, что разумеют под выражением «хороший парень».
– Что же мне сказать отцу?
– Это он послал тебя?
– Нет, – ответил Вольф, – но я знаю, что он очень сердится и постарается разыскать тебя, чтобы поговорить о заказе для «Тритонии».
– Я еще не знаю, что будет дальше.
– Действительно не знаешь?
– Да, – повторил я, – действительно не знаю.
– Верно ли то, что говорят работницы фрау Флинк, ты бегаешь за какой-то девушкой?
– Да, – ответил я, – это верно, что говорят работницы: я бегаю за девушкой.
– О господи, – произнес он, – тебя не следует оставлять одного со всеми твоими деньгами в кармане.
– Это как раз необходимо, – сказал я очень тихо. – Теперь иди и, пожалуйста, – прибавил я еще тише, – не спрашивай меня больше, что тебе говорить отцу.
Он ушел; я видел, как он проходил мимо витрины, опустив руки, словно боксер, который отправляется на безнадежную схватку. Я обождал, пока он скроется за углом Корбмахергассе, а потом остановился в открытых дверях кафе и ждал до тех пор, пока не увидел, что виквеберовская машина проехала по улице по направлению к вокзалу. Вернувшись в заднюю комнату, я стоя выпил свою чашку кофе и сунул третью булочку в карман. Я посмотрел на часы, но теперь уже на верхнюю часть циферблата, где беззвучно и медленно двигалось время; я надеялся, что сейчас уже половина шестого или шесть часов, но было всего только четыре. Сказав молодой женщине за стойкой «до свидания», я пошел назад, к машине; из щелки между передними сиденьями выглядывал кончик записки: утром я записал всех клиентов, к которым должен был попасть. Открыв дверцу машины, я вытащил записку, разорвал ее и выбросил клочки в сток для воды. Больше всего мне хотелось опять перейти на противоположный тротуар и глубоко, глубоко погрузиться в воду, но, представив себе это, я покраснел, подошел к двери дома, в котором жила Хедвиг, и нажал кнопку звонка; я нажал два-три раза подряд, а потом еще раз и стал ждать, пока за дверью раздастся звонок, но звонка не было слышно, и я нажал кнопку еще два раза и снова не услышал звонка; мне опять стало страшно, так же страшно, как было, прежде чем я перешел на другую сторону вокзальной лестницы к Хедвиг, но потом я услышал шаги, шаги, которые никак не могли принадлежать фрау Гролта, торопливые шаги по лестнице и по парадному; Хедвиг открыла мне дверь; она была выше, чем я предполагал, почти одного роста со мной, и, очутившись внезапно так близко друг к другу, мы оба испугались. Она отступила назад, придерживая дверь: я знал, как тяжела эта дверь, потому что нам пришлось держать ее, когда мы вносили стиральные машины к фрау Флинк, пока она не явилась сама и не заложила дверь на крючок.
– На двери есть крючок, – сказал я.
– Где? – спросила Хедвиг.
– Здесь, – ответил я, постучав по двери с наружной стороны, повыше дверной ручки; на несколько секунд левая рука и лицо Хедвиг скрылись в темноте за дверью. Потом яркий свет с улицы осветил Хедвиг, и я начал внимательно разглядывать ее; я знал, как ей было страшно, ведь я разглядывал ее, словно картину, но она выдержала мой взгляд, только слегка опустила нижнюю губу; она смотрела на меня так же внимательно, как я на нее, и я почувствовал, что мой страх пропал. Я снова ощутил боль оттого, что ее лицо так глубоко проникало в меня.
– Тогда, – проговорил я, – вы были блондинкой.
– Когда это? – спросила она.
– Семь лет назад, незадолго до того, как я уехал из дома.
– Да, – сказала она, улыбаясь, – тогда я была белокурой и малокровной,
– Сегодня утром я искал белокурую девушку, – сказал я, – а вы все это время сидели позади меня на чемодане.
– Не так уж долго, – возразила она, – я уселась как раз перед тем, как вы подошли. Я вас сразу узнала, но не хотела заговаривать первой. – Она опять улыбнулась.
– Почему? – спросил я.
– Потому, что у вас было такое сердитое лицо, и потому, что вы показались мне очень взрослым и важным, а я боюсь важных людей.
– Что вы подумали? – спросил я,
– Да ничего, – сказала она, – я подумала: так вот, значит, какой он, этот молодой Фендрих; на карточке у вашего отца вы выглядите гораздо моложе. О вас нехорошо говорят. Кто-то рассказывал мне, что вы совершили кражу.
Она покраснела, и я ясно увидел, что теперь она совсем не малокровная: лицо у нее стало таким пунцовым, что мне было невыносимо смотреть на нее.
– Не надо, – проговорил я тихо, – не надо краснеть. Я действительно украл, но это было шесть лет назад, и я… я бы сделал это снова. Кто вам об этом рассказал?
– Мой брат, – ответила она, – а он совсем не плохой парень.
– Да, он совсем не плохой парень, – повторил я, – и когда я ушел от вас, вы думали о том, что я совершил кражу.
– Да, – сказала она, – я думала об этом, но недолго.
– А все же сколько? – спросил я.
– Не знаю, – ответила она, улыбаясь, – я думала еще о других вещах. Мне хотелось есть, но я боялась сойти вниз, потому что знала – вы стоите у двери.
Я вытащил булочку из кармана пиджака; улыбнувшись, она взяла ее, быстро разломила пополам, и я увидел, как ее большой палец, белый и крепкий, глубоко вошел в мякиш, как в подушку. Она съела кусочек булки, но, прежде чем она успела откусить еще один, я проговорил:
– Вы не знаете, кто рассказал вашему брату о моей краже?
– Вам это очень важно знать?
– Да, – проговорил я, – очень важно.
– Должно быть, люди, которых вы… – она покраснела, – у которых это произошло. Брат сказал мне: «Я знаю об этом из первых уст». – Она съела второй кусочек хлеба и, глядя в сторону, тихо прибавила: – Мне жаль, что я вас прогнала тогда, но я испугалась. И в тот момент я вовсе не думала об истории, которую мне рассказывал брат.
– Мне даже хочется, – сказал я, – чтобы та кража была настоящей, но самое скверное заключается в том, что это я просто по-дурацки вел себя. Тогда я был еще слишком молод, слишком робок, теперь у меня получилось бы лучше.
– Вы ни капельки не раскаиваетесь? Да? – спросила она, кладя себе в рот еще кусочек хлеба.
– Нет, – сказал я, – ни капельки; только после того, как это обнаружилось, получилась некрасивая история, и я не мог защищаться. Они меня простили, а. знаете ли вы, как это приятно, когда вам прощают что-нибудь, в чем вы вовсе не чувствуете себя виноватым?
– Нет, – сказала она, – не знаю, но могу себе представить, как это скверно. Нет ли у вас, – спросила она, улыбаясь, – нет ли у вас случайно еще хлеба в кармане? А что вы, собственно, с ним делаете? Кормите птиц, или, может быть, вы боитесь голода?
– Я постоянно боюсь голода, – ответил я. – Хотите еще хлеба?
– Да, – сказала она.
– Пойдемте, – предложил я, – я куплю вам.
– Можно подумать, что ты находишься в пустыне, – сказала она, – уже семь часов, как я не держала во рту ни крошки.
– Пойдемте, – повторил я.
Она умолкла и перестала улыбаться. – Я пойду с вами, – проговорила она медленно, – если вы дадите слово, что никогда больше не войдете ко мне в комнату так неожиданно и с такой массой цветов.
– Обещаю вам это, – сказал я.
Она нагнулась за дверью и отбросила кверху крючок, и я услышал, как крючок ударился о стенку.
– Это недалеко, – сказал я, – сразу за углами, пойдемте.
Но она по-прежнему стояла, придерживая спиной закрывающуюся дверь, и ждала, пока я не пройду вперед. Я пошел немного впереди нее, время от времени оборачиваясь, и только теперь я заметил, что она захватила с собой сумочку. На этот раз в кафе за стойкой стоял мужчина, нарезавший большим ножом свежий яблочный пирог; коричневая решетка из теста на зеленом яблочном джеме была совсем мягкой, и, боясь повредить ее, мужчина осторожно вонзал нож в пирог. Мы молча стояли рядышком около стойки и наблюдали за его движениями.
– Здесь бывает, – сказал я тихо Хедвиг, – еще куриный бульон и суп с мясом.
– Да, – произнес мужчина, не поднимая глаз. – Это у нас можно получить. – Из-под его белой шапочки выбивались черные густые волосы, от него пахло хлебом, как от крестьянки – молоком.
– Нет, – сказала Хедвиг, – не надо супа. Лучше пирог.
– Сколько порций? – спросил мужчина. Отрезав последний кусок, он одним движением вытащил нож из пирога и с улыбкой оглядел свою работу.
– Спорим? – предложил он, и его узкое смуглое лицо сморщилось в улыбке. – Спорим, что все куски совершенно одинаковы по величине и по весу. Самое большее,– он отложил нож в сторону, – самое большее – разница в два-три грамма, этого не избежишь. Спорим?
– Нет, – ответил я, улыбаясь, – не стану спорить, ведь в этом споре я наверняка проиграю.
Пирог был похож на круглое решетчатое окошечко собора.
– Наверняка, – сказал мужчина, – вы наверняка проиграете. Сколько вам порций?
Я вопросительно взглянул на Хедвиг. Улыбаясь, она произнесла:
– Одной будет слишком мало, а двух – слишком много.
– Значит, полторы, – сказал мужчина.
– А так можно заказать? – спросила Хедвиг.
– Ну, конечно, – ответил он, схватил нож и разрезал один кусок пирога точно посередине.
– Значит, каждому по полторы порции, – сказал я, – и кофе.
На столике, за которым мы сидели с Вольфом, еще стояли чашки, а на моей тарелке лежали хлебные крошки. Хедвиг села на стул, где сидел Вольф; я вынул из кармана пачку сигарет и протянул ей.
– Нет, спасибо, – сказала она. – После, может быть.
– Об одной вещи, – произнес я, садясь, – я все же должен вас спросить, я собирался спросить об этом еще вашего отца, но, конечно, у меня не хватило духу.
– О чем же? – спросила она.
– Как получилось, – сказал я, – что ваша фамилия Муллер, а не Мюллер?
– Ах, – ответила она. – Это глупая история, из-за нее я часто злюсь.
– Почему? – спросил я.
– Моего дедушку звали Мюллер, но он был богат, и его фамилия казалась ему слишком обычной, он заплатил бешеные деньги, чтобы превратить «ю» в «у». Я ужасно сердита на него.
– Почему?
– Потому что я предпочла бы называться Мюллер, лишь бы иметь деньги, которых ему стоило это превращение ни в чем не повинного «ю» в «у». Я бы хотела иметь сейчас эти деньги, тогда мне не пришлось бы стать учительницей.
– Вы не хотите быть учительницей? —спросил я.
– Нельзя сказать, что не хочу, – сказала она. – Но и не жажду. А отец говорит, мне надо стать учительницей, чтобы иметь возможность прокормить себя.
– Если хотите, – проговорил я тихо, – я буду вас кормить.
Она покраснела, и я был рад, что наконец произнес эти слова и что мне удалось сказать их именно в такой форме. Но все же я обрадовался, что в комнату вошел мужчина и подал нам кофе. Он поставил кофейник на стол, убрал грязную посуду и спросил:
– Не хотите ли сбитых сливок к пирогу?
– Да, – сказал я, – дайте нам сливок.
Он ушел, и Хедвиг налила кофе; краска еще не сошла с ее лица, и, минуя ее взглядом, я смотрел на картину, висевшую на стене над ее головой, – то был снимок мраморного памятника какой-то женщине; я часто проезжал мимо этого памятника, но никогда не знал, кого он изображает, и я обрадовался, прочитав под фотографией: «Памятник императрице Августе»; теперь я знал, кто была эта женщина.
Хозяин принес нам пирог. Я налил себе молока в кофе, размешал, взял ложечкой кусок пирога и обрадовался, что Хедвиг тоже начала есть. Теперь она уже не была красной; не поднимая глаз от тарелки, она произнесла:
– Странный способ кормить: много цветов и одна булочка – и та на ходу.
– А потом, – возразил я, – пирог со сливками и кофе, а вечером то, что моя мать называла приличной едой.
– Да, – сказала она, – и моя мать говорила, что хотя бы раз в день я должна прилично поесть.
– Часов в семь, ладно? – сказал я.
– Сегодня? – спросила она.
– Да.
– Нет, – проговорила она, – сегодня вечером я не могу. Я должна пойти в гости к одной родственнице отца, она живет на окраине и уже давно ждет, что я переселюсь в город.
– Вам хочется идти к ней? – спросил я.
– Нет, – ответила Хедвиг, – она из тех женщин, которые с первого взгляда определяют, когда вы в последний раз стирали свои занавески, и самое скверное, что она всегда угадывает. Если бы она увидела нас с вами, то сказала бы: этот человек хочет тебя соблазнить.
– И на этот раз она угадала бы, – сказал я, – я хочу вас соблазнить.
– Знаю, – ответила Хедвиг, – нет, мне не хочется идти к ней.
– Не ходите, – попросил я, – мне бы хотелось еще раз встретиться с вами сегодня вечером. И вообще лучше не ходить к людям, которые не нравятся.
– Хорошо, – согласилась она, – я не пойду, но, если я не пойду, она явится ко мне и захватит меня с собой. У нее своя машина, и она поразительно деятельная женщина, или нет – решительная, так про нее говорит отец.
– Я ненавижу решительных людей, – сказал я.
– Я тоже, – ответила Хедвиг. Она доела свой пирог и ложкой подобрала сливки, которые сползли на тарелку.
– Я никак не решусь пойти туда, где мне надо быть в шесть часов, – сказал я. – Я хотел встретиться с девушкой, на которой когда-то собирался жениться, и сказать ей, что не женюсь на ней.
Она взялась было за кофейник, чтобы налить еще кофе, но вдруг остановилась и сказала:
– Это зависит от меня, скажете вы ей это сегодня или нет?
– Нет, – ответил я, – только от меня одного. При всех обстоятельствах я должен ей это сказать.
– Тогда пойдите и скажите. А кто она?
– Это та девушка, – начал я, – у отца которой я воровал, и, наверное, она же рассказала обо мне человеку, говорившему с вашим братом.
– О, значит, вам будет легче! – воскликнула Хедвиг.
– Даже слишком легко, – сказал я, – почти так же легко, как отказаться от подписки на газету, если тебе жаль не самой газеты, а только почтальоншу, которая из-за этого получит меньше чаевых.
– Идите, – проговорила она, – а я не пойду к знакомой отца. Когда вам надо уходить?
– Около шести, – сказал я, – но сейчас нет даже пяти.
– Я посижу одна, – предложила Хедвиг, – а вы разыщите писчебумажный магазин и купите мне открытку: я обещала писать домой каждый день.
– Хотите еще кофе? – спросил я.
– Нет, – ответила она, – лучше дайте мне сигарету. Я протянул ей пачку, и она взяла сигарету. Я дал ей прикурить и, расплачиваясь в другой комнате, видел, как она сидит и курит; я заметил, что она курит редко, заметил это по тому, как она держала сигарету и пускала дым, и когда я возвратился к ней, она подняла глаза и произнесла:
– Идите же.
И я опять вышел; напоследок я увидел, как она открывала свою сумочку; подкладка в сумочке была такая же зеленая, как ее пальто.
Пройдя через всю Корбмахергассе, я свернул за угол на Нетцмахергассе; стало прохладно, и в некоторых витринах уже горел свет. Мне пришлось пройти всю Нетцмахергассе, пока я не нашел писчебумажный магазин.
На старомодных полках в магазине были беспорядочно навалены товары, на прилавке лежала колода карт; кто-то, очевидно, взял ее, но обнаружил брак и положил рядом с разорванной оберткой колоды испорченные карты: бубновый туз, на котором немного стерлась большая бубна в середине карты, и надорванную девятку пик. Тут же валялись шариковые ручки, а рядом лежал блокнот, на котором покупатели их пробовали. Опершись локтями о прилавок, я разглядывал блокнот. Он был испещрен росчерками и диковинными закорючками, кто-то написал название улицы: «Бруноштрассе», – но большинство изображало свою фамилию, и в начальных буквах нажим был сильнее, чем в конце; я явственно различил подпись «Мария Келиш», написанную твердым округлым почерком, а кто-то другой подписался так, словно он воспроизводил речь заики: «Роберт Б– Роберт Бр– Роберт Брах»; почерк был угловатый и трогательно старомодный, и мне казалось, что это писал старик. «Хейнрих» – нацарапал кто-то, и дальше тем же почерком – «незабудка», а еще кто-то вывел толстым пером авторучки слова: «старая халупа».
Наконец пришла молодая женщина; приветливо кивнув мне, она сунула колоду с двумя бракованными картами обратно в коробку.
Сперва я попросил у нее открыток с видами, пять штук, я взял пять верхних открыток, из целой пачки, которую она положила передо мной; на открытках были изображены парки и церкви и на одной – не известный мне памятник, он назывался «Памятник Нольдеволю»: отлитый из бронзы мужчина в сюртуке разворачивал свернутую трубочкой бумагу, которую он держал в руках.
– Кто был этот Нольдеволь? – спросил я молодую женщину, подавая ей открытку, которую она вместе с остальными вложила в конверт. У женщины было очень дружелюбное румяное лицо и темные волосы с проборем посередине, и она выглядела так, как выглядят женщины, которые хотят уйти в монастырь.
– Нольдеволь, – ответила она, – построил северную часть города.
Северная часть города была мне знакома. Высокие дома, где сдавались квартиры внаем, до сих пор пытались сохранить свой облик бюргерского жилья 1910 года; по улицам здесь кружили трамваи: широкие зеленые вагоны казались мне такими же романтичными, какими моему отцу, наверное, казались в 1910 году почтовые кареты.
– Спасибо, – сказал я и про себя подумал: «За это, значит, раньше ставили памятники».
– Не желаете ли еще чего-нибудь? – спросила женщина.
– Да, дайте мне, пожалуйста, еще коробку почтовой бумаги, ту, большую, зеленую.
Она открыла витрину и, вынув коробку, смахнула с нее пыль.
Я наблюдал за тем, как она сматывала оберточную бумагу с большого рулона, висевшего позади нее на стене, и меня поразили ее красивые маленькие, очень белые руки; и вдруг я вынул из кармана авторучку, открыл ее и написал свое имя под именем Марии Келиш в блокноте, где покупатели пробовали шариковые ручки. Не знаю, зачем я это сделал, но мне показалось необычайно заманчивым увековечить свое имя на этом листке.
– О, – заметила женщина, – может быть, вы хотите наполнить ручку?
– Нет, – пробормотал я, чувствуя, что краснею, – нет, спасибо, я ее совсем недавно наполнил.
Она улыбнулась, и мне показалось даже, что она поняла, почему я это сделал.
Я положил деньги на прилавок, вынул из кармана пиджака свою чековую книжку, заполнил на прилавке чек на сумму в двадцать две марки пятьдесят пфеннигов, надписав наискосок «В порядке расчета», вытащил из конверта открытки, вложенные женщиной, сунул их в карман, а в конверт положил чек. Конверт был самый дешевенький, из тех, что получаешь от налогового управления или от полиции. Пока я надписывал конверт, адрес Виквебера начал расплываться; я перечеркнул его и медленно написал снова.
Взяв одну марку из сдачи, поданной мне женщиной, я подвинул ее обратно и сказал:
– Дайте мне, пожалуйста, почтовых марок: одну десятипфенниговую и одну «В помощь нуждающимся».
Она открыла ящик, вынула из маленькой тетрадки марки и подала их мне, а я наклеил марки на конверт.
Мне хотелось истратить побольше денег; я оставил сдачу на прилавке и окинул испытующим взглядом полки: там лежали еще общие тетради, такие, в каких мы писали в техникуме; я выбрал тетрадь в переплете из мягкой зеленой кожи и подал ее через прилавок женщине, чтобы она завернула. Она снова стала раскручивать рулон оберточной бумаги, и, взяв в руки маленький сверток, я понял, что Хедвиг никогда не использует эту тетрадь для записывания лекций.
Пока я шел по Нетцмахергассе, мне казалось, что этот день никогда не кончится; только лампы в витринах горели чуть ярче. Я бы с удовольствием истратил еще больше денег, но ни одна из витрин не привлекала меня; я немного задержался только перед лавкой гробовщика, посмотрел на слабо освещенные темно-коричневые и черные ящики и пошел дальше; свернув опять на Корбмахергассе, я вспомнил об Улле. С ней вовсе не будет так легко, как мне только что казалось. Я это понял; она уже давно и хорошо знала меня, но и я знал ее: целуя Уллу, я видел иногда за ее гладким красивым девичьим лицом мертвый череп, в который превратится когда-нибудь голова ее отца; череп в зеленой фетровой шляпе.
Вместе с ней я обманывал старика значительно более хитрым и прибыльным способом, нежели во время той истории с электрическими плитками; спекулируя железным ломом, который добывала целая бригада рабочих, обшаривая под моим началом развалины домов, предназначенных на слом, мы зарабатывали весьма неплохо, и впрямь большие деньги; часть комнат, куда мы влезали по высоким приставным лестницам, осталась совершенно цела, и мы находили ванные и кухни,где все было как новое: колонки и бачки для горячей воды сохранились вплоть до последнего винтика, на эмалированных крючках иногда еще висели полотенца и на стеклянных полочках лежали рядышком губная помада и бритвенный прибор; в ваннах еще была вода, а мыльная пена, похожая на хлопья извести, осела на дно; в чистой воде плавали резиновые зверушки, которыми играли дети, задохнувшиеся в подвалах; я смотрелся в зеркала, куда в последний раз в жизни смотрелись люди, погибшие несколько минут спустя, в зеркала, в которых я от злости и отвращения разбивал свое собственное лицо молотком; серебряные осколки осыпали бритвенные приборы и трубочки губной помады; я вытаскивал пробки из ванн, и вода падала вниз через четыре этажа, а резиновые зверушки медленно опускались на известковое дно ванны.
Однажды мы нашли швейную машину; иголка была еще воткнута в кусок коричневой материи, из которой шили штанишки какому-то мальчугану; и никто не понял, почему я сбросил швейную машину вниз в открытую дверь, мимо лестницы, чтобы она разбилась о каменные глыбы и обломки стен; но охотнее всего я уничтожал свое собственное лицо в найденных нами зеркалах; серебряные осколки рассыпались, как звонкие каскады воды. И так продолжалось до тех пор, пока Виквебер не стал удивляться, почему среди добычи от мародерских набегов никогда не встречалось ни одного зеркала; и бригада рабочих для обследования руин была передана другому подмастерью.
Но они послали меня, когда разбился один из учеников, забравшийся ночью в разрушенный дом, чтобы вытащить оттуда электрическую стиральную машину. Никто не мог понять, как ему удалось попасть на третий этаж; но он попал туда и начал спускать на веревке большую, как комод, стиральную машину, но сорвался вместе с ней. Когда мы пришли, его тачка еще стояла на улице, освещенная солнцем. Прибыла полиция, и кто-то уже мерил длину веревки и, качая головой, смотрел наверх в открытую кухонную дверь, через которую был виден веник, прислоненный к выкрашенной синей краской стене. Стиральная машина раскололась, как орех, барабан выкатился наружу; но мальчик, упавший на груду полусгнивших матрасов, погребенный среди морской травы, казалось, даже не был ранен; его горько сжатый рот был таким же, как всегда, – то был рот голодного человека, который не верит в справедливость на этой земле; звали его Алоис Фруклар, и к Виквеберу он поступил всего три дня назад. Я отнес его тело в машину из морга, и какая-то женщина, стоявшая на улице, спросила меня:
– Это ваш брат?
– Да, это мой брат, – ответил я.
А после обеда я видел, как Улла, обмакнув перо в чернильницу с красными чернилами, вычеркнула с помощью линейки его фамилию из платежной ведомости; черта, проведенная ею, была ровной и аккуратной и такой же красной, как кровь, как воротник на портрете Шарнгорста, как губы Ифигении, как изображение сердца на червонном тузе.
Хедвиг обхватила голову руками; ее зеленый джемпер поднялся кверху; руки Хедвиг упирались в стол, словно две бутылки, сжавшие своими горлышками ее лицо; округлость лица Хедвиг приходилась как раз на то место, где горлышки суживались; глаза у нее были темно-карие, но в глубине просвечивало что-то светло-желтое, почти такого же цвета, как мед; и я увидел, что моя тень упала на ее глаза. Но она по-прежнему смотрела куда-то мимо меня: она видела ту переднюю, где я был ровно двенадцать раз с тетрадями по иностранным языкам и о которой сохранил лишь неясное, расплывчатое воспоминание; видела красноватый линкруст, а может быть, темно-коричневый, потому что в переднюю всегда проникало мало света; портрет своего отца в студенческой шапочке и диковинную подпись какой-то корпорации, кончавшуюся на «…ония»; ощущала запах мятного чая и табака, видела полочку для нот; на одной из нотных тетрадей, лежавшей сверху, я как-то прочел: «Григ. «Танец Анитры».
Сейчас я хотел бы знать эту переднюю так же хорошо, как ее знала Хедвиг; я пытался вспомнить предметы, уже, быть может, позабытые мной; я вспарывал свою память, как вспарывают подкладку пиджака, чтобы вытащить оттуда монетку, которую удалось обнаружить на ощупь, монетку, ставшую вдруг бесконечно ценной, потому что она – единственная и последняя; на эту монетку можно купить две булочки, одну сигарету или трубочку мятных конфет; пряная сладость белых, похожих на церковные облатки конфет может заглушить голод; я. словно накачивал воздух в легкие, отказывающиеся работать.
А когда распорешь подкладку, в руках у тебя оказываются пыль и волоски шерсти и ты нащупываешь пальцем бесценную монету, и, хотя точно знаешь, что там всего десять пфеннигов, тебе хочется верить, что ты найдешь целую марку. Но то были только десять пфеннигов, я обнаружил их, и им не было цены… над входом висело распятие, а перед ним – лампадка, мне было видно это, только когда я выходил из квартиры.


