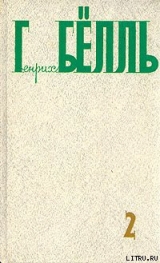
Текст книги "Хлеб ранних лет"
Автор книги: Генрих Бёлль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
За эти семь лет я слишком хорошо узнал цены, и поэтому не выношу слово «недорогой»; «недорогих» вещей нет, а цены на хлеб всегда слишком высоки.
Теперь я стал на ноги – так, кажется, говорят, – я настолько хорошо изучил свое ремесло, что давно уже перестал быть для Виквебера дешевой рабочей силой, как первые три года. У меня есть маленький автомобиль, за который я даже расплатился, и вот уже несколько лет я коплю деньги, с тем чтобы стать независимым от Виквебера и иметь возможность в любой момент внести залог и перейти к кому-нибудь из его конкурентов. Большинство людей, с которыми мне приходится иметь дело, приветливы со мной, и я плачу им тем же. Можно сказать, что мои дела обстоят вполне сносно. Я теперь сам в цене, в цене мои руки и мои технические знания, накопленный мною опыт и мое любезное обращение с клиентами (ибо меня хвалят за приятное обхождение и за безупречные манеры, что особенно важно, так как я агент по продаже тех самых машин, которые могу теперь ремонтировать с закрытыми глазами). Свою цену мне все еще удается повышать, мои дела идут как по маслу, а за это время цены на хлеб, как говорят, теперь успели прийти в норму. Итак, я работал двенадцать часов в сутки, спал восемь, и у меня еще оставалось четыре часа на то, что называется досугом: я встречался с Уллой, дочерью моего шефа, с которой хотя и не был помолвлен, или, вернее, не был помолвлен, так сказать, формально, но которая считалась тем не менее моей невестой; об этом, правда, не говорилось вслух, но все были уверены, что я на ней женюсь.
И все же ни к кому я не испытываю такой нежности, как к сестре Кларе из госпиталя святого Винцента, которая давала мне суп, хлеб, ярко-красный пудинг, желтую, как сера, подливку и подарила мне в общей сложности, наверное, штук двадцать сигарет; ее пудинг показался бы мне теперь невкусным, ее сигареты я не стал бы сейчас курить, но к сестре Кларе, уже давно покоящейся на монастырском кладбище, и к памяти об ее одутловатом лице и водянистых глазах, с грустью глядевших на нас, когда ей приходилось окончательно захлопывать окошко, я отношусь с большей нежностью, чем ко всем людям, с которыми мне довелось познакомиться, гуляя с Уллой: по глазам этих людей и по их рукам я читаю цены, которые мне пришлось бы им платить, и я стряхиваю с себя их очарование, мысленно разоблачаю их, стараюсь забыть аромат исходящий от этих людей, – снимаю с них все их показное достоинство, которое так дешево стоит. Встречаясь с ними, я бужу в себе волка, все еще дремлющего во мне, бужу голод, который научил меня разбираться в ценах: я слышу его рычание, когда, танцуя, кладу голову на плечо красивой девушки и вижу, как хорошенькие маленькие ручки, покоящиеся на моей руке и на моем плече, превращаются в когти, готовые вырвать у меня хлеб. Лишь очень немногие люди давали мне, ничего не требуя взамен: только отец, мать да еще иногда работницы с фабрики…
II
Я вытер лезвие бритвы бумажной салфеткой; пачка салфеток всегда висит рядом с моим умывальником. – мне дарит их агент мыльной фирмы; на каждом листке изображен кроваво-красный женский рот, и под этим кроваво-красным ртом написано: «Не стирайте помаду полотенцем!» Есть салфетки другого рода: на каждой из них нарисована мужская рука с лезвием, разрезающим полотенце, и на листках напечатано: .«Вытирая бритву, пользуйтесь этой салфеткой!» – но я предпочитаю употреблять листки с кроваво-красным ртом, а салфетки с другим рисунком дарю детям хозяйки.
Я взял с письменного стола деньги – возвращаясь домой, я вытаскиваю их из карманов и бросаю как попало на стол, – и моток провода, который Вольф принес еще вчера, и, уже выходя из комнаты, услышал телефонный звонок. Хозяйка опять сказала: «Хорошо, я ему передам!»– и, посмотрев на меня, молча протянула мне трубку; я покачал головой, но она с таким серьезным лицом кивнула мне, что я все же подошел и взял трубку. Плачущий женский голос произнес какую-то фразу, но я разобрал только несколько слов:
– Курбельштрассе, приходите… пожалуйста, приходите…
– Хорошо, приду, – сказал я, и плачущая женщина опять что-то произнесла, но я уловил только отдельные слова:
– Мы поспорили… мой муж… приходите, пожалуйста, сейчас же…
Я еще раз сказал:
– Ладно, приду, – и повесил трубку.
– Не забудьте купить цветы, – напомнила хозяйка,– и подумайте о еде. Она приедет как раз к обеду.
О цветах я забыл; мне пришлось ехать с самой окраины обратно в город, хотя поблизости надо было произвести еще один ремонт и, таким образом, можно было дважды поставить в счет расстояние до места и время, потраченное на езду. Я ехал быстро, потому что было уже половина двенадцатого, а поезд приходил в 11.47. Этот поезд я знал; по понедельникам я часто возвращался с ним в город, навестив отца. По дороге на вокзал я попытался представить себе девушку.
Семь лет назад, в тот последний проведенный дома год, я несколько раз видел ее; этот год я был у Муллеров ровно двенадцать раз: каждый месяц я относил Муллеру тетради по иностранным языкам, которые, в очередь с другими учителями, просматривал отец. На последней странице, в самом низу, стояли аккуратные росчерки трех учителей иностранных языков: «Му» – что значило Муллер, «Цбк» – Цубанек и «Фен» – так подписывался мой отец, фамилию которого – Фендрих – я ношу.
Наиболее ясно вспоминались мне темные пятна на доме Муллера: на зеленой краске вплоть до окон первого этажа виднелись черные, похожие на облака, подтеки сырости, которая подымалась от земли; фантастические узоры казались мне похожими на карты из какого-то таинственного атласа; к лету пятна подсыхали по краям и их окружали белые, как плесень, разводы, но даже в летний зной в этих облаках можно было различить темно-серое ядро. Зимой и осенью сырость – черная и кислая – переползала через белые, словно плесень, края и расплывалась, как чернильная клякса на промокашке. Я хорошо помнил также самого Муллера, неряшливого, в домашних шлепанцах, помнил его длинную трубку, кожаные корешки его книг и фотографию в передней, где Муллер был снят молодым человеком в пестрой студенческой шапочке, а под этой фотографией было витиеватым почерком написано, кажется, «Тевтония» или же название какой-то другой корпорации на «…ония». Иногда я видел сына Муллера; он был на два года моложе меня и когда-то учился со мной в одном классе, но уже давно меня обогнал. Ширококостный, коротко подстриженный, он походил на молодого буйвола; со мной он старался пробыть не более минуты; этому доброму малому были, очевидно, неприятны наши встречи, потому что в разговоре со мной ему с трудом удавалось избежать всего того, что, по его мнению, могло меня задеть: сострадания, высокомерия или неприятной, неестественной фамильярности. Поэтому он ограничивался тем, что, встретив меня, хриповатым, но бодрым голосом говорил «добрый день» и показывал мне дорогу в комнату отца. Всего лишь дважды я видел маленькую девочку лет двенадцати-тринадцати; в первый раз она играла в саду с пустыми цветочными горшками; она построила башню из сухих светло-красных горшков у зеленой, как мох, стены и испуганно вздрогнула, когда женский голос крикнул: «Хедвиг!»; казалось, ее страх передался башне из цветочных горшков – горшок, стоявший на самом верху, скатился вниз и разбился на мокром темном цементе двора,
В другой раз я встретил девочку в коридоре, который вел в комнату Муллера: она устроила в бельевой корзине постель для куклы; светлые волосы рассыпались по ее худой детской шейке, которая в сумраке коридора показалась мне зеленоватой. И я слышал, как, склонившись над невидимой куклой, она мурлыкала себе под нос какую-то не известную мне песенку, в которой через определенные промежутки времени повторялось одно-единственное слово: «Зувейя… зу… зу… зузувейя», – и когда я проходил мимо нее в комнату Муллера, она взглянула на меня, и я различил ее лицо: оно было бледное и худое, и на него свисали прямые пряди светлых волос Должно быть, это и была она, Хедвиг, для которой я снял комнату.
Комнату, какую я должен был разыскать для дочери Муллера, ищут в нашем городе не менее двадцати тысяч человек; однако таких комнат бывает раз-два и обчелся, и сдает их тот безвестный ангел, что изредка блуждает среди людей; у меня как раз такая комната, я нашел ее в то время, когда просил отца забрать меня из общежития. Моя комната большая, мебели в ней немного, и все вещи хотя и старинные, но удобные; четыре года, что я уже прожил в этом доме, кажутся мне вечностью: при мне родились дети хозяйки, и я стал крестным самого младшего из них – потому что именно я привел ночью акушерку. В течение многих недель, когда мне приходилось рано вставать, я грел для Роберта молоко и кормил его из бутылочки, потому что хозяйка, измотанная ночной работой, просыпалась поздно, а будить ее у меня не хватало духу. Ее муж принадлежит к числу людей, которые в глазах света слывут артистическими натурами, его, как и многих других, считают жертвой обстоятельств; часами он жалуется на свою загубленную молодость, которую у него будто бы украла война.
– Нас обманули, – говорит он, – нас обманули, лишив самых лучших лет в жизни человека – от двадцати до двадцати восьми!
И эта загубленная молодость служит ему оправданием для глупостей, совершаемых им, а жена не только прощает ему все, но и потворствует; он рисует, набрасывает эскизы домов, сочиняет музыку…
Ничего он не делает по-настоящему —так мне, по крайней мере кажется, – хотя время от времени его работы приносят деньги. По всей квартире развешаны его наброски: «Писательский домик в горах Таунуса», «Дом скульптора», – и на всех набросках тьма деревьев, какие изображают архитекторы; а я ненавижу деревья, изображаемые архитекторами, потому что вот уже пятый год вижу их ежедневно. Я глотаю его советы, как люди глотают лекарства, прописанные знакомым врачом.
– В этом городе, – говорит он, например, – я в вашем возрасте жил один, как и вы, и мне пришлось преодолевать опасности, каких я не пожелал бы вам. – Я знаю, что, говоря об опасностях, он намекает на кварталы, населенные проститутками.
Муж моей хозяйки весьма любезен, но, по-моему, глуп; он обладает только одной способностью – сохранять любовь своей жены, которой он делает прелестных детей. Моя хозяйка – высокая блондинка, и долгое время я был так страстно влюблен в нее, что тайком целовал ее фартук и перчатки, и от ревности к этому дурню, ее мужу, не мог спать по ночам. Но она его любит, и, по-видимому, мужчине вовсе не обязательно быть энергичным и преуспевающим, чтобы его любила такая женщина, как она, женщина, которой я не перестаю восхищаться. Часто он перехватывает у меня несколько марок, чтобы пойти в одно из тех кафе, куда ходит богема, и, нацепив дикий галстук и взлохматив волосы, он разыгрывает из себя невесть что, выпивая при этом целую бутылку водки; я даю ему деньги, потому что не хочу огорчать его жену, унижая его. И он знает, почему я даю ему деньги, ибо он наделен той хитростью, без которой бездельники умерли бы с голоду. Он принадлежит к категории бездельников, умеющих делать вид, будто они великие импровизаторы, но я не верю в то, что он действительно умеет импровизировать.
Мне всегда казалось, что вторую такую комнату, как моя, не сыщешь, тем более я поразился, когда подыскал для дочери Муллера почти такую же хорошую комнату в самом центре, в одном доме с прачечной, где мне приходится наблюдать за работой стиральных машин – я проверяю прочность резиновых частей, меняю передачи, пока они еще не износились, закрепляю винты, чтобы они не разболтались. Я люблю центр города – эти кварталы, сменившие за последние пятьдесят лет своих хозяев и жильцов; они напоминают мне фрак, который впервые одели на свадьбу, а потом отдали обедневшему дядюшке, подрабатывающему в качестве музыканта; его наследники заложили фрак в ломбард, да так и не выкупили, и он достался старьевщику; старьевщик приобрел его на аукционе и по сходной цене отдает на прокат разорившимся аристократам, нежданно-негаданно приглашенным на прием к какому-нибудь министру, чье государство они тщетно пытаются разыскать в географических атласах своих младших сыновей.
В доме, где теперь находится прачечная, я снял для дочери Муллера комнату, удовлетворяющую почти всем его требованиям: она просторная, обставлена отнюдь не безобразно, и большое окно выходит в старый барский сад; после пяти здесь – в центре – тихо и спокойно.
Я снял комнату с первого февраля. Но потом начались недоразумения: в конце января Муллер написал, что его дочь заболела и приедет только к пятнадцатому марта и нельзя ли так устроить, чтобы комната оставалась за нею, но не оплачивалась. Я написал ему гневное письмо, где разъяснил, каковы жилищные условия в нашем городе, на устыдился, получив от него смиренный ответ, в котором он выражал согласие внести квартирную плату за эти шесть недель.
О девушке я вообще почти не вспоминал, я только удостоверился, что Муллер действительно внес плату. Он прислал деньги, и, когда я справился об этом у хозяйки, она не преминула спросить меня о том же, о чем спрашивала раньше, когда я смотрел комнату.
– Это не ваша подружка, это в самом деле не ваша
подружка? 30
– Боже мой, – ответил я сердито, – говорю вам, что я вообще не знаком с этой девушкой.
– Я не допущу, – произнесла она, – чтобы…
– Я знаю, – ответил я, – чего вы не допустите, но говорю вам: с этой девушкой я не знаком.
– Хорошо, – сказала хозяйка, и я возненавидел ее уже за одну ее усмешку. – Ведь я спрашиваю потому, что для жениха с невестой я иногда делаю исключение.
– Боже мой, – проговорил я, – этого еще недоставало. Успокойтесь, пожалуйста… – Но, кажется, она так и не успокоилась.
На вокзал я пришел с опозданием на несколько минут и, бросая монетку в автомат, чтобы получить перронный билет, попытался представить себе девушку, которая пела «Зувейя», когда я проходил по темному коридору в комнату Муллера с тетрадями по иностранным языкам. Остановившись у лестницы, ведущей на перрон,,я размышлял: блондинка, двадцати лет, приезжает в город, чтобы стать учительницей; и когда я разглядывал людей, проходивших мимо меня, мне казалось, что весь мир населен белокурыми двадцатилетними девушками, – так много их сошло с поезда; и все они несли в руках чемоданы и выглядели так, будто приехали в город, чтобы стать учительницами. Я слишком устал, чтобы заговорить с кем-нибудь из них; закурив сигарету, я перешел на другую сторону лестницы и увидел за барьером девушку, сидевшую на своем чемодане, девушку, которая все это время, видимо, находилась позади меня: у нее были темные волосы, а одета она была в пальто, зеленое, как трава, выросшая за одну теплую дождливую ночь; оно было такое зеленое, что от него, казалось, должно пахнуть травой; волосы девушки были темные, как шиферная крыша после дождя, а лицо – ослепительно белое, почти такое же белое, как свежая штукатурка, сквозь которую еще просвечивает охра. Я подумал, что она накрашена, но ошибся. Глядя в упор на это кричаще зеленое пальто, глядя на ее, лицо, я вдруг почувствовал страх, – страх, какой испытывают путешественники, когда вступают на открытую ими землю, зная, что другая экспедиция уже в пути и, быть может, успела водрузить свой флаг и завладеть этой землей; путешественники, которые боятся как бы не оказались напрасными все тяготы их долгого пути, все трудности, борьба не на жизнь, а на смерть.
Лицо этой девушки проникло в самую глубь моего существа, прошло сквозь меня, как штамп для чеканки серебра прошел бы сквозь воск, и мне показалось, словно я пронзен насквозь, но не истекаю кровью; в какой-то безумный миг мне вдруг захотелось уничтожить это лицо, как художник уничтожает оригинал, с которого успел снять один-единственный оттиск.
Я бросил сигарету и пробежал шесть шагов, составлявших ширину лестничной площадки. Но страх мой пропал, лишь только я очутился рядом с девушкой. Я произнес:
– Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Она улыбнулась, кивнула головой и ответила:
– О да, вы можете сказать мне, где находится Юденгассе.
– Юденгассе? – удивился я, у меня было такое чувство, будто я услышал свое имя во сне, но еще не осознал, что это действительно мое имя; я был не в себе, и мне казалось, я понял, что значит быть не в себе.
– Юденгассе, – повторил я, – да, Юденгассе. Пойдемте.
Я видел, как она встала и с некоторым удивлением взяла тяжелый чемодан; я был слишком потрясен и не подумал, что чемодан полагается нести мне; в ту минуту я был очень далек от привычной вежливости. Мысль о том, что она и есть Хедвиг Муллер, – в то мгновение еще не полностью осознанная мною, хотя эта мысль должна была со всей очевидностью возникнуть у меня, когда девушка произнесла слово «Юденгассе», – чуть не свела меня с ума. Здесь была какая-то путаница, неразбериха; я был настолько уверен, что дочь Муллера – блондинка, одна из тех многочисленных блондинок, будущих учительниц, которые проходили мимо меня, что не мог сразу отождествить эту девушку с ней; до сих пор я часто сомневаюсь, что она и есть Хедвиг Муллер, и произношу это имя неуверенно, ибо мне кажется, что ее настоящее имя мне еще предстоит узнать.
– Да, да, – сказал я в ответ на ее вопросительный взгляд, – пойдемте!
Пропустив девушку с тяжелым чемоданом вперед, я последовал за ней к выходу.
В те полминуты, пока я шел за ней, я думал о том. что буду ею обладать и ради этого готов разрушить все, что могло бы мне помешать. Я уже видел, как разрушаю стиральные машины, разбивая их десятифунтовым молотом. Я смотрел на спину Хедвиг, на ее шею и руки, побелевшие от того, что она несла тяжелый чемодан. Я ревновал ее к железнодорожному чиновнику, который на секунду дотронулся до ее руки, когда она протянула ему билет; я ревновал ее к полу вокзала, потому что по нему ступали ее ноги. Мы были почти у самого выхода, когда я сообразил, что мне надо взять чемодан.
– Простите, – произнес я, подскочил к ней и взял у нее из рук чемодан.
– Очень мило, – сказала она, – что вы пришли меня встретить.
– Боже мой, – пробормотал я, – разве вы меня знаете?'
– Конечно, – ответила она, смеясь, – ведь ваша карточка стоит на письменном столе у вашего отца.
– Вы знакомы с моим отцом?
– Да, – сказала она, – я училась у него.
Я засунул чемодан в багажник, поставил рядом ее сумку и помог ей сесть в машину, и тогда я в первый раз дотронулся до ее руки и локтя. У нее был круглый, крепкий локоть, а рука большая, но легкая; в ту минуту эта рука была сухой и прохладной. Обойдя машину, чтобы сесть за руль, я остановился у радиатора, открыл капот и сделал вид, будто разглядываю что-то в моторе; но я смотрел на девушку через переднее стекло, и мне стало страшно уже не потому, что ее может открыть и завоевать кто-то другой, – этого я больше не боялся, – ибо все равно я ее никогда не оставлю, ни сегодня, ни во все те дни, что наступят потом, во все дни, совокупность которых называется жизнью. Нет, я боялся другого – боялся того, что произойдет потом; поезд, куда я хотел сесть, готовился к отправлению, он стоял под парами, пассажиры уже вошли –, семафор был открыт, и человек в красной фуражке поднял жезл; все ждали только меня, потому что я уже стоял на подножке и вот-вот должен был войти в вагон, но в эту секунду я соскочил вниз. Я думал о тех многочисленных откровенных объяснениях, которые мне придется пережить; теперь я понял, что всегда ненавидел откровенные объяснения – эту бесконечную, бессмысленную болтовню, бесплодные рассуждения о том, кто виноват и кто прав, упреки, ссоры, телефонные звонки, письма, я ненавидел вину, которую должен буду взять на себя, – вину, уже лежащую на мне. Я видел, как моя прежняя вполне сносная жизнь катилась дальше, словно сложная машина, построенная для человека, которого уже нет, – меня уже не было; и машина разрушалась: винты развинчивались, поршни накалялись, железные части летели во все стороны, пахло гарью.
Я давно уже закрыл капот и, упершись локтями в радиатор, смотрел сквозь переднее стекло на ее лицо, разделенное дворником на две неравные части; мне казалось непостижимым, что до сих пор ни один мужчина не понял, как она красива, что никто ее не разглядел, а может быть, она стала такой лишь в тот миг, как я увидел ее?
Когда я вошел в машину и сел рядом с ней, она взглянула на меня, и в ее глазах я заметил страх перед тем, что я мог бы сказать или сделать, но я ничего не сказал, молча включил мотор и поехал в город; только изредка, поворачивая направо, я смотрел на нее сбоку, изучая ее профиль, и она тоже разглядывала меня. Я поехал на Юден-гассе и уже затормозил было, чтобы остановиться перед ее домом, но я еще не знал, как вести себя потом, когда мы остановимся, выйдем из машины и войдем в квартиру, и поэтому я проехал всю Юденгассе и, поколесив по городу, опять вернулся к вокзалу, снова проделал тот же путь до Юденгассе и на этот раз остановился.
Не говоря ни слова, я помог ей выйти из машины, снова взял ее большую руку в свою и почувствовал, как ее круглый локоть коснулся моей левой ладони. Взяв чемодан, я пошел к парадному, позвонил и, когда она нагнала меня с сумочкой в руках, не обернулся. Я побежал с чемоданом вперед, поставил его наверху перед дверью квартиры и встретил Хедвиг, когда она медленно поднималась по лестнице, держа свою сумочку. Я не знал, как ее назвать; мне казалось, что имена Хедвиг и фрейлейн Муллер не подходят к ней, и поэтому я просто сказал:
– Через полчаса я зайду за вами и мы пойдем обедать, ладно?
Она слегка кивнула мне в ответ, задумчиво глядя куда-то мимо меня, и казалось, будто она что-то глотает. Больше я не произнес ни слова, сбежал вниз, сел в машину и поехал сам не зная куда. Не помню, по каким улицам я проезжал и о чем думал, помню только, что моя машина казалась мне бесконечно пустой, машина, в которой я почти всегда ездил один и лишь изредка с Уллой; и я пытался представить себе, как было час назад, когда я ехал без Хедвиг к вокзалу.
Но я уже не мог вспомнить, что было раньше; и хотя я представлял себе, как еду в своей машине на вокзал, мне казалось, что то был мой брат-близнец, похожий на меня, как две капли воды, но в остальном не имеющий ничего общего со мной.
Я пришел в себя, только подрулив к цветочному магазину; остановив машину, я вошел в магазин. Там было прохладно, сладко пахло цветами и никого, кроме меня, не было. Я подумал о том, что на свете должны существовать зеленые розы, розы с зелеными цветами, и потом в зеркале я увидел, как вынимаю бумажник и ищу деньги, но не сразу узнал себя и покраснел, потому что, произнеся вслух «зеленые розы», почувствовал, будто кто-то подслушал меня. И только в этот миг я узнал себя по краске, покрывшей мое лицо, и подумал: значит, это действительно я, у меня и впрямь весьма благородная внешность. Откуда-то сзади вышла старуха, и я уже издали увидел, как она улыбалась, сияя своими вставными зубами; она еще дожевывала последний кусок и, проглотив его, заулыбалась снова, и все же мне показалось, что вместе с едой она проглотила улыбку. По ее лицу я видел, что она причислила меня к тем, кто покупает красные розы, улыбаясь, она подошла к большому букету красных роз, стоявшему в серебряном кувшине; она ласкала цветы, чуть прикасаясь к ним пальцами, но мне это показалось непристойным; я вспомнил публичные дома, от которых предостерегал меня герр Бротиг, муж моей хозяйки, и вдруг понял, почему мне было так неприятно: здесь было, как в публичном доме, я знал это, хотя никогда не бывал там.
– Они восхитительны, не правда ли?—сказала женщина. Но я не хотел красных роз, я никогда не любил их.
– Белых, – сказал я хрипло; и, улыбаясь, она направилась к бронзовому кувшину, где стояли белые розы.
– Ах, так,– сказала она, – для свадьбы!
– Да, – ответил я, – для свадьбы.
В кармане пиджака у меня лежали две бумажки и мелочь; я выложил все деньги на прилавок и сказал, как говорил, будучи ребенком, когда клал на прилавок всю свою наличность, требуя «конфет на все деньги»:
– Дайте мне белых роз на все деньги… и побольше зелени.
Кончиками пальцев женщина взяла деньги, пересчитала их и начала вычислять на оберточной бумаге, сколько роз мне следовало получить. Считая, она не улыбалась, но стоило ей направиться к бронзовому кувшину с белыми розами, как улыбка на ее лице появилась опять, будто внезапная икота. Резкий приторный запах, наполнявший лавку, неожиданно настиг меня, словно смертельный яд, и, сделав два больших шага к» прилавку, я схватил свои деньги и кинулся прочь.
Вскочив в машину, я в то же время увидел себя из какой-то бесконечной дали, словно человека, ограбившего кассу магазина; я помчался вперед, и, когда заметил перед собой вокзал, у меня было такое чувство, будто я уже тысячу лет подряд тысячу раз на день вижу этот вокзал, хотя на вокзальных часах было всего лишь десять минут первого, а без четверти двенадцать я еще только бросал монетку в автомат для перронных билетов; мне казалось, что я еще слышу, как гудит автомат, пожирая монетку, как он легко и насмешливо щелкает, выплевывая картонный билетик; но за эти двадцать пять минут я уже успел позабыть, кто я, как выгляжу и чем занимаюсь.
Объехав вокруг вокзала, я остановился у цветочного киоска напротив ремесленного банка, вышел из машины и попросил желтых тюльпанов на три марки; мне дали десять штук, и я протянул женщине еще три марки и попросил дать мне еще десять тюльпанов. Я принес тюльпаны в машину, бросил их на заднее сиденье, где лежал чемоданчик с инструментами, прошел мимо киоска в ремесленный банк, и когда я вытаскивал из внутреннего кармана пиджака свою чековую книжку и медленно подходил к окошку кассы, то показался себе немного смешным: я боялся, что мне не выдадут деньги. На зеленой обложке чековой книжки я написал сумму вклада—1710 марок 80 пфеннигов – и медленно заполнил чек; в узкой графе вверху справа написал 1700 и то же число – «одна тысяча семьсот» – проставил после слов «сумма прописью». И когда я подписывал внизу свое имя, Вальтер Фендрих, то мне казалось, что я совершаю подлог. Передавая чек девушке у кассы, я еще испытывал страх, но она взяла чек и, не глядя на меня, бросила его на ленту конвейера, а мне протянула желтый картонный номерок. Стоя у кассы, я видел, как по другой ленте конвейера чеки возвращались к кассиру; мой чек тоже быстро вернулся, и я был удивлен, услышав, что кассир выкрикнул мой номер; подвинув к нему по белой мраморной доске картонный номерок, я получил деньги – десять бумажек по сто марок и четырнадцать по пятьдесят.
Выходя из банка с деньгами в кармане, я чувствовал себя как-то странно: это были мои деньги, я скопил их, скопил без особого труда, потому что хорошо зарабатывал, но вид белых мраморных колонн и позолоченной входной двери, через которую я вышел на улицу, выражение строгой важности на лице швейцара – все это вызвало во мне такое ощущение, будто я украл свои деньги.
Однако, сев в машину, я засмеялся и быстро поехал обратно на Юденгассе.
Я позвонил у фрау Гролта и, когда наверху открыли, толкнул дверь спиной и, усталый, отчаявшийся, поднялся по лестнице: я боялся того, что мне еще предстояло. Цветы я опустил головками книзу и нес их, как бумажный кулек с картошкой. Я шел вперед, не глядя ни налево, ни направо. Не знаю, какую мину состроила хозяйка, когда я проходил мимо нее, потому что я не взглянул в ее сторону.
Хедвиг сидела у окна с книгой руках, но я сразу понял, что она не читала; тихо проскользнув через переднюю к двери ее комнаты, я открыл дверь так бесшумно, как делают воры, хотя никогда не занимался подобным ремеслом и не обучался этому искусству. Она захлопнула книгу, и мне никогда не забыть это едва заметное движение, как и ее улыбку; я и сейчас еще слышу, как захлопнулась книга, при этом вылетел железнодорожный билет, который Хедвиг сунула вместо закладки, но ни она, ни я – ни один из нас не нагнулся, чтобы поднять его.
Я все еще стоял у двери, смотрел на старые деревья сада, на платья Хедвиг, которые она вынула и бросила как попало на стулья и на стол; я без труда прочел название книги, напечатанное четкими красными буквами по серому фону: «Учебник педагогики». Хедвиг стояла между кроватью и окном, руки ее были опущены, а кисти слегка сжаты, как у человека, который собирается барабанить, но еще не взял палочки. Я смотрел на нее, но думал совсем не о ней, я думал о том, что рассказывал мне подмастерье Виквебера, с которым я был неразлучен в первый год ученья. Его звали Греммиг, он был высокий и худой, и его рука – от кисти до локтя – была сплошь покрыта рубцами от осколков ручной гранаты. Во время войны он иногда закрывал полотенцем лица женщин в минуту близости с ними; и я поразился тогда, что его рассказ почти не ужаснул меня. Только сейчас, шесть лет спустя, стоя напротив Хедвиг с цветами в руках, только сейчас я ужаснулся, и то, что говорил Греммиг, показалось мне страшней всего когда-либо слышанного мною. Подмастерья рассказывали мне много гадких историй, но никто из них не закрывал лицо женщины полотенцем; и те, кто не делал этого, представлялись мне теперь невинными младенцами. Лицо Хедвиг – ни о чем другом я не мог думать!
– Уходите, – сказала она. – Уходите сейчас же.
– Да, – ответил я, – я уйду.
Но я не уходил; то, что я хотел сделать с ней, я еще никогда не делал ни с одной женщиной; для этого существует множество названий, множество слов, я узнал почти все эти слова, когда был учеником и жил в общежитии, слышал их потом в техникуме от своих товарищей; но ни одно из этих выражений не подходило к тому, что я хотел с ней сделать, и я до сих пор ищу нужное слово. Слово «любовь» не в состоянии выразить всего; быть может, оно просто лучше других выражает суть дела.
На лице Хедвиг я читал то же, что можно было прочесть на моем, – испуг и страх, ничего похожего на то, что зовут страстью, но одновременно все, что искали и не нашли мужчины, рассказывавшие мне о себе; и внезапно я понял, что даже Греммиг не был исключением: за полотенцем, которое он набрасывал на лицо женщины, он искал красоту; и теперь мне казалось, что стоит Греммигу снять полотенце – он нашел бы ее. Медленно исчезала тень, упавшая с моего лица на лицо Хедвиг, – и вот показалось ее лицо, то самое лицо, что так глубоко врезалось в мое сознание.
– Теперь уходите, – сказала она.
– А цветы вам нравятся? – спросил я.
– Да.
Я положил цветы на ее постель, прямо в бумаге, и наблюдал за тем, как она разворачивала их, поправляла бутоны, трогала зелень. Можно было подумать, что ей каждый день дарили цветы.


