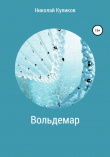Текст книги "По обе стороны горизонта"
Автор книги: Генрих Аванесов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Через несколько минут в кухню, гремя сапогами, ввалились двое парней. Обоих я знал в лицо – они жили в нашем квартале. Показав на меня, дядя Витя сказал:
– Вот этот пацаненок нашел Федора Ивановича на чердаке своего дома. Сходите с ним, посмотрите, как туда подобраться, а вечером пойдем вместе и заберем его оттуда.
Дорогой я объяснил парням, что в моей квартире уже полно народу, и через нее нам на черный ход и на чердак не попасть. Мы зашли во двор, и я показал дверь, через которую можно попасть на черный ход, а оттуда на чердак. На этом моя чердачная эпопея закончилась. Я не видел, кто и когда приходил за Федором Ивановичем, но на следующий день его там уже не было, в этом я убедился сам. Но косвенные и для меня положительные последствия близкого знакомства с криминальным миром были. При очень большом количестве краж и ограблений, которые случались чуть ли не ежедневно в нашем районе, они обходили стороной нашу квартиру и ее обитателей. А однажды, когда у моего приятеля отняли велосипед, я сказал об этом одному из парней из дяди Витиной команды. Велосипед в тот же день вернули. С годами я перестал встречать на улице героев этих событий. То ли их всех отправили в места не столь отдаленные, то ли они сами разъехались по городам и весям.
Но вернемся к карпам. Серега попытался подробно рассказать мне, как он кропотливо выяснял современные названия ингредиентов, входивших в рацион питания царской рыбы, искал им заменители и какие-то химические и биологические препараты, показывал свои записи о ходе эксперимента, которые за этот месяц составили целую толстую тетрадь, чем он очень гордился. Слушать все это мне было не слишком интересно, и, чтобы чуть-чуть сбить его с серьезного тона, я поинтересовался, когда же мы начнем есть карпов. Он рассмеялся, но не ответил, а сказал, что хочет расширить эксперимент еще двумя аквариумами. Вот только ставить их некуда, а надо было бы проверить еще кое-какие мыслишки.
Однако с продолжением эксперимента пришлось повременить. Начался ноябрь, а с ним кончалась первая четверть учебного года, и надвигалась тридцать пятая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Если к первому событию нам особенно готовиться не требовалось, то ко второму, казалось, готовилась вся страна. Газеты и радио буквально трубили о великих достижениях советской власти, об укреплении позиций Советского Союза в мире, и, конечно, о том как хорошо живется советским людям, а главное – детям, которым страна отдает самое лучшее. Мы и вправду не жаловались на жизнь. Она нам казалась прекрасной и удивительной, а, главное, единственно возможной, и мы не без энтузиазма вносили свой вклад в праздничные приготовления. Школа украшалась плакатами, лозунгами, портретами вождей, каждый класс готовил свою стенную газету, готовился концерт художест– венной самодеятельности, перед которым, накануне праздника, должно было пройти торжественное собрание. Как председатель комитета ВЛКСМ Серега был в центре событий. Вместе с парторгом и завучем, а то и с самим директором он обходил школу, заходил в каждый класс, просматривал стенные газеты и номера художественной самодеятельности. Иногда хвалил, иногда делал замечания. Его похвала всегда была искренней, а замечания не были обидными.
Праздника ждали все – и взрослые, и дети. Он давал нам какую-то психологическую разрядку, создавал приподнятое настроение, короче, вырывал из серых будней. В день праздничных мероприятий все пришли в школу одетые в самое лучшее и потому выглядели непривычно. Я впервые принимал участие в торжественном собрании. Это разрешалось только комсомольцам, каковым я стал буквально накануне. Я ждал от торжественного собрания чего-то очень важного, что могло изменить ход мыслей, определить мою жизнь на многие годы вперед. Но меня ожидало разочарование. Директор выступил, на мой взгляд, весьма вяло. Он, как это полагалось в то время, коротко рассказал о роли, которую сыграла Великая Октябрьская социалистическая революция в деле освобождения всех трудящихся от ига капиталистов. Что-то сказал о победе над Германией и больше всего говорил о роли великого Сталина, ведущего советский народ от одной победы к другой. Примерно то же самое, но в другой последовательности и по бумажке, поведал нам парторг. Выступление Сереги выгодно отличалось от предыдущих. Гораздо более образная и емкая, его речь на фоне обязательных фраз содержала и тонкие элементы юмора, адресованные, конечно же, только нам – слушателям, и некоторую конкретику. Ему аплодировали громче и дольше, чем другим ораторам, выражая тем самым поддержку своему сверстнику.
Разочарованный торжественным собранием, я остался смотреть концерт художественной самодеятельности просто из солидарности с остальными. Номера были плохо отрепетированы, и из-за этого в зале то и дело возникал смех. Наконец, наступил финал. В этой последней сцене главная роль опять отводилась Сереге. С портретом Сталина в руках он вывел на сцену детей народов мира, одетых в самодельные национальные костюмы. Последняя фраза концерта: "Спасибо великому Сталину за наше счастливое дет– ство", – была произнесена, как мне показалось, с некоторым опозданием и почему-то не Серегой, а женским голосом. Зал не обратил на это никакого внимания. Все поднялись и начали расходиться.
Через час, время еще было совсем не позднее, я забежал к Сереге. Его до сих пор не было дома. Его мама стала расспрашивать меня про торжественное собрание и концерт. Я рассказал, как здорово Серега справился с политической речью, и о показавшейся мне нелепой, концовке представления. Мама вдруг охнула, вскочила и, не говоря ни слова, накинув пальто, побежала в школу. Я остался в квартире один. Входная дверь осталась незапертой, и я вынужден был оставаться в бездействии, не понимая впрочем, что произошло и что надо делать. Ожидание затянулось на час, а может быть и более. За это время я передумал многое, но что же произошло на самом деле, понял только тогда, когда они оба, наконец, вернулись домой.
По их словам я восстановил для себя картину событий. Она выглядела нелепой и безобразной. Вела концерт и готовила его старшая пионервожатая – дама далеко не пионерского возраста. Она вела в школе уроки конституции, разумеется, сталинской, и совмещала эту работу с руководством пионерской организацией. Делала она это явно по призванию. Дородная, небрежно одетая, в нелепом на ней красном галстуке, она целыми днями носилась по школе, непрерывно устраивая разносы ученикам и даже учителям. Во время концерта она зримо контролировала его ход, что было видно даже из зала: кого-то ругала, кому-то что-то подсказывала. Она явно хотела быть на виду и тогда, когда ее роль должна была быть незаметной. Естественно, она наблюдала и финальную сцену. Заметив, что Серега замешкался, она поняла, настал ее звездный час, и произнесла за него сакраментальную фразу. Ей бы на этом остановиться. Ну выручила школьника, спасла финал концерта, что за дело. Но нет. Этого ей было мало. Она усмотрела в действии Сереги или, вернее сказать, в бездейст– вии политическую подоплеку и потребовала немедленно созвать педсовет и комитет ВЛКСМ. Никакие уговоры не смогли остановить разбушевавшегося демагога. Все собрались в кабинете директора. Пионервожатая потребовала вести протокол. Отказать ей в этом по тем временам было невозможно. Учителя, директор и даже парторг, как могли, выгораживали Серегу, но она говорила о политической диверсии и политической же близорукости, об укрывательстве чуть ли не врага народа. В таких выражениях она изобличала Серегу. В конце концов, на голосование был поставлен вопрос об его исключении из школы и из рядов ВЛКСМ. И, что же? Все, кроме одного, проголосовали за исключение Сереги из школы и комсомола. Все понимали, что это означает для Сереги, но своя шкура оказалась ближе. Тем единственным, кто проголосовал против, был наш военрук, отставной капитан Иван Васильевич Комлев. Когда голосование свершилось, он встал и, не сказав ни слова, громко стуча деревяшкой – ногу он потерял на Курской Дуге – вышел из кабинета директора, чтобы больше никогда не возвращаться в школу.
С работы вернулся отец Сереги. Узнав о случившемся, он не стал ругать сына, чего я, честно говоря, ожидал, а, подумав, сказал: "Придется тебе идти в армию. Так будет проще выкрутиться из этой дурацкой заварухи".
Весь тот вечер Серега сидел молча. Он выглядел обескураженным и, как я понимал, не чувствовал себя виноватым. Я был уверен, что он не замышлял ничего из того, в чем его обвинили. Он просто задумался не вовремя, или же ему в голову из подсознания пришла какая-то мысль, показавшаяся ему интересной. Если бы не истеричная тетка и поддавшиеся на ее провокацию взрослые люди – педагоги, то все это дело выеденного яйца бы не стоило. С таким злом как лицемерие я столкнулся впервые. Мне было непонятно: все по отдельности были против исключения Сереги, а когда дело дошло до голосования, вдруг оказались за. До сих пор зло было простым, зримым и осязаемым: подножка, оплеуха, кража. Для того чтобы бороться с таким злом, нужно самому быть сильным. Но здесь сила была бесполезна. "Кроме того, – думал я про себя, – как мне самому ходить теперь в школу". Давняя нелюбовь к ней вспыхнула с новой силой, но выбора не было.
Спустя неделю Серега отправился на призывной пункт. Мы, его родители и я, пошли с ним вместе. Осенний призыв в армию уже кончался, и на сборном пункте было мало народу. Вышел военком и начал читать список призывников и называть номера воинских частей, куда они направляются. Последним он вызвал Серегу и, посмотрев на него, сказал: это ты и есть биолог, вот биологией и будешь заниматься. К Сереге подошли двое военных – молоденький лейтенант и средних лет старшина. После недолгого прощания они отправились к поджидавшему их газику. Прощание далось мне тяжело. Я еле сдерживал слезы, но мысли мои были весьма эгоистическими: я думал не о том, что будет с Серегой, а о том, как я буду обходиться без него. Когда я понял это, мне стало стыдно. Еще я заметил, что лица у сопровождавших Серегу военных были чуть более интеллигентными, чем у остальных. У них на погонах были значки медицинской службы, а у лейтенанта на груди я заметил ромбик – значок о высшем образовании.
Почти три месяца о Сереге не было ни слуху ни духу. Мне было очень грустно без него, без его фантазий, да и своими поделиться было не с кем. Я часто заходил к его родителям: отсутствие информации о сыне их угнетало. Бабушка слегла, она давно чувствовала себя плохо, а теперь, как она говорила, пропал стимул двигаться. Мама часто при мне плакала и проклинала квартиру, в которой пришлось жить. С отцом Сереги мне довелось встретиться за это время всего раза два. Он все время пропадал на работе. Узнать о сыне можно было только в военкомате, но там сказали, что пошлют запрос только через три месяца, а до того надо ждать. Когда ему разрешат, сам пришлет весточку. Сейчас, скорее всего, он где-нибудь в учебной роте проходит курс молодого бойца. Делать было нечего, приходилось ждать и надеяться.
В последний день февраля уже 1953 года, рано утром у меня дома прозвенели четыре звонка, – так в коммунальных квартирах гости сообщали, к кому они пришли. Я только что встал с постели, собираясь идти в школу. На пороге стоял Серега в солдатской форме.
– Привет, – закричал он с порога, – быстро идем ко мне.
Забыв про школу, я оделся, и мы вышли из дома.
Дорогой он рассказал, что приехал вместе офицером и двумя солдатами в командировку получать какое-то оборудование. Все его спутники – москвичи, и им разрешили в ожидании груза жить по домам. Первым делом вчера он, конечно, приехал к родителям, а сегодня зашел за мной, чтобы рассказать, что можно. А уехать он может в любой момент, как только офицер оформит груз. Пока он все это говорил, мы уже дошли до его квартиры. Там за завтраком собралась вся семья. Даже бабушка поднялась с кровати и сидела в кресле, укутавшись в плед. Отец тоже по случаю приезда сына сидел за столом и не спешил уйти на работу.
Серега, видимо, уже не в первый раз повторил свой рассказ для меня. Он действительно попал в учебную роту, но учили там не военным премудростям, а проведению химических и биологических опытов. О деталях и целях опытов он просил не спрашивать – военная тайна. Надо полагать, что он попал в военный научно-исследовательский институт. Находится он где-то к северу от Моск– вы, в глубине лесного массива, на огромной и хорошо охраняемой территории. В части есть жилая зона, где живут офицеры с семьями. Там же расположены солдатские казармы и рабочая зона, где находятся лабораторные корпуса. Очень здорово, что там есть школа-десятилетка, и командование части разрешает солдатам доучиваться в ней. Более того, разрешается поступать на заочное отделение профильных для части вузов. Опыт в проведении тех экспериментов, что мы с ним проводили, ему очень пригодился, впрочем, также как и знания в области химии. Так что жизнь налаживается, и, может статься, то, что он попал в армию, даже лучше в плане профессиональной подготовки. К сожалению, в МГУ нет заочного отделения, но ничего, есть другие учебные заведения, и он подумывает о поступлении в институт рыбного хозяйства, где очень хорошо преподается биология, химия, микробиология и другие актуальные предметы.
– К концу службы в армии, я уже буду на третьем курсе, – закончил Серега свой оптимистический монолог.
Когда Серега заговорил о поступлении в институт рыбного хозяйства, я внутренне передернулся. До поступления в институт мне было еще далеко, но я уже достаточно хорошо понимал: поступать в МГУ, МВТУ, МАИ, другие технические вузы – престижно, а в рыбный или в какой-нибудь пищевой – смешно или даже стыдно. Это было не мое мнение, так говорили старшие школьники, с которыми я общался в Серегином окружении, и даже учителя. Думать так мне не мешало даже понимание необходимости обществу иметь в своем составе людей самых разных специальностей, а не только технарей. А еще меня угнетало, что Серега – умный, образованный, цельный парень – должен расстаться с мечтой об МГУ.
Момент приезда Сереги в Москву совпал по времени с очень важным событием в жизни страны, событием эпохальным: у всех на глазах умирал не кто-нибудь, а вождь всех времен и народов, сам великий Сталин. За два десятилетия массированная пропаганда сделала свое дело. В наших глазах Сталин был сверхчеловеком. Он не должен был иметь обычных человеческих слабостей и, тем более, он не должен был ни болеть, ни умирать. Однако он умирал, и это уже было понятно, кажется, всем. В газетах печатали сводки о состоянии его здоровья, и за непонятными медицинскими терминами зримо присутствовал призрак смерти. Люди толпами стояли у уличных репродукторов, у газетных киосков. Слушали и читали молча. На лицах был написан немой вопрос: что же будет? Что будет, никто не знал и даже не мог догадаться. Я по наивности спросил у Сережиного отца: "А может, помрет Сталин, и Серега вернется в школу?" Он неожиданно крепко схватил меня за руку и тихо, но очень строго сказал: "Ни в коем случае не вздумай ляпнуть что-нибудь подобное на людях, а то попадешь в такую же историю как Сергей, а то и хуже. А для Сергея обратной дороги нет."
Мы провожали Серегу обратно в часть рано утром пятого марта. Транспорт еще не ходил, хотя в этот день, кажется, транспорт вообще не появился на улице, за исключением военных грузовиков. Но именно к военному грузовику мы и шли. Он ждал Серегу на Садовом кольце около института им. Склифосовского. Серега забрался в кузов, и машина тронулась. На душе было тяжело. Я чувствовал, что со смертью Сталина и уходом Сереги в армию – для меня эти события были равнозначны – кончалась одна эпоха, и начиналась совсем другая.
Действительно, в стране началась чехарда в высших эшелонах власти. Нас это, конечно, практически не касалось. Снова всплыло дело врачей – евреев, которые, якобы, неправильно лечили сначала Жданова, потом и других первых лиц государства, и по стране прокатилась волна антисемитизма. По утрам нас выстраивали в спортивном зале школы, и та самая пионервожатая, что добилась исключения Сереги из школы, гневно клеймила евреев – изменников родины, предателей и вредителей. То же самое она делала на своих уроках. Но евреи, вдруг, оказались ни при чем. Их выпустил сам Берия вскоре после смерти Сталина. А виноватым во всех грехах неожиданно для всех оказался он сам, друг детей – всесильный Берия, который всегда стоял во время парадов и демонстраций на мавзолее рядом с самим Сталиным. Осенью в школе уже не было портретов Берии, которых раньше было чуть меньше, чем портретов Ленина и Сталина, а пионервожатая теперь так же гневно начала клеймить пособника мирового империализма и шпиона, который совсем недавно, казалось, был ее кумиром. Летом Берия был арестован и быстренько расстрелян. Подобных событий было много, и в школе поняли, что лучше не комментировать происходящее, а может, и пришла такая установка сверху. Во всяком случае, все преподаватели общественных наук переключились на своих уроках на изучение прошлого, желательно, возможно более далекого. И правильно сделали: то, что происходило в стране в это время, можно было понять или просто принять только спустя десятилетия. Только один человек, казалось, все понимал и знал, конечно, это была она же – пионервожатая и преподаватель конституции – в ней, в одном лице воплотилась вся сумма демагогий, которую накопила страна к этому времени. Она начинала урок с каких-нибудь гневных обличений и требовала от нас, чтобы мы задавали вопросы. Класс угрюмо отмалчивался, тогда она начинала вызывать нас по одному и задавать вопросы по конституции, ставя двойки налево и направо. Получив подряд несколько двоек и поняв, что она питает ко мне особую неприязнь за дружбу с Серегой, я прочитал конституцию от начала и до конца. После этого я запомнил ее всю, чуть ли не наизусть. На очередной урок я уже шел во всеоружии, имея в запасе с десяток цитат из различных работ классиков марксизма. Мне крупно повезло в этот день. Урок неожиданно сделали открытым, то есть на него пришли разные начальники от образования районного масштаба. Естественно, на уроке присутствовал и директор школы. Когда комиссия вошла в класс, я уже стоял у доски. Меня она вызвала первым и с явным намерением размазать по стенке. Не тут-то было: я не только ответил на вопрос, но и подкрепил свой ответ цитатами из работ Ленина и Сталина, которые были к месту, но не входили в школьную программу. Ей не оставалось ничего другого, как поставить мне пятерку. Больше она меня в этой четверти ни разу не спросила, а тут, слава Богу, сталинская конституция и кончилась, пока только как предмет.
Весной 1953 года Серега стал наезжать в Москву довольно часто то в увольнение, то в командировку. Он отсыпался и отъедался дома, но встречались редко. Коротко рассказывали о своих делах, в которых не было ничего общего. В армии Серега стал более интенсивно заниматься борьбой, участвовал в соревнованиях и должен был вот-вот стать мастером спорта. Он успешно заканчивал десятый класс, и через пару недель у него начинались экзамены на аттестат зрелости, то есть дела в целом шли совсем неплохо. У меня тоже все было в порядке. Учебный год закончился, на мой взгляд, вполне успешно – без двоек и переэкзаменовок, а то, что в годовых оценках было всего две пятерки – по физике и по математике, меня нисколько не волновало. Все мои интересы на этот момент были сосредоточены вокруг автомобиля. Таким образом, мы с Серегой начали расходиться в интересах и делах, что постепенно отдаляло нас друг от друга.
Как всегда, по окончании учебного года мне предстояло ехать на все лето на дачу. Каждую весну я с нетерпением ждал этого события, но в этом году такая перспектива меня совсем не прельщала. Дело в том, что еще в начале учебного года я поступил в автоклуб. Обучение там было поставлено вполне серьезно. Чтобы сесть за руль, мы должны были прослушать курс лекций по устройству автомобиля и правилам дорожного движения, а затем сдать совсем не шуточные экзамены. Изучение устройства автомобиля происходило не только в классе, но и в гараже. Все автомобильное хозяйство клуба состояло из трех стареньких автомобилей Победа и такого же числа Москвичей. Они постоянно ломались, и также постоянно их требовалось чинить. Под руководством опытных инструкторов – мужиков, прошедших войну за рулем автомобиля, мы ремонтировали двигатели, коробки передач, передние и задние мосты и вообще все, что может и не может сломаться в автомобиле. Потратив почти все свое свободное время в прошедшем учебном году на занятия в клубе, я, наконец, должен был начать ездить за рулем, а тут надо было ехать на дачу. Я восстал против такой несправедливости. Родители не соглашались оставить меня на лето в Москве. Наконец, был найден компромисс. Мне разрешили два раза в неделю приезжать в Москву с дачи. Ура!!!
Вообще-то я очень любил дачу. Она у меня ассоциировалась с летом. Зимой я там никогда не бывал. На даче было много друзей, лес, речка. Жизнь была очень привольной. Домой надо было приходить только, чтобы поесть, да поспать. На даче я находился под совсем не обременительным присмотром пожилой дамы – соседки по даче, которой мои родители за это приплачивали. Соседка готовила для меня какую-то простенькую еду: суп, кашу, картошку. Еще было молоко и хлеб. Иногда на воскресенье на дачу наезжали родители или один из них. Я их всегда очень ждал. Они привозили с собой что-нибудь вкусное, им можно было показать мои поделки, отвести в лес или на речку. У меня не было никаких сомнений в распределении ролей в этих походах. Я чувствовал себя здесь хозяином, а они были моими гостями. Лес, начинавшийся сразу за нашим небольшим дачным поселком, я исходил вдоль и поперек. Сначала я ходил туда с дедом одного из моих дачных приятелей. Дед был заядлым грибником и рыбаком и охотно брал нас с собой. Позже, начитавшись Фенимора Купера, я начал ходить в лес один, воображая себя разведчиком или первопроходцем. Но мое лесное одиночество продолжалось недолго. Случай свел меня с деревен– скими ребятишками, и я начал проводить время с ними. Вообще-то, особой дружбы между деревенскими ребятами и нами – дачниками не наблюдалось, но вражда не была острой. Я же, благодаря случаю, был принят в их стаю.
Дело было так. Однажды, играя сам с собой в индейцев и разыскивая их тайные тропы, я услышал неподалеку странное не то всхлипывание, не то повизгивание. Осторожно двигаясь на звук, я увидел мальчишку, который висел на дереве вниз головой на высоте полтора-два метра. Приблизившись, я понял, что он занял эту не слишком удобную позу не по своей охоте. Он, видимо, сорвался с более высокой ветки дерева, и его нога застряла в узкой развилке раздваивавшегося ствола. Застрявшая нога была сильно ободрана и кровоточила. Надо было что-то делать. День был будний. В лесу никого не было. До ближайших домов – километра три. Рассчитывать на чью-то помощь не приходилось. Я залез на дерево и уперся спиной в один из стволов, а ногами – в другой. Стволы чуть подались в разные стороны, и этого оказалось достаточно, чтобы открыть капкан. Нога вышла из него, и мальчишка повис на ветке дерева уже на руках. Высота была небольшая, но мальчишка категорически отказывался прыгать. Пришлось самому слезть с дерева, подставить ему свои плечи, только почувствовав под собой какую-то опору, он буквально упал на меня. Мы уселись под деревом отдохнуть и отдышаться. Оказалось, что он собирал птичьи яйца. Неподалеку лежала холщовая сумка, а в ней десятка три мелких цветных яиц. До меня не сразу дошло, что делал он это не из праздного любопытства, а для еды. Он попробовал встать, но исцарапанная нога болела не на шутку: "Видимо, вывих", – подумал я про себя. Ничего другого не оставалось, как взвалить его себе на спину. Мальчишка был щупленький и весил, наверное, в половину от меня. Поначалу я зашагал очень бодро. Но дорога была неблизкой, и, прошагав не более четверти пути, я вынужден был остановиться. Далее я останавливался все чаще и чаще. Под конец, а на всю дорогу у нас ушло не менее трех часов, я вынужден был отдыхать каждые пятьдесят метров. Наконец, мы добрались до его деревушки, непосредственно примыкавшей к нашему дачному поселку. Я без сил опустил его на лавку у ближайшего дома, а сам остался сидеть на траве. Из калитки вышла женщина, увидев нас, она запричитала, заохала, позвала кого-то еще. Мальчишку куда-то унесли. На меня, казалось, никто не обратил внимания, но когда я уже собрался уходить, снова появилась та женщина, что первая увидела нас. Она принесла мне кружку молока, которую я жадно выпил. Она еще что-то громко говорила, но я не вслушивался в ее слова. Хотелось скорее добраться до дома и лечь.
На следующее утро, когда я вышел из дома, думая, чем заняться – после вчерашнего приключения у меня болело все тело – перед калиткой дачного участка сидели и лежали на траве с десяток деревенских мальчишек разного возраста. Я внутренне напрягся, но они не проявляли агрессии. Наоборот, один из них позвал меня. Я вышел из калитки и сел рядом с ними. Быстро познакомились, и я скорее почувствовал, чем понял, что их стая приняла меня.
Надо сказать, что с ними моя дачная жизнь стала намного веселее и насыщеннее. Нравы деревенских детей отличались от городских, и, на мой взгляд, в лучшую сторону. Если в Москве старшие мальчишки зачастую обирали младших, то здесь об этом никто и не помышлял. Они были гораздо более, чем городские, озабочены пропитанием, но решали свои проблемы не за счет других, а своим собственным трудом, находчивостью и изобретательностью. Мы собирали чернику, землянику, малину, грибы. Вся добыча складывалась в общий котел, и кто-то из старших нес ее на станцию продавать дачникам. Те охотно покупали. На вырученные деньги покупался хлеб, реже печенье, еще реже немного самых дешевых конфет. Все это вполне справедливо делилось и моментально съедалось. Сбор птичьих яиц тоже был одним из видов промысла доступного, впрочем, не многим. Для того чтобы им заниматься, надо было обладать особой внимательностью, терпением и знанием птичьих повадок. Охотиться в подмосковном лесу нам удавалось только на голубей. Пойманной в силки птице сворачивали голову, наскоро ощипывали и бросали в кастрюлю. Я не мог на это смотреть и, тем более, есть эту еду, хотя часто бывал голоден не меньше, чем мои друзья.
Мальчишка, которого я притащил из леса, вскоре поправился. Вывихнутую ногу ему вправили сразу, причем, без помощи врача, а ссадины и царапины зажили сами. Он был самым талантливым сборщиком птичьих яиц. Ему единственному удавалось, правда, в удачный день, собрать до сорока штук. Найденные яйца он относил матери, и та кормила ими больную маленькую дочку. Вообще, деревенские дети отличались от городских своей хозяйственностью. Они выходили на улицу только после того, как выполняли возложенные на них дома обязанности. Их кодекс чести был проще и гуманнее, чем у городских. Они тоже дрались между собой, да и со мной тоже, но это происходило как-то понарошку, не всерьез: своих бить не полагалось. Бить можно было только чужих, и не просто так, а если было за что. Нельзя взять чужую вещь, но можно залезть в чужой сад, чтобы нарвать яблок или накопать картошки для еды, но не для продажи. Нельзя ничего брать с колхозных полей. За это могут посадить, правда, и взять-то с них было почти что нечего. Заросшие лебедой поля колхозной картошки выглядели жалкими по сравнению с маленькими, но ухоженными посадками на приусадебных участках. "А зачем за ней ухаживать, – говорили деревенские, – за работу все равно не заплатят, а собранную картошку где-нибудь сгноят".
Раньше я не знал, откуда берется картошка в нашем городском магазине, но видел, что она всегда была плохой, даже в начале осени, а к весне становилась полугнилой. В то же время на рынке картошка была отличного качества в любое время года. В Москве хозяйки на кухне говорили, что хотя на рынке картошка в два раза дороже, чем в магазине, но из нее все равно половину выбросишь.
Что меня буквально убивало в деревенских детях, так это их полная необразованность. Они, кажется, никогда и ничего не читали, не ходили в кино и, тем более, в театр. Большинство из них, живя не где-нибудь в глубинке, а всего-то в 30 км от Москвы, в ней никогда не бывали. Когда я как-то заговорил о поездке в Москву, один из них сказал: "А как поехать-то, у мамки и паспорта нету – заарестуют". Об этой стороне жизни сельчан я, конечно, не думал и не догадывался.
За все лето 1953 года я ни разу не видел Серегу. Он наезжал в город в увольнение на выходной, а я, наоборот, бывал в нем только на неделе. Раза два я забегал к его родителям: они говорили, что с Серегой все в порядке. Он получил аттестат зрелости и поступил на заочное отделение института рыбного хозяйства. "Будет у нас в семье свой ихтиолог", – улыбаясь, говорила его мама, и было непонятно, что вызывало ее улыбку. Когда же, съехав с дачи, я зашел к ним снова в сентябре, в семье снова царило уныние. От Сереги не было ни слуху ни духу уже месяц. Томительное ожидание продолжалось до конца октября. На письма ответы не приходили, в военкомате явно тянули с запросами. Все разъяснилось только, когда из части к его родителям приехали два офицера. Увидев их на пороге своей квартиры, Сережина мама впала в полуобморочное состояние. К счастью был дома и отец. Он усадил их за стол, и они рассказали, что Серега жив, но не здоров – лежит в больнице в инфекционном отделении. Заразился он по чьей-то неосторожности при проведении планового эксперимента, но сейчас его жизнь вне опасности, хотя лечиться придется еще долго. Офицеры сказали, что будут в дальнейшем сами информировать родителей о состоянии сына, так как в отделение, где он лежит, никого постороннего не пустят. Оттуда даже записку вынести нельзя. Но самое страшное уже позади, и теперь надо только набраться терпения.
Серегу привезли домой в самом конце ноября без всякого предупреждения. Хорошо, что дома в этот момент была его мама. Он с видимым трудом, но самостоятельно поднялся на третий этаж, но, войдя в квартиру, сразу рухнул в кресло. В квартире было только одно кресло – бабушкино, но она освободила его навсегда вскоре после ухода Сереги в армию. Когда я увидел его в один из ближайших дней, мне трудно было поверить, что это Серега: передо мной сидел исхудавший, наголо обритый человек лет тридцати. Он смотрел на меня неподвижным взглядом и говорил тихим ровным голосом, что было полной противоположностью прежнему Сереге. Он сказал, что теперь для него с армией все счеты окончены. Он уволен вчистую, комиссован, получил инвалидность. О своей болезни, о том, как он ее получил, не говорил ничего. Вообще, он казался заторможенным. Кресло стало его постоянным местом пребывания. Когда бы я ни зашел, он сидел в нем и смотрел в одну точку. Но, сидя в кресле, он, очевидно, много думал. Как-то, когда я зашел к нему перед самым Новым Годом, он произнес несколько фраз, из которых я понял, что он мучительно думает о том, как жить дальше. То, что он сказал, было очень похоже на то, что сказал Андрей Болконский в известном романе Л.Н. Толстого: "Нет, жизнь не кончена в 31 год…". А ведь Сереге было всего восемнадцать. После этого он начал быстро поправляться. Возможно, именно потому, что сам принял решение: надо жить дальше.