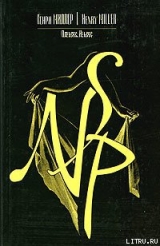
Текст книги "Нексус"
Автор книги: Генри Валентайн Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Тем временем мать решительно опустилась на колени, чтобы взглянуть, что там за поломка в диване. (В нашем доме его называли софой.) Стася все еще лежала на полу, не меняя положения, словно ждала дальнейших инструкций. Мать обходила ее, как бобер, прикидывающий, с какой стороны взяться за упавшее дерево. Тут появилась Лоретта с одеялом в руках и остановилась в дверях как завороженная. (У нас никогда раньше ничего подобного не случалось.) Отец же, у которого, как говорится, руки росли не из того места – он сроду не мог ничего починить, – отправился на задний двор за кирпичами. «Где молоток?» – требовала мать. Вид отца, державшего кирпичи, вызывал у нее презрение. Она преисполнилась решимости сама починить диван – и немедленно.
– Погоди, – остановил ее отец. – Видишь, они хотят отдохнуть. – С этими словами он встал на колени и подпер кирпичами осевший диван.
Теперь Стася поднялась с пола, но только для того, чтобы юркнуть на диван и быстренько повернуться лицом к стене. Женщины лежали, тесно прижавшись друг к другу, и мирно посапывали, как два бурундучка. Я сидел за столом, созерцая ритуал уборки стола. Не меньше тысячи раз присутствовал я при нем, и всегда ритуал соблюдался точно, без всяких изменений. На кухне тоже был свой порядок. Строгая очередность…
«Вот хитрые стервы!» – подумал я. Ведь это им следовало убрать со стола. Мигрень! Так просто. Теперь придется одному слушать музыку. Может, так и лучше, ведь для меня это не в новинку. И темы для разговора не надо придумывать: все сойдет – дохлые кошки, прошлогодние тараканы, язва миссис Швабенхоф, воскресная служба, щетки для чистки ковра, Вебер и Филд или любовница модного певца. Я готов сидеть и слушать хоть до глубокой ночи. (Сколько же они намереваются проспать, пьяницы несчастные?) Возможно, теперь, когда женщины добились своего, они не будут против немного задержаться. Надо еще деньжат у родных перехватить. Улизнуть часов в пять-шесть просто невозможно. Во всяком случае, не на Рождество. Предстоит еще окружить елку и пропеть отвратительное рождественское песнопение – «О Tannenbaum [40] [40] Ель (нем.).
[Закрыть]!» А потом родители начнут вспоминать все предыдущие рождественские праздники, сравнивать елки, расскажут, как в детстве мне не терпелось разведать, что за подарки ждут меня под елкой. (О детстве Лоретты почему-то не принято вспоминать!) Какой чудный был мальчик! Так любил книги! А как играл на пианино! Припомнят все велосипеды и роликовые коньки, что у меня были. И духовое ружье. (О револьвере – молчок.) Интересно, он еще хранится в ящике вместе с ножами и вилками? Ну и напугала нас однажды мать, когда выхватила этот револьвер! К счастью, в нем не было патронов. Не исключаю, что мать об этом знала. Но все равно…
Да, ничего не изменилось. Когда мне исполнилось двенадцать, время остановилось. Что бы ни нашептывали со всех сторон родителям, я для них оставался их дорогим мальчиком, который когда-нибудь остепенится и станет хорошим портным. А этот бред о писательстве… Рано или поздно мальчик переболеет и выздоровеет. И эта странная новая жена… она тоже исчезнет со временем. Когда-нибудь он станет нормальным человеком. Все к этому приходят с годами. Они не беспокоятся, что я, как добрый старый дядюшка Пол, захочу покончить с собой. Не тот характер. Да и голова на плечах есть. Здравый смысл, так сказать. Молодо-зелено – вот и все. Просто слишком много читал… и друзья были никудышные. Имен они не станут называть, но вскоре, я не сомневался, кто-нибудь задаст вопрос – всегда уклончиво, всегда пониженным голосом и глядя в сторону: «А как там наша малышка?» Это про дочь. А я, не имея об этом ни малейшего понятия, не зная даже, жива ли она, отвечу как ни в чем не бывало: «Спасибо. Хорошо». «Вот как? – не успокаивается мать. – А давно ты слышал о них?» О них означало, что спрашивают и о моей бывшей жене. Что ж, отвечу. «Стенли регулярно рассказывает мне». – «А как поживает Стенли?» – «Отлично…»
Как бы мне хотелось поговорить с ними о Джонни Поле. Но они этого не поймут – сочтут странным. Ведь я не видел Джонни Пола лет с семи-восьми. Именно столько. Они и не догадываются, особенно ты, дорогая мамочка, что все эти годы я помнил о нем. Более того, с годами его образ становился все ярче. Иногда – это выше вашего понимания – я думаю о нем как о маленьком боге. Одном из немногих, встретившихся на моем пути. Думаю, вы не помните, что у Джонни Пола был самый нежный голос на свете. И не догадываетесь, что ваш малыш смотрел на мир его глазами и открывал для себя то, чего иначе никогда бы не узнал. Для вас Джонни был всего лишь сыном угольщика, грязным маленьким итальяшкой из семейства иммигрантов. Он плохо говорил по-английски, зато, завидев вас, всегда вежливо приподнимал свою шапчонку. Разве могли вы предположить, что это жалкое существо кажется божеством вашему дорогому сынку? А знали вы, о чем вообще думает ваш непокорный сын? Вам не нравились книги, которые он читал, друзья, которых он выбирал, девушки, в которых он влюблялся, игры, в которые он играл, дороги, которые он выбирал. Вы лучше знали, что ему надо. Но все-таки вы не давили на него слишком сильно. Вы избрали другой метод – притворялись, что ничего не слышите и не видите. Решили, что надо дать мне перебеситься. А я все никак не успокаивался! Год от года становился все хуже. И тогда вы убедили себя, что время остановилось в тот год, когда мне исполнилось двенадцать. Вы не могли смириться, что у вас не тот сын, какого вы хотите, и придумали того, кто вас устраивал. Двенадцатилетнего мальчугана. А после хоть потоп…
На следующий год, в это же ужасное время года, все повторится, вы опять зададите тот же вопрос: пишу ли я, и я отвечу: да, а вы пропустите мои слова мимо ушей или отнесетесь к ним как к капле вина, ненароком пролитого на вашу лучшую скатерть. Вам неинтересно знать, почему я пишу, а если я все-таки скажу, то и это вам будет безразлично. Вам хотелось бы пригвоздить меня к стулу и заставить слушать ваше дрянное радио. И еще сплетни о соседях и родственниках. Даже будь я настолько смел или неосмотрителен, что решился бы назвать ваши разговоры дерьмом собачьим, то и тогда вы не прекратите вашу словесную жвачку. Вот и сейчас я сижу тут, по уши в дерьме. Может, попробовать новую тактику – притвориться, что я – само внимание, весь обратился в слух? «Это что за оперетта? Какой прекрасный голос! Просто божественный! Так бы и слушал… и слушал». Или прошмыгнуть наверх и разыскать старые пластинки Карузо? Какой дивный голос! Интересно, сейчас такой же? (Да, спасибо. С удовольствием выкурю сигару.) И больше не подливайте мне, спасибо. Глаза мои слипаются, только память о многолетней непрерывной войне не дает заснуть. Но я отдал бы все на свете, чтобы иметь возможность подняться наверх и проскользнуть в маленькую заброшенную спаленку – часть коридора, отделенную стеной, где нет ничего – ни стула, ни ковра, ни картины, только – кровать, и заснуть мертвым сном. Сколько раз валился я на эту кровать, моля Бога, чтобы мне никогда не пришлось просыпаться! Однажды – ты помнишь, дорогая мамочка? – ты вылила на меня ушат воды со словами, что я никудышный лентяй. А я и впрямь провалялся тогда сорок восемь часов кряду. Но не лень приковала меня к постели. Ты и не знала, мама, что у сына тогда было большое сердечное разочарование. Однако у меня хватило ума не признаться тебе, ведь я знал: ты бы только презрительно фыркнула. Сколько кошмарных часов провел я в этой комнате! Не менее тысячи раз я умирал там. Но там же меня посещали мечты и видения. И я молился, орошая слезами подушку. (Как я хотел ее, одну ее!) А когда боль немного стихла и я мог снова жить, моим единственным другом стал велосипед. И тогда я часами безостановочно крутил педали, один, всегда один, избывая горькие мысли в движении, отбрасывал, прогонял их и мчался, подобно ветру, по гравиевой дорожке, но цель так и оставалась недостижимой. Ведь стоило мне сойти с велосипеда, как ее образ вновь вырастал предо мной, а боль, сомнения и страх возвращались. И все же находиться в седле, а не работать – было благом. Велосипед становился как бы частью меня, он чутко реагировал на все мои желания. Никто не мог его заменить. Тем более мои драгоценные бесчувственные родители: ничто из того, что они говорили, ничто из того, что делали, никогда не приносило мне той радости и покоя, какие доставлял гоночный велосипед. Жаль, что нельзя было разобрать вас на части и любовно смазать маслом все детали, как поступал я со своим великом.
– Не хочешь пройтись с отцом? – Голос матери вернул меня в действительность. Я не помнил, как оказался в кресле. Может, задремал? Во всяком случае, от звука ее голоса я очнулся.
Протирая глаза, я заметил, что мать протягивает мне трость. Дедушкину. Черного дерева, с серебряной ручкой в виде лисицы – а может, мартышки?
Я не заставил себя ждать – вскочил и мигом натянул пальто. Отец стоял уже одетый, опираясь на палку с набалдашником из слоновой кости.
– Свежий воздух взбодрит тебя, – сказал он.
Не сговариваясь, мы направились к кладбищу. Отец любил гулять там – он не питал нездорового влечения к смерти, просто на кладбище много деревьев, цветов, птиц, а царящий покой пробуждает неспешные мысли. На аллеях стоят скамейки, там можно посидеть наедине с природой или с духами подземелья – как кому угодно. Мне не надо было напрягаться, чтобы поддерживать беседу – отец привык к моим уклончивым, односложным ответам и отговоркам. Он никогда не давил на меня. Ему хватало и того, что кто-то шел рядом.
Наш обратный путь проходил мимо моей старой школы. Напротив стояли обшарпанные дома, на первых этажах протянулись магазины – словно гнилые зубы ощерившегося рта. В одном из этих домов жил раньше Тони Марелла. Отец почему-то считал, что при упоминании его имени я должен чуть ли не прыгать до потолка. Сам он никогда не забывал при встрече поведать мне о новых успехах этого баловня судьбы, вышедшего из семьи даго [41] [41] Презрительная кличка итальянцев, испанцев или португальцев.
[Закрыть]. Тони занимал большой пост в государственном аппарате, а кроме того, выставил свою кандидатуру в конгресс или еще куда-то. Разве я не читал об этом в газетах? Отец считал, что мне стоит как-нибудь навестить Тони… Кто знает, что из этого может выйти?
Мы поравнялись с домом Гроссов. Оба их сына, сообщил отец, тоже вышли в люди. Один дослужился до армейского капитана, другой – уже коммодор [42] [42] Низшее адмиральское звание.
[Закрыть]. Слушая отцовскую болтовню, я думал, что тогда, в те далекие годы, и представить не мог, что один из Гроссов станет адмиралом. (Сама мысль, что в этих местах может родиться адмирал или генерал, казалась дикой).
– А как сложилась судьба у того чокнутого парня, что жил дальше по улице? – спросил я. – Ну, там, где конюшни.
– Ему лошадь откусила руку – началась гангрена.
– Ты хочешь сказать, что он умер?
– Уже давно. И остальные братья тоже умерли. Одного убило молнией, другой поскользнулся на льду и раскроил череп… А на третьего, ну да, на него надели смирительную рубашку… а потом вскоре он умер от кровотечения. Дольше всех жил отец. Ты ведь помнишь, он был слепой. К концу жизни тронулся рассудком. Сидел и мастерил мышеловки.
Почему, спросил я себя, мне никогда не приходит в голову обойти нашу улицу, дом за домом, и составить жизнеописание всех ее обитателей? Какая необыкновенная получилась бы книга! Книга трагедий! Такихзнакомых, таких привычных трагедий. Тех каждодневных трагедий, которые не попадают на первые страницы газет. Вот где Мопассан разгулялся бы…
Когда мы вернулись домой, никто уже не спал – все мило беседовали. Мона и Стася пили кофе. Видимо, сами попросили сварить, потому что матери не пришло бы в голову подавать кофе в середине дня. Кофе пили на завтрак, за карточной игрой и kaffeeklatches [43] [43] Встреча и болтовня за чашечкой кофе (нем.).
[Закрыть]. Однако…
– Хорошо погуляли?
– Да, мама. Прошлись по кладбищу.
– Вот и отлично. На могилах порядок?
Она имела в виду семейное захоронение. Особенно могилу деда.
– Для тебя там тоже есть местечко, – прибавила мать. – И для Лоретты.
Я метнул взгляд на Стасю – удастся ли ей сохранить серьезное выражение лица? Тут заговорила Мона. Реплика ее была совершенно невероятна.
– А он никогда не умрет, – заявила она.
Мать скривилась, словно надкусила незрелое яблоко. Потом снисходительно улыбнулась Моне и мне. И чуть ли не со смехом сказала:
– Не беспокойся, настанет и его черед. Только взгляни – уже лысина намечается, а ведь ему только перевалило за тридцать. Он не заботится о себе. И о тебе тоже. – Лицо ее приняло выражение снисходительного упрека.
– Вэл – гений, – упорствовала Мона. Она хотела развить эту мысль дальше, но мать ее осадила.
– А что, разве нужно быть гением, чтобы писать рассказы? – спросила она. В ее тоне слышался вызов.
– Нет, – ответила Мона. – Но Вэл останется гением, даже если бросит писать.
– Фу-ты ну-ты! Однако по части добывания денег его гением не назовешь.
– Вэлу не надо думать о деньгах, – быстро отреагировала Мона. – Это мое дело.
– Ты трудишься, а он в это время сидит дома и марает бумагу. – Яд уже изливался вовсю. – Ты, красивая молодая женщина, должна работать. Времена изменились. Когда я была девочкой, мой отец гнул спину с утра до вечера. Он был кормильцем семьи. Он не ждал прилива вдохновения… не считал себя гением. А просто заботился о том, чтобы дети были здоровы и счастливы. У нас не было матери… она не выходила из психиатрической клиники. Но у нас был отец, и мы боготворили его. Он был нам и отцом, и матерью. Мы ни в чем не знали отказа. – Мать выдержала паузу, чтобы ее слова произвели должное впечатление. – А вот он, – она кивнула в мою сторону, – этот гений, как ты его величаешь, слишком ленив, чтобы работать. Он ждет, чтобы о нем позаботилась жена… а ведь у него есть еще бывшая жена и ребенок. Если бы литература кормила его – я бы и слова не сказала. Но писать в стол, ничего не получая за свой труд, – вот этого мне не понять.
– Но, мама… – начала было Мона.
– А может, прекратим разговор на эту тему? – предложил я. – Каждый раз мы его заводим. А толку никакого. Не думаю, мама, что ты меня поймешь. Но то, что я сейчас скажу, ты должна понять… Твой отец не стал первоклассным портным за один день. Ты сама рассказывала мне, как долго он ходил в учениках, колесил по Германии в поисках работы, а потом, чтобы избежать службы в армии, перебрался в Лондон. В литературе все то же самое. Нужны годы, чтобы отточить мастерство. И еще долгие годы, чтобы добиться признания. Твой отец шил пальто на заказ – ему не приходилось таскать его повсюду и предлагать в надежде, что кому-то оно понравится и его купят…
– Все это одни разговоры, – сказала мать. – Наслышалась. – Она встала, чтобы идти на кухню.
– Подождите, – остановила ее Мона. – Послушайте меня, пожалуйста. Мне хорошо известны недостатки Вэла. Но я знаю и другое. Он не праздный мечтатель и умеет работать. Думаю, он нигде не смог бы трудиться так плодотворно, как за письменным столом. То, что вы называете маранием бумаги, – его призвание. Для этого он создан. Хотелось бы мне тоже иметь призвание – иметь цель и стремиться к ней всем сердцем, иметь то, во что веришь безусловно. Видеть, как он работает, – огромная радость для меня. Когда он пишет, это другой человек. Иногда даже я не могу поверить, что это все тот же Вэл. Он становится таким серьезным, сосредоточенным, ничего не видит и не слышит… У меня тоже был хороший отец, и я его очень любила. Он тоже хотел стать писателем. Но у него была слишком трудная жизнь. Ему приходилось содержать большую семью, мы были бедными иммигрантами. Мать была очень требовательна. Отца я любила больше, чем мать. Может быть, потому что он был неудачником. Но я его таким не считала. Понимаете? Я любила его. И мне было все равно, добился он чего-нибудь или нет. Иногда он, как и Вэл, изображал из себя клоуна…
Здесь мать вздрогнула, с любопытством посмотрела на Мону и только произнесла: «О!» Очевидно, никто еще не затрагивал при ней эту черту моей личности.
– Мне известно, – сказала она, – что у него есть чувство юмора, но… клоун?
– Мона просто так выразилась, – решил поправить дело отец.
– Нет, – упрямо настаивала Мона, – именно… клоун.
– Никогда не слышала о писателе, который был бы по совместительству еще и клоуном, – вот такое идиотское замечание выдала мать.
Здесь всякий закончил бы спор. Всякий, но не Мона. Ее въедливость поразила меня. И еще – серьезность, с какой она отстаивала свою точку зрения. (А может, она просто использовала подвернувшуюся возможность продемонстрировать свою преданность?) Во всяком случае, я решил ей не мешать. Лучше прямой разговор, чем вечные многозначительные умолчания. Это как-то взбадривало.
– Когда он паясничает, – пояснила Мона, – это означает, что он глубоко задет. Он ведь очень чувствительный. Даже слишком.
– А мне казалось, он достаточно толстокожий, – сказала мать.
– Вы шутите? Я не встречала более ранимого человека. Все истинные художники таковы.
– Она права, – согласился отец. Наверное, он подумал о Рескине или о бедняге Райдере, чьи пейзажи действительно производят нездоровое впечатление.
– Послушайте, мама, для меня не важно, сколько пройдет времени, прежде чем Вэла признают. У него всегда буду я. И я не допущу, чтобы он страдал или голодал. – (Я почувствовал, как мать вновь напряглась.) – Я помню, что стало с моим отцом, и не позволю, чтобы то же самое случилось с Вэлом. Он будет делать что хочет. Я верю в него. И буду верить, даже если весь мир ополчится против него. – Она надолго замолчала, а затем продолжила еще более серьезно: – Почему вы так не хотите, чтобы он писал? Это недоступно моему пониманию. Не из-за того же, что он не может заработать себе на жизнь сочинительством? Ведь это наши проблемы – его и мои. Не хочу вас обидеть, но все же скажу: если вы не поддержите его стремление писать, то можете потерять сына. Не зная этой стороны его жизни, вы никогда не поймете его полностью. Возможно, он мог стать другим, и таким вам было бы легче его любить, хотя теперь, когда Вэла знаешь, это трудно вообразить. По крайней мере мне. И что толку, если он докажет вам или мне, что может быть таким, как все? Вы сомневаетесь, хороший он муж, отец и так далее. Хороший – говорю с полной ответственностью. Но это не все. Его дар принадлежит не только семье, детям, матери или отцу – он принадлежит всему человечеству. Возможно, вам это покажется странным. Или даже несправедливым.
– Скорее, невероятным, – сказала – как отрезала – мать.
– Хорошо, пусть невероятным. Ничего не меняется. Когда-нибудь вы прочтете его книги и будете гордиться тем, что он ваш сын.
– Никогда! – заявила мать. – На мой вкус, копать канавы – и то лучше.
– Не исключено, что ему придется и этим заниматься, – сказала Мона. – Некоторые художники не доживают до признания, кончают самоубийством. Вот Рембрандт закончил свои дни на улице, побираясь, как нищий. А ведь он один из самых великих…
– А Ван Гог? – пискнула Стася.
– Это кто такой? – спросила мать. – Еще один писака?
– Нет, художник. К тому же сумасшедший. – Стася входила во вкус.
– По мне все они чокнутые, – отмахнулась мать.
Стася залилась смехом. Она хохотала и хохотала, не в силах остановиться.
– А как же я? – спросила она сквозь смех. – Вам известно, что я тоже чокнутая?
– Но зато какая очаровательная «чокнутая»! – вставила Мона.
– Да по мне психушка плачет, вот что я вам скажу! – не без удовольствия произнесла Стася. – Это всем известно.
Я видел, что мать испугалась. Одно дело – сказать, что кто-то чокнутый, но когда по тебе «плачет психушка» – это уже серьезно.
Спас ситуацию отец.
– Один – клоун, другая – чокнутая, а кто тогда ты? – обратился он к Моне. – Признавайся, что у тебя не в порядке?
Мона произнесла со счастливой улыбкой:
– Я абсолютно нормальна. Моя проблема – в этом.
Отец повернулся к матери:
– Все творческие люди одинаковы. Чтобы хорошо рисовать – или писать, – им надо быть чуточку безумными. Помнишь нашего старого друга Джона Имхофа?
– А что Имхоф? – спросила мать, глядя на отца непонимающим взглядом. – Неужели нужно бросить жену, детей и бежать с другой женщиной, чтобы прослыть художником?
– Я говорю не об этом, – досадливо отмахнулся отец. Его раздражение росло – ведь он хорошо знал, какой упрямой и бестолковой может быть мать. – Помнишь, какое выражение было у него на лице, когда его неожиданно заставали за работой? Когда все засыпали, он проводил часы в своей комнатушке, рисуя акварели. – Отец повернулся к Лоретте: – Пойди наверх и принеси тот рисунок, что висит в кабинете. Тот, где мужчина и женщина сидят в шлюпке… у мужчины за спиной еще вязанка соломы.
– Он был неплохой человек, этот Джон Имхоф, пока его жена не пристрастилась к вину, – задумчиво произнесла мать. – Хотя к детям он никогда большого интереса не проявлял. Одно искусство в голове.
– Замечательный художник, – сказал отец. – У него есть прекрасные работы. Помнишь витражи, которые он сделал для церквушки за углом? А что получил за это? Жалкие гроши. Нет, я никогда не забуду Джона Имхофа, что бы он ни натворил! Жаль только, что у нас осталось мало его работ.
Лоретта принесла рисунок. Стася взяла его и стала разглядывать с живым интересом. У меня замерло сердце – сейчас начнет критиковать, скажет что-нибудь про академичность манеры, но нет, Стася была сама тактичность и осторожность.
Она похвалила рисунок: очень красив… видно мастерство.
– Акварель – не самый простой вид живописи, – сказала она. – Интересно, а маслом он писал? Мне трудно судить об акварелях. Но видно, что художник знает свое дело. – Стася замолчала. А потом, словно предвосхищая ход мысли собеседника, прибавила: – Но одним мастером акварели я от души восхищаюсь. Это…
– Джон Сингер Сарджент [44] [44] Сарджент, Джон Сингер (1856-1925) – американский живописец.
[Закрыть]! – воскликнул отец.
– Точно! – подтвердила Стася. – Откуда вы знаете? Я хочу сказать, как вы догадались, что именно его я имею в виду?
– Такого, как Сарджент, больше нет, – сказал отец. Эти слова он часто слышал от бывшего владельца мастерской Айзека Уокера. – Есть только один Сарджент – как есть только один Бетховен, один Моцарт, один да Винчи… Вы согласны?
Стася так и засветилась. Ей казалось, что теперь она может открыто выражать свои мысли. Она бросила на меня взгляд, который говорил: «Что же ты скрывал, что у тебя такой отец?»
– Я изучала многих художников, – сказала она, – а теперь пытаюсь найти свой стиль. Не такая уж я сумасшедшая, какой прикидывалась несколько минут назад. Просто я знаю больше, чем могу переварить. У меня есть талант, но я не гений. А без гениальности – делать нечего. Мне хотелось бы быть Пикассо… Пикассо в женском обличье. Не Мари Лоренсен. Вы меня понимаете?
– Конечно! – воскликнул отец.
Мать к тому времени уже вышла из комнаты. Я слышал, как она гремит на кухне кастрюлями и сковородками. Она потерпела поражение.
– Это копия с известной картины, – сказал отец об акварели Джона Имхофа.
– Не важно, – отозвалась Стася. – Многие художники копируют поправившиеся произведения… А что случилось с ним… с Джоном, как его там?
– Он убежал с другой женщиной. Увез ее в Германию, где они встречались еще в юности. Потом началась война, и след его потерялся. Возможно, его убили.
– А как вы относитесь к Рафаэлю?
– Лучший рисовальщик на свете, – быстро ответил отец. – Еще Корреджо, второй великий художник. И Коро! Его лучшие картины непревзойденные. Вы согласны? Гейнсборо я никогда особенно не любил, а вот Сислей…
– Похоже, вы всех знаете, – сказала Стася. Было видно, что она готова хоть всю ночь играть в эту игру. – А как насчет современников… есть у вас любимцы?
– Вы имеете в виду Джона Слоуна [45] [45] Слоун, Джон Френч (1871-1951) – американский художник, рисовал преимущественно бытовые сценки из жизни горожан.
[Закрыть], Джорджа Лакса [46] [46] Лакс, Джордж Бенджамин (1867-1933) – американский художник-реалист, некоторое время занимался карикатурой. Так же как и Слоун, принадлежал к «Ашканской школе» художников, устраивавшей свои выставки.
[Закрыть]… так?
– Конечно, нет, – ответила Стася. – Я говорю о таких художниках, как Пикассо, Миро, Матисс, Модильяни…
– Я их плохо знаю, – признался отец. – Но мне правятся импрессионисты – то, что я видел. И конечно, Ренуар. Не знаю, можно ли считать его современным.
– В каком-то смысле – можно, – сказала Стася. – Он прокладывал путь.
– Он прекрасно чувствует цвет, – продолжал отец. – И рисовальщик отменный. Как прекрасны его портреты женщин и детей! Ими нельзя не восхищаться. А цветы, одежда… все такое радостное, нежное, ликующее. Он передал свое время – этого не отнять. А оно было прекрасным – Гей Паре, пикники у Сены, «Мулен Руж», великолепные сады…
– Вы заставили меня вспомнить о Тулуз-Лотреке, – сказала Стася.
– Моне, Писарро…
– Пуанкаре! – вставил я.
– Стриндберг! – это уже Мона.
– Да, восхитительный безумец, – согласилась Стася.
Мать просунула голову в дверь.
– Опять заговорили о психах? Мне казалось, что этот вопрос уже закрыт. – Она обвела нас взглядом и, поняв, что разговор увлек нас не на шутку, снова скрылась за дверью. Для нее это слишком. Люди не имеют права получать удовольствие, говоря об искусстве. Кроме того, ее раздражали все эти странные чужеземные фамилии. Все – не американцы.
Итак, благодаря Стасе все шло не так уж плохо. Она произвела впечатление на моего старика. Даже когда он добродушно заметил, что ей следовало родиться мужчиной, она и глазом не моргнула.
Когда извлекли семейный альбом, Стася пришла в восторг. Какие эксцентричные чудаки! Вот дядюшка Теодор из Гамбурга: франтоватый глупец. Георг Шиндлер из Бремена: похож на Красавчика Бруммеля, придерживался стиля 1880-х годов вплоть до конца Первой мировой войны. А вот Генрих Мюллер, отец моего старика, родом из Баварии: звонарь при дворе императора Франца Иосифа. Рядом Георг Инзел, семейный идиот, он смотрит как баран поверх огромных подкрученных усов по моде, введенной кайзером Вильгельмом. Женщины выглядят более загадочно. Мать моей матери, проведшая полжизни в психиатрической лечебнице, похожа на героиню романов Вальтера Скотта. Тетя Лиззи, чудовище, которая сожительствовала с собственным братом, выглядит эдакой веселой старой греховодницей, с валиком под высокой прической и насквозь пронизывающим взглядом. Тетушка Анни в купальном костюме довоенного образца – точь-в-точь «красотка-купальщица» из комедий Мака Сеннета [47] [47] Сеннет, Мак (1880-1960) – американский режиссер и актер; у Сеннета дебютировал Ч. Чаплин.
[Закрыть], собирающаяся залезть в собачью будку. Еще одна тетка, Амелия, сестра отца: ангел с нежным взглядом карих глаз… сама красота. Миссис Кикинг, старая экономка: явно не в своем уме, страшна как смертный грех, и вдобавок вся в бородавках и карбункулах…
Созерцание альбома привело к разговору о генеалогии… Я тщетно бомбардировал отца и мать вопросами. Они знали только родителей, а дальше – полный туман.
– Но разве родители не рассказывали о своих корнях?
– Да, но со временем все забылось.
– Среди ваших предков не было художников? – спросила Стася.
Родители так не думали.
– Но поэты и музыканты были, – сказала мать.
– Были моряки и крестьяне, – прибавил отец.
– Вы уверены? – спросил я.
– Почему это тебя так интересует? – спросила мать. – Все они давно умерли.
– Просто хочу знать. Когда-нибудь поеду в Европу и сам все выясню.
– К чему гоняться за химерами? – фыркнула мать.
– Не скажи! Мне хочется больше знать о своих предках. Может быть, не все они немцы.
– Возможно, в вас течет и славянская кровь, – заметила Мона.
– Иногда в твоем лице отчетливо проступают монгольские черты, – с невинным видом произнесла Стася.
Это очень рассмешило мать. Монголы в ее глазах были не вполне полноценными людьми.
– Он американец, – заявила она. – Мы все теперь американцы.
– Правильно, – поддакнула Лоретта.
– Что правильно? – спросил отец.
– Что Вэл – американец, – ответила Лоретта. – Только он слишком много читает, – добавила она.
Все рассмеялись.
– И больше не ходит в церковь.
– Ну об этом лучше помолчать, – сказал отец. – Мы тоже редко посещаем церковь и тем не менее остаемся христианами.
– У него много друзей среди евреев.
Опять дружный хохот.
– Давайте-ка перекусим, – предложил отец. – А то как бы они вскоре не отправились домой. Завтра рабочий день.
Опять накрыли стол. На этот раз поставили холодные закуски, подали чай и еще один сливовый пудинг. Пока мы сидели за столом, Лоретта недовольно сопела.
Спустя час мы стали прощаться.
– Смотрите не простудитесь, – напутствовала нас мать. – До метро от нас далековато. – Она знала, что мы возьмем такси, но произнести это слово ей было так же противно, как и «искусство».
– Когда мы вас снова увидим? – спросила на прощание Лоретта.
– Думаю, скоро, – ответил я.
– На Новый год?
– Вполне возможно.
– Не пропадайте, – мягко произнес отец. – И удачи тебе в работе.
На углу мы остановили такси.
– Фюйть! – присвистнула Стася, когда мы залезали в машину.
– Неплохо все прошло, правда? – поинтересовался я.
– Да уж! Слава Богу, мне некого навещать.
Мы расселись по местам. Стася сбросила туфли.
– Один альбом чего стоит! – сказала она. – Никогда не видела сразу столько недоумков. Ты хоть понимаешь, какое чудо, что ты нормальный?
– Такое есть во всех семьях, – возразил я. – Генеалогическое древо человечества – огромная Tannenbaum, сверкающая и переливающаяся маньяками разных мастей. Думаю, сам Адам был кривобоким, одноглазым чудовищем… Что нам всем сейчас надо – так это как следует надраться. Интересно, остался еще «Кюммель»?
– Мне нравится твой отец, – сказала Мона. – Ты многое от него унаследовал, Вэл.
– Но зато мамаша!… – воскликнула Стася.
– А что? – спросил я.
– Я бы давно ее придушила.
Мона сочла замечание Стаси забавным.
– Странная она женщина, – задумчиво произнесла Мона. – Чем-то напоминает мою мать. Обе лицемерки. Упрямые как ослицы. И еще – деспотичны и мелочны.
– Никогда не стану матерью, – сказала Стася. Мы рассмеялись. – И женой тоже не буду. Клянусь Богом, просто быть женщиной – и то тяжело. Ненавижу женщин! Все они подлые сучки – даже лучшие из них. Я всегда буду той, кем являюсь сейчас, – комедиантом, играющим женщину. И пожалуйста, никогда больше не заставляйте меня так одеваться. Чувствую себя полной дурой – и в придачу обманщицей.
Оказавшись в своей квартирке, мы извлекли все спиртное, что было в доме, – «Кюммель», бренди, ром, «Бенедиктин». Заварили крепчайший кофе, уселись за «стол откровений» и завели разговор по душам, как добрые старые друзья. Стася стащила с себя корсет. Он свисал со стула, как музейный экспонат.
– Никого не шокирует, если я дам своим грудкам отдохнуть? – сказала она, ласково их поглаживая. – Не так уж они и плохи, правда? Могли бы, пожалуй, быть побольше… Я похожа на девственницу. Странно, что твой отец заговорил о Корреджо, – обратилась она ко мне. – Как ты думаешь, он действительно его знает?
– Может быть, – ответил я. – Он ходил на аукционы с Айзеком Уокером, бывшим владельцем ателье. Не удивлюсь, если он слышал даже о Чимабуэ или Карпаччо. Слышала бы ты, как он иногда разглагольствует о Тициане! Можно подумать, что он учился с ним в одном классе.








