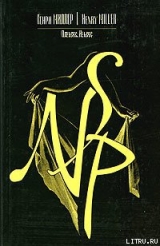
Текст книги "Нексус"
Автор книги: Генри Валентайн Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
6
Дни проходили, а визит Рикардо все не шел у меня из головы. Нагнетала тоску и мысль о приближающемся Рождестве. Это время я мало сказать не любил – я даже побаивался его прихода. В зрелые годы не было случая, чтобы я хорошо провел рождественские праздники. Как я ни сопротивлялся, но в день Рождества всякий раз оказывался в объятиях драгоценных родственничков, и печальному рыцарю в черном облачении приходилось вести себя как любому другому идиоту в этот праздник, а именно набивать брюхо и слушать глупую болтовню своего семейства.
Хотя я и словом не обмолвился о приближающемся событии – вот если бы действительно праздновали рождение свободного духа! – меня занимала мысль, при каких обстоятельствах и в каком настроении мы, двое, встретим этот превращенный в праздник Судный день.
Неожиданное появление в доме Стенли, случайно узнавшего наш адрес, только усилило мое внутреннее беспокойство. Правда, он надолго не задержался. И все же ему достало времени, чтобы пустить в меня несколько стрел.
У меня сложилось впечатление, что Стенли пришел убедиться в том, что я действительно такой неудачник, каким всегда ему казался. Он даже не потрудился спросить, чем в настоящее время я занят, как мы с Моной поживаем, пишу я или нет. Окинув взглядом наше жилище, он сразу все понял. «Какое падение!» – только и сказал он.
Я не старался поддерживать беседу. Только молился про себя, чтобы Стенли ушел, пока не заявились женщины, которые вполне могли находиться в одном из своих экстатических состояний.
Как я уже говорил, Стенли не предпринимал попыток расположиться надолго. Уходя, он вдруг обратил внимание на большой лист оберточной бумаги, прикрепленный мной на стенке рядом с дверью. При тусклом свете было невозможно разобрать, что на нем.
– Это что такое? – спросил Стенли, придвигаясь к стене и, как собака, обнюхивая бумагу.
– Это? Так, ничего особенного, – ответил я. – Кое-какие мыслишки.
Стенли зажег спичку, чтобы лучше рассмотреть написанное. Затем зажег еще одну и через некоторое время – еще. Наконец он выпрямился.
– Ты что, начал писать пьесы? Вот те на!
Казалось, он сейчас плюнет на стену.
– Пока не начинал, – ответил я с пристыженным видом. – Так, прикидывал кое-что. Думаю, дальше этого не пойдет.
– И я так думаю, – заявил Стенли, с готовностью принимая траурное выражение лица. – Тебе никогда не написать пьесы и вообще ничего стоящего. Вечно что-то кропаешь, а толку никакого.
Здесь мне полагалось взбеситься, но этого не произошло. Я был полностью раздавлен и ждал, что он, дабы совсем уничтожить меня, заговорит о написанном им новом романе. Но нет. Вместо этого Стенли сказал:
– А я больше не пишу. Даже читать бросил. Ни к чему все это! – Потоптавшись на месте, он снова направился к двери и, взявшись за ручку, важно и торжественно произнес: – На твоем месте я бы не оставил сочинительство – пусть даже все будет против меня. Не скажу, что ты настоящий писатель, но… – Он заколебался, ища нужные слова. – Судьба благоволит к тебе.
Последовала пауза, за время которой вполне можно было успеть накапать приличный пузырек яду. Затем Стенли прибавил:
– А ты и пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь. Ну, пока, – попрощался он, захлопывая дверь.
– Пока, – отозвался я.
На том все и кончилось.
Пошли он меня в нокдаун, я и то не чувствовал бы себя хуже. Хотелось умереть на месте. Та топкая броня, которая хоть как-то защищала от мира, расплавилась, превратив меня в жирное пятно. В грязную отметину на лице земли.
Погрузившись в мрачные мысли, я машинально зажег свечу и, как лунатик, побрел к тому листу, на котором набросал замысел пьесы. Предполагалось, что в ней будет три акта и всего три действующих лица. Надо ли говорить, о ком шла речь.
Я просматривал наброски сцен, кульминаций, фона и всего остального. Все это я знал наизусть. Казалось, пьеса уже написана. Мне было абсолютно ясно, что делать с материалом. (Я даже слышал гром аплодисментов после каждого акта.) Вся пьеса от начала до конца стояла у меня перед глазами. Единственное, чего я не представлял, так это себя за столом, облекающим мысли в слова. Пьеса не укладывалась в слова. Ее надо было писать кровью.
Каждый раз, оказавшись у разбитого корыта, я начинал выражаться односложно. Или совсем переставал говорить. Двигался еще меньше. Мог оставаться в одной позе невероятно долго – не важно, сидел я при этом, стоял или застывал в наклонном положении.
Именно в таком инертном состоянии меня и застали вернувшиеся домой женщины. Я стоял у стены, упершись головой в лист оберточной бумаги. На столе слабо чадила свечка. Первое время женщины не замечали меня. Ходили молча по комнате, разбирая вещи. Случайно взгляд Стаси упал на мою словно приклеенную к стене фигуру. Она взвизгнула.
– Смотри! – крикнула она. – Что это с ним?
На моем лице жили только глаза. Тело окаменело и превратилось в статую. Или того хуже – в труп!
Стася встряхнула мою безвольно болтавшуюся руку. Та качнулась и снова замерла. Я по-прежнему не издавал ни звука.
– Иди скорей! – вновь крикнула Стася.
На этот раз Мона не заставила себя ждать.
– Взгляни на него!
Пора было как-то проявить себя. Не двигаясь с места и не меняя положения, я с трудом раздвинул челюсти и заговорил голосом человека в железной маске:
– Со мной все в порядке, дорогие мои. Не стоит волноваться. Я просто… задумался.
– Задумался? – в голос возопили они.
– Да, мои ангелочки, задумался. А что тут странного?
– Сядь, пожалуйста, – взмолилась Мона, быстро подтаскивая кресло.
Я опустился в него, будто в бассейн с подогретой водой. Как же приятно! Смена положения доставила мне большое удовольствие. Но я вовсе не жаждал его. Напротив, мне хотелось пестовать мою печаль.
Неужели стена, возле которой я стоял как пришитый, так замечательно успокоила меня? Мозг мой по-прежнему сохранял ту лихорадочную активность, что была прежде, но мысли перестали быть маниакальными: они приходили и уходили – неторопливо, давая возможность приглядеться к ним и полюбить. Перед приходом женщин меня как раз нежно и бережно поднесло к последнему акту, который я вдруг увидел совершенно ясно. Пьеса написалась в голове без всяких усилий с моей стороны.
И вот теперь, сидя вполоборота к женщинам, я вдруг начал вещать, как автомат. Не рассказывал пьесу, нет, я просто произносил текст, реплика за репликой. Как актер, который и после того, как опущен занавес, продолжает играть у себя в гримерной.
Женщины странно примолкли. При обычных обстоятельствах они бы расчесывали волосы или делали маникюр. А теперь сидели, примолкшие и испуганные, и только мой голос гулко раздавался в тишине. Я говорил и в то же время слушал себя. Это было восхитительно. Просто сон наяву.
Я понимал, что стоит мне хоть на миг замолкнуть, и чары рассеются. Однако эта мысль не тревожила меня. Буду продолжать, пока не иссякнут силы. Или пока не «иссякнет» пьеса.
И я говорил, выбрасывая слова сквозь прорезь в железной маске, все тем же ровным, размеренным, глухим голосом. Так неотрывно работают, держа рот на замке, над приближающейся к концу книгой, с волнением понимая, что она тебе невероятно удалась.
Полностью уничтоженный безжалостным приговором Стенли, я оказался лицом к лицу с источником моих бед – профессией в чистом виде, так сказать. И насколько же этот спокойный поток отличался от бурной практики творчества, от непосредственного писательства. «Глубоко ныряй и никогда не всплывай!» – такой лозунг должен взять на вооружение тот, кто жаждет раскрыть себя в словах. Ведь только в безмятежной глубине мы начинаем толком видеть и слышать, чувствовать и жить. Залечь на глубине, отключившись от всех волнений, – какое это благо!
Всплывая, я медленно вращался, как огромная ленивая белуга, устремив на женщин неподвижный взгляд. Я ощущал себя неким чудовищем из морских глубин, никогда прежде не видевшим наш мир, не знавшим солнечного тепла, запаха цветов, пения птиц, криков людей и животных. Я смотрел на женщин огромными, с поволокой, глазами, взгляд которых обычно устремлен внутрь. Каким прекрасным казался мне сейчас мир! Словно впервые я видел двух подруг и комнату, в которой они находились. Видел их на фоне вечности, и комнату тоже, как если бы та была единственной комнатой в мире; видел, как степы ее отступают, а город за ними понемногу тает и исчезает; видел поля, протянувшиеся в бесконечность, озера, моря, океаны, растворяющиеся в космосе – космосе, где отовсюду взирают на тебя чьи-то пламенные глаза, а в чистом, негасимом свете носятся сонмы сверкающих богоподобных существ – ангелы, архангелы, серафимы и херувимы.
Вдруг я пришел в себя – так сильный ветер разом разгоняет туман, и в этот момент меня почему-то больше всего беспокоила мысль о приближающемся Рождестве.
– Что будем делать? – спросил я со вздохом.
– Не отвлекайся, – сказала Стася. – Рассказывай дальше. Таким я тебя еще не видела.
– Рождество! – продолжал я. – Как мы его проведем?
– Рождество? – взвизгнула Стася, все еще думая, что я упомянул праздник в некоем символическом смысле. Когда же осознала, что я уже не тот завороживший ее субъект, каким был только что, она произнесла: – Бог мой! Не хочу больше слышать ни слова.
– Ну и хорошо, – удовлетворенно сказал я после того, как Стася скрылась в своей комнате. – Теперь и поговорить можно.
– Подожди, Вэл, подожди! – вскричала Мона, глядя на меня затуманенным взглядом. – Умоляю, не надо портить эти минуты.
– Все кончено, – признался я. – Что было – то было и быльем поросло. Продолжения не будет. Занавес.
– Нет, не кончено, – взмолилась Мона. – Приди в себя, успокойся… сядь сюда… я налью тебе выпить.
– Отлично, налей, пожалуйста! И дай чего-нибудь поесть. Зверски голоден. А куда подевалась Стася? Давайте закатим пир – будем есть, пить и болтать до утра. И к черту Рождество! К черту Санта-Клауса! Пусть его роль ради разнообразия исполнит Стася.
Вскоре обе женщины уже метались по комнате, не зная, чем мне угодить. И так старались исполнить любую мою прихоть… словно сам пророк Илия спустился к ним с небес.
– Остался у нас рейнвейн? – требовал я. – А ну-ка ставь на стол!
Я прямо умирал от голода и жажды. И с трудом дождался, когда они накроют на стол.
– Вот чертова полячка! – пробормотал я.
– Что ты сказал? – обернулась Стася.
– Хотите знать, что я тут нес? Теперь мне все это кажется сном… Вы ведь хотите знать, о чем я думал? Так вот, я думал о том… как будет прекрасно… если…
– Если что?
– Не важно. После скажу.
Я был наэлектризован. Ведь я рыба. Скорее всего электрический скат. Так и искрюсь весь! И до смерти хочу есть. Возможно, одно способствует другому. И у меня опять тело. Как чудесно вновь обрести плоть! Как чудесно есть, пить, дышать, кричать!
– Все-таки странно, – заговорил я, утолив первый голод, – как ничтожно мало, даже будучи в ударе, мы раскрываем себя. Вы, наверное, хотите, чтобы я продолжил монолог? Думаю, тот улов, что достал я из самых глубин, был любопытен. Теперь все ушло, осталось только воспоминание. Но в одном я уверен – сознание мое не отключалось. Я просто опустился в те глубины, где еще не бывал… Я извергал слова, как кит – фонтаны воды. Нет, не кит. Как неизвестная рыба, живущая на дне океана.
Я лихо отхлебнул из бокала. Отличное вино – рейнвейн.
– Странно и то, что началось все с тех набросков, что висят на стене. Я видел и слышал всю пьесу. Зачем тогда работать за столом? Я хотел написать ее только по одной причине – чтобы облегчить свои муки. Надеюсь, вы знаете, как я несчастен?
Громкие протесты.
– Забавно, но в том моем состоянии все казалось таким, каким и должно быть. Мне не приходилось напрягаться: все было понятно, полно значения и смысла, абсолютно реально. И вы не были теми дьяволицами, какими иногда кажетесь. Впрочем, и к ангелам, которых я мельком видел, вас трудно причислить. Они совсем другие. Но не могу сказать, чтобы мне хотелось всегда так видеть вещи.
Стася перебила меня. Она хотела знать: как именно!
– Все одновременно, – ответил я. – Прошлое, настоящее, будущее; землю, воду, воздух и огонь. Остановившееся колесо. Колесо света, так бы я это назвал. Причем вращается свет – не колесо.
Стася полезла за карандашом, желая записать мои слова.
– Не надо! – сказал я. – Словами это не выразить. То, что я говорю, – пустяки. Просто я не в силах сдержать себя. Но это разговор вокруг да около. Что случилось на самом деле, я не могу объяснить… То же самое и с пьесой. Ту пьесу, что я видел и слышал, никто не смог бы написать. Наши книги – отражения наших желаний. А взять, к примеру, нас. Никто ведь пас не выдумал. Мы существуем – и все. И всегда существовали. Чувствуете разницу? – Я повернулся к Моне. – Знай, я собираюсь устраиваться на работу. А буду продолжать прежнюю жизнь, вряд ли смогу писать.
Мона явно хотела возразить, но слова замерли у нее на устах.
– Сразу после праздников приступлю к поискам. А завтра позвоню родным и скажу, что мы встретим Рождество с ними. И не вздумай отказываться. Один я не пойду. Мне это просто не под силу. И постарайся хоть в этот день не разрисовывать себя до неузнаваемости. Никакой косметики… никаких шалей до земли. С моими родными трудно общаться и без отягощающих обстоятельств.
– Ты тоже пойдешь, – объявила Мона, повернувшись к Стасе.
– Ну уж нет! – возразила Стася.
– Ты должна! – настаивала Мона. – Одна я не выдержу.
– И то правда, – вмешался я. – Пойдем все вместе! С тобой, Стася, мы хоть со скуки не умрем. Только, пожалуйста, надень нормальное платье или юбку. И подколи волосы.
Мои пожелания их очень рассмешили. Стася будет изображать леди? Какая нелепость!
– Ты хочешь сделать из нее посмешище, – заявила Мона.
– Никакая я не леди, – со вздохом призналась Стася.
– Я всего лишь хочу, чтобы ты хорошо выглядела и была сама собой, – сказал я. – Не выряжайся как пугало огородное – только и всего.
Предчувствия меня не обманули. На самое Рождество, в три часа ночи, женщины ввалились в квартиру в стельку пьяные. Кукла, которую они повсюду таскали с собой, неизменный граф Бруга, выглядела так, словно ее хорошенько вздули. Пришлось с ними повозиться – раздеть и засунуть под одеяла. Но только я решил, что дамы наконец отключились, как те объявили, что хотят писать, и, шатаясь, по стеночке побрели в туалет. Путь недалекий, но они тем не менее умудрились задеть все столы и стулья, спотыкались, падали, с трудом поднимались, визжали, стонали, сопели, хрипели – все как полагается у запойных пьяниц. Кого-то даже вырвало. Когда они наконец снова оказались в кровати, я стальным голосом посоветовал им лучше не колобродить, а поскорее заснуть. Спать оставалось недолго. Будильник я поставил на 9.30, о чем им и напомнил.
Сам я почти не спал – всю ночь проворочался, кипя от злости.
Ровно в 9.30 прозвонил будильник. Мне показалось, что звонит он громче обычного. Я тут же встал, но обе подруги спали как убитые. Я толкал их, пихал, стягивал с кроватей – все без толку, бегал как сумасшедший от одной к другой, шлепал, сдергивал одеяла, ругал на чем свет стоит, грозил отстегать ремнем, но они даже не шевелились.
Потребовалось около получаса, чтобы заставить женщин подняться, но они плохо держались на ногах и все норовили на меня завалиться.
– Мигом под душ! – орал я. – Скорей! Я сварю кофе.
– Как можно быть таким жестоким? – простонала Стася.
– Почему бы тебе не позвонить и не сказать, что мы придем только к ужину? – взмолилась Мона.
– Не могу! – кричал я. – И не стану. Они ждут нас к обеду, а не к ужину.
– Скажи, что я заболела, – просила Мона.
– Нет и еще раз нет! Ты пойдешь туда – даже если мне придется тебя тащить.
За кофе женщины рассказали, какие купили для всех подарки. Именно из-за них они и надрались. Как это случилось? Ну, чтобы раздобыть на подарки деньги, им пришлось ходить по пятам за одним щедрым, но надоедливым идиотом, который уже третий день не просыхает. В результате они тоже основательно нагрузились, хотя совсем этого не хотели. Они рассчитывали отделаться от идиота сразу же, как он расплатится за подарки, но тот оказался не так уж прост и не отпустил их. Хорошо, что они вообще домой попали, закончили рассказ подруги.
Неплохая выдумка. Возможно, отчасти даже правдивая. Я проглотил рассказ, запив кофе.
– А теперь скажите мне, что собирается надеть Стася? – спросил я.
Стася выглядела такой беспомощной и смущенной, что с языка у меня чуть не сорвалось: «Да надевай ты что хочешь!»
– Заботу о ней предоставь мне, – сказала Мона. – И ни о чем не волнуйся. А сейчас оставь нас ненадолго одних.
– Хорошо, – согласился я. – Даю вам на все про все час – ни минутой больше.
Я решил, что сейчас для меня самое лучшее – немного прогуляться. Меньше чем за час Стасю в приличный вид не привести. Да и мне хотелось глотнуть свежего воздуха.
– Запомните, – сказал я, стоя на пороге, – у вас в распоряжении только час. Не будете готовы – пойдете в том виде, в каком вас застану.
Утро было прохладным и ясным. Выпавший ночью снежок припорошил все вокруг – картина была самая рождественская. На улицах почти никого не было.
Я неторопливо побрел к пристани, чтобы полюбоваться видом океанских лайнеров, стоящих в ряд, словно собаки в упряжке. Снег, укутавший пушистой шерстью спасти, ярко сверкал на солнце. Что-то магическое было в этой картине.
Направляясь в сторону Хайтс [29] [29] Хайтс, или Бруклин-Хайтс, – микрорайон в Бруклине.
[Закрыть], я забрел в квартал иммигрантов. Здесь атмосфера была не столько магическая, сколько трагическая. Даже светлый дух Рождества не смог скрасить вид этих бедных хижин и лачуг, придать им облик человеческого жилья, А кому это надо? Ведь здесь жили преимущественно иноверцы – грязные арабы, косоглазые чинки [30] [30] Презрительная кличка китайцев.
[Закрыть], индусы, ниггеры… Навстречу мне шел мужчина, по виду араб, одетый в легкие брюки из хлопчатобумажной материи. На голове – вязаная шапочка, на ногах – заношенные ковровые тапочки. «Хвала Аллаху!» – шепнул я, поравнявшись с ним. Немного дальше я наткнулся на двух дерущихся мексиканцев – оба были слишком пьяны, чтобы наносить прицельные удары. Их окружила ребятня – маленькие оборвыши, они криками подзадоривали пьяниц. «Врежь ему! Дай ему в морду!» А из боковой двери ближайшего бара на залитую солнцем улицу, в сверкающую, белизну рождественского утра вышли, пошатываясь, две такие потасканные шлюхи, каких еще поискать! Вот одна наклоняется, поправляя чулок, и, не удержав равновесия, падает плашмя, а вторая смотрит на нее бараньим взглядом, словно не веря глазам, и, споткнувшись, теряет одну туфлю. Пытаясь сохранять достоинство – в ее понимании, – девушка семенит дальше, мурлыча пьяную песенку.
Да, денек отменный! Воздух свежий, бодрящий! Жаль только, что сегодня Рождество. Интересно, готовы ли мои дамы? Я вновь обретал надежду. Ничего, выдержу, успокаивал я себя, только бы женщины не подвели. В голове закрутились всякие байки, которыми я собирался потчевать родных: придется многое присочинить, чтобы их успокоить, – они вечно волновались за нас. Например, всегда спрашивали: «Как ты сейчас, пишешь?» А я отвечал: «Конечно. Опубликовал уже с десяток рассказов». И Моной интересовались. «Моне нравится ее работа?» (Я не помнил, знают ли они, где она работает. Что я говорил в прошлый раз?) А как представить Стасю? Что сказать? Знакомьтесь, это давняя подруга Моны? Она вполне могла учиться с ней в школе. Художница.
Дома я застал Стасю в слезах, она изо всех сил старалась втиснуть ноги в туфли на высоких каблуках. Голая до пояса, в белой, неизвестно где взятой нижней юбке, резинки от пояса болтаются, волосы взлохмачены.
– Мне ни за что их не надеть, – стонала она. – Почему мне надо туда идти?
Мону, похоже, все это веселило. Одежда, гребни и заколки были разбросаны по всему полу.
– Идти тебе не придется, – повторяла она снова и снова. – Мы возьмем такси.
– Шляпу тоже надевать?
– Посмотрим, дорогая.
Я пытался помочь, но сделал только хуже.
– Оставь нас в покое, – потребовали женщины.
Сев в углу, я наблюдал за происходящим. И поглядывал на часы. Было уже почти двенадцать.
– Послушай, – сказал я Моне. – Не надо лезть из кожи вон. Подколи ей волосы и дай нормальную юбку.
Мона заставляла Стасю примерять разные серьги и браслеты.
– Хватит! – заорал я. – Она похожа на рождественскую елку.
Около половины первого мы неторопливо вышли из дома и огляделись – не видно ли такси? Естественно, не видно. Пошли пешком. Стася хромает. Вместо шляпы она надела берет и выглядит почти как все. Но мне больно смотреть на нее. Для нее этот поход – большое испытание. Наконец мы ловим такси.
– Слава Богу, опоздаем всего на несколько минут, – бормочу я.
В такси Стася сбрасывает туфли. Женщины весело хихикают. Мона уговаривает Стасю слегка подкрасить губы, чтобы выглядеть более женственно.
– Женственнее – нельзя, могут подумать, что она не настоящая, – предупреждаю я.
– Сколько нам нужно там пробыть? – спрашивает Стася.
– Не могу сказать. Улизнем сразу, когда можно будет. Надеюсь, в семь-восемь.
– Вечера?
– Ну конечно, вечера. Не утра же.
– Господи! – присвистывает она. – Мне столько не выдержать.
Мы приближаемся к месту назначения, и я прошу водителя остановиться на углу, не подъезжая к дому.
– Почему? – недоумевает Мона.
– Потому.
Такси подкатывает к тротуару, и мы выходим. Стася – в чулках, держа туфли в руке.
– А ну-ка надевай! – кричу я.
На углу, рядом с похоронным бюро, стоит большой сосновый гроб.
– Садись сюда и надевай туфли, – командую я.
Стася повинуется мне, как ребенок. Ноги ее промокли, но она, похоже, этого не замечает. Наклоняясь, втискивает ноги в туфли, но тут с ее головы падает берет, и с таким трудом сварганенная прическа мигом разваливается. Пытаясь спасти положение, Мона отважно бросается на помощь, но шпилек нигде не видно.
– Брось! Какая разница? – ворчу я.
Стася встряхивает головой, как норовистая кобылка, – длинные волосы падают на плечи. Она пытается приладить берет, но тот во всех положениях смотрится нелепо.
– Хватит возиться! Пойдем! Неси его в руках!
– Далеко еще? – спрашивает Стася, снова начиная хромать.
– С полквартала. Держись ровнее!
Мы идем рядком по улице ранних скорбей. Подозрительное трио, как сказал бы Ульрик. Я кожей чувствую, как из-за накрахмаленных занавесок на нас пялятся соседи. Вон идет сынок Миллера. А это, наверное, его жена. Но какая из двух?
Отец выходит навстречу.
– Как всегда припозднились, – журит он нас, но голос его весел.
– Как поживаешь? С Рождеством тебя! – Я нагибаюсь и целую его в щеку.
Стасю представляю как давнюю подругу Моны. Нельзя было оставить ее одну, объясняю я.
Отец тепло приветствует Стасю и приглашает в дом. В холле нас встречает сестра, ее глаза уже полны слез.
– С Рождеством, Лоретта! Знакомься, это Стася.
Лоретта с чувством целует Стасю.
– Мона! – восклицает она. – Как ты? Мы уж думали, что больше тебя не увидим.
– А где мама? – спрашиваю я.
– На кухне.
Но вот появляется и мать, улыбаясь своей печальной улыбкой. Я отчетливо читаю ее мысли: «Все как обычно. Вечно опаздывают. И всегда какие-то неожиданности».
Она обнимает всех поочередно.
– Прошу к столу. Индейка готова. – И прибавляет, сопровождая слова насмешливой улыбочкой: – Вы хоть сегодня завтракали?
– Конечно, мама. Но очень давно.
Мать бросает на меня красноречивый взгляд, который говорит: «Знаю я тебя, все ты врешь» – и отворачивается. Мона тем временем вручает подарки.
– Не стоило тратиться, – говорит Лоретта. Эту фразу сестра унаследовала от матери. – В индейке четырнадцать фунтов, – перескакивает она на другую тему и, повернувшись ко мне, сообщает: – Священник передавал тебе привет, Генри.
Я бросаю быстрый взгляд на Стасю: как ей все это? Выражение ее лица вполне добродушное. Кажется, она искренне растрогана.
– Не хотите ли портвейну перед обедом? – спрашивает отец. Он наполняет три бокала и вручаетнам.
– А себе? – говорит Стася.
– Я уже давно не пью, – отвечает отец и, подняв пустой бокал, провозглашает: – Ваше здоровье!
Вот так начался рождественский обед. Счастливого, счастливого Рождества, всем, лошадям, мулам, туркам, пьяницам, глухим, немым, слепым, хромым, язычникам и новообращенным. Счастливого Рождества! Осанна в вышних! Осанна в вышних! Мир на земле – и да будем мы мучить и убивать друг друга до второго пришествия!
(Этот тост я произнес про себя.)
Я сразу же начал давиться слюной. Тяжелое наследие детства. Мать, как и тогда, сидела напротив, держа в руке нож для разделки мяса. Отец всегда сидел справа, а я мальчишкой искоса поглядывал на него, опасаясь, как бы тот чего не выкинул: ведь в пьяном состоянии он легко взрывался, когда мать отпускала какое-нибудь ехидное замечание. Теперь он уже много лет не пил, но у меня по-прежнему за родительским столом начинались спазмы. Все, что говорили сегодня, было сказано – точно так же и тем же столом, что и тысячу раз прежде. Моя реакция тоже была обычной. Я говорил языком двенадцатилетнего мальчика, который только-только затвердил катехизис. Правда, теперь я больше не упоминал тех ужасных имен, которые срывались у меня с языка в юности, вроде Джека Лондона, Карла Маркса, Бальзака или Юджина В. Дебса [31] [31] Дебс, Юджин (1855-1926) – деятель рабочего движения США.
[Закрыть]. Сейчас я слегка нервничал: ведь в отличие от меня Мона и Стася не знали здешних табу – они были «свободными людьми» и могли повести себя соответствующим образом. Стася в любой момент могла вылезти с каким-нибудь диковинным именем – заговорить о Кандинском, Марке Шагале, Цадкине, Бранкузи или Липшице. Хуже того, она вполне могла упомянуть такие имена, как Рамакришна, Свами Вивекананда или Будда Гаутама. Я молил Бога, чтобы, подвыпив, она не завела речь об Эмме Гольдман [32] [32] Гольдман, Эмма (1869-1940) – известная американская анархистка, в 1893 г. возглавила движение после того, как А. Беркман, лидер американских анархистов, был посажен в тюрьму. Г. Миллер встретился с Эммой Гольдман в Сан-Диего в 1913 г., и эту встречу он назвал «поворотным моментом своей жизни».
[Закрыть], Александре Беркмане или князе Кропоткине.
К счастью, моя сестра сама забросала нас именами радиокомментаторов, дикторов, эстрадных певцов, звезд музыкальной комедии, соседей и родственников, вплетая в этот длинный список рассказы о разных несчастьях; по ходу дела сестра пускала слезу, шмыгала носом или трагически сопела.
Нет, наша Стася держится молодцом, думал я. И манеры превосходные. Но на сколько ее хватит?
Мало-помалу сытная пища и отличный мозельвейн делали свое дело. Женщины в эту ночь плохо спали, и я видел, что Мона с трудом сдерживает волнами подкатывающую зевоту.
Уяснив ситуацию, отец спросил:
– Вы, наверное, поздно легли?
– Не так чтоб очень, – бодро ответил я. – Но, сам знаешь, раньше полуночи мы не ложимся.
– Ты, видно, ночью пишешь, – сказала мать.
Я так и подпрыгнул. Прежде она воздерживалась от комментариев по поводу моей работы, если, конечно, ей не хотелось уколоть меня или просто выразить неодобрение.
– Ты права, – подтвердил я. – Обычно я работаю по ночам. Ночью тише. И лучше думается.
– А что делаешь днем?
Я уже собирался ответить «работаю, естественно», но вовремя сообразил, что упоминание о работе только усложнит ситуацию. И поэтому сказал:
– Хожу в библиотеку… провожу изыскания.
– А Стася? Что делает она?
Тут меня удивил отец, вдруг выпаливший:
– Она художница – сразу видно.
– Вот как? – Казалось, мать испугало само звучание этого слова. – А за это платят?
Стася снисходительно улыбалась. Искусство никогда не приносит много денег… вначале… любезно объяснила она. И прибавила, что, к счастью, время от времени ей приходят небольшие суммы от опекунов.
– Полагаю, у вас и студия есть? – воодушевился мой старик.
– Да. У меня мансарда в Гринич-Виллидж.
Здесь в разговор, к моему отчаянию, вступила Мона и, по своему обыкновению, стала все конкретизировать. Я быстро перевел разговор на другую тему, потому что мой старик заглотнул не только крючок, но и леску с грузилом и уже намекал, что не прочь навестить Стасю в студии. Ему нравится смотреть, как работают художники, сказал он.
Я заговорил об Уинслоу Гомере [33] [33] Гомер, Уинслоу (1836-1910) – американский художник, писал картины из жизни простых людей.
[Закрыть], Бугро [34] [34] Бугро, Адольф-Вильям (1825-1905) – французский художник салонно-академического направления.
[Закрыть], Райдере [35] [35] Райдер, Альберт (1847-1917) – американский художник, представитель позднего американского романтизма.
[Закрыть] и Сислее [36] [36] Сислей, Альфред (1839-1899) – видный представитель французского импрессионизма.
[Закрыть]. (Все любимцы отца.) Стася удивленно вздернула брови, услышав эти несовместимые имена. Удивление ее достигло предела, когда отец стал перечислять американских художников, чьи картины висели в швейной мастерской. (Пока его предшественник не продал ее.) Пожалев Стасю, я прервал отца, пока тот не вошел в раж, напомнив ему о Рескине [37] [37] Рескин, Джон (1819-1900) – английский писатель, историк, искусствовед. В книге «Камни Венеции», как и в других своих произведениях, утверждал, что зодчество и искусство вообще являются выражением национального духа.
[Закрыть]… точнее, о «Камнях Венеции», единственной прочитанной им книге. Затем заставил вспомнить о Ф.Т. Барнуме [38] [38] Барнум, Финнас Тейлор (1810-1891) – знаменитый импресарио, «отец рекламы», создатель американского цирка.
[Закрыть], Женни Линд [39] [39] Линд, Женни (1820-1887) – выдающаяся шведская оперная певица.
[Закрыть] и прочих знаменитостях его времени.
Когда в разговоре возникла пауза, Лоретта заметила, что в три тридцать по радио транслируют оперетту… может, мы хотим послушать?
Но тут подошло время вкушать сливовый пудинг с воздушным кремом – и Лоретта моментально забыла про оперетту.
Когда сестра произнесла «три тридцать», я подумал, что нам еще долго сидеть в гостях. О чем, черт подери, говорить все это время? И когда можно отвалить, не обидев хозяев? У меня в голове свербело.
В то же время я видел, что Мона и Стася совсем отяжелели и еле ворочают языком. Глаза у них слипались. О чем таком заговорить, чтобы вывести их из сонного состояния и в то же время не увлечь настолько, что они забудут про сон и наговорят лишнего? О чем-то достаточно незначительном и одновременно не слишком банальном. (Да взбодритесь же вы, дурищи!) Может, о древних египтянах? Но почему непременно о них? Клянусь спасением души, я не мог придумать ничего лучше. Напрягись! Думай!
Неожиданно я осознал, что в комнате стоит гробовая тишина. Даже Лоретта как воды в рот набрала. Интересно, долго это продолжается? Придумай же что-нибудь! Все равно что – надо нарушить молчание. Что же? Вспомнить опять про Рамзеса? К черту Рамзеса! Ну думай же, идиот! Думай! Говори хоть о чем-нибудь!
– Я рассказывал вам?… – начал я.
– Простите, – перебила меня Мона, тяжело поднимаясь из-за стола и по привычке опрокидывая стул. – Вы не возражаете, если я на пару минут прилягу? У меня ужасная мигрень, просто голова раскалывается.
Диван стоял прямо за ней. Не раздумывая, она рухнула на него и закрыла глаза.
(Ради Христа, только не захрапи сразу же!)
– Она, должно быть, очень устала, – посочувствовал отец и перевел взгляд на Стасю. – Почему бы и вам не вздремнуть? От этого одна польза.
Повторять второй раз не пришлось. Стася мигом растянулась рядом с безжизненным телом Моны.
– Принеси одеяло, – сказала мать Лоретте. – То, тонкое, что лежит наверху в комоде.
Диван был тесноват для двоих. Женщины никак не могли удобно устроиться – ворочались, беспокойно крутились, вздыхали, хихикали и непрерывно зевали. Вдруг – бах! – лопнула пружина, и Стася свалилась на пол. Мону это ужасно рассмешило. Она хохотала как сумасшедшая. На мой взгляд, слишком громко. Но откуда ей знать, что этот диван, простоявший у нас в доме лет пятьдесят, служил бы моим родным при бережном обращении еще лет двадцать? У нас в семье не принято смеяться над такими происшествиями.








