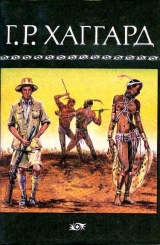
Текст книги "Собрание сочиненийв 10 томах. Том 2"
Автор книги: Генри Райдер Хаггард
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 47 страниц)
Глава XVI. Мамина!… Мамина!… Мамина!…
В тот же день король дал мне разрешение покинуть Землю Зулу, и мне показалось величайшим счастьем распрощаться с зулусами.
Вечером, перед закатом солнца, когда я собирался двинуться в путь, я увидел странную фигуру, ковылявшую по склону холма по направлению ко мне и поддерживаемую двумя дюжими молодцами. Это был Зикали.
Он молча прошел мимо меня и только знаками дал мне понять, чтобы я последовал за ним. Он дошел до плоского камня, находившегося в ста метрах выше моего лагеря, где не было ни одного куста, в котором можно было бы спрятаться. Он сел и указал мне на другой камень перед ним, Когда я сел, он отослал обоих молодцов, и мы остались одни.
– Так ты уезжаешь, Макумазан? – спросил он.
– Да, уезжаю, – ответил я. – Будь на то моя воля, я давно уехал бы отсюда.
– Да, да, я знаю, но это было бы жаль, не правда ли? Если бы ты уехал, Макумазан, ты не увидел бы до конца этой странной истории, и ты, который любишь изучать людей, не узнал бы многого, что знаешь теперь.
– И не был бы таким печальным! О Зикали! Подумать только, что эта женщина умерла!
– Я понимаю, Макумазан. Ты всегда любил ее, хотя самолюбие белого человека не допускало того, чтобы черные пальцы дергали нити его сердца. Она была изумительная чаровница, эта Мамина. И этим ты можешь себя утешить – она дергала нити не только твоего сердца, но и других – Мазапо, например, Садуко, Умбулази… и даже моего сердца.
– Если твоя любовь проявляется так, как сегодня к Мамине, то молю тебя, чтобы ты никогда не питал ко мне любви.
Он ответил, с сожалением покачав головой.
– Разве не приходилось тебе любить ягненка, а потом заколоть его, когда ты был голоден, или когда он превратился в большого барана и хотел забодать тебя, или когда он прогонял других твоих овец, так что они попадали в руки воров? Видишь, я, как голодный, жду гибели дома Сензангаконы, а ягненок-Мамина сделалась слишком большой и едва не повалила… меня сегодня. Кроме того, она старалась загнать мою овцу, Садуко, в такую яму, откуда он никогда не мог бы выбраться. Поэтому, хотя и против моей воли, я вынужден был рассказать о ней всю правду.
– Она умерла, – сказал я, – и к чему теперь говорить о ней?
– Ах, Макумазан, она умерла, но дела ее рук оставили следы. Суди сам: Умбулази, и большинство вождей, и тысячи тысяч зулусов, которых я, потомок Ндвандве, ненавижу, умерли. Это дело рук Мамины. Мпанда обессилен от горя, и глаза его ослепли от слез. Это тоже дело рук Мамины. Кетчвайо взойдет на престол и доведет до гибели дом Сензангаконы. Это тоже дело рук Мамины. О, какие коварные дела! Поистине, она прожила великую и достойную жизнь и умерла великой и достойной смертью. И как она ловко проделала. Успел ты заметить, как она между поцелуями приняла яд, который я ей дал, – хороший яд, не правда ли?
– Все это дело твоих рук, а не ее! – вырвалось у меня. – Ты дергал за нити, ты был тем ветром, которым нагибал траву, пока огонь не охватил ее и не загорелся крааль – крааль твоих врагов,
– Как ты, однако, прозорлив, Макумазан. Да, я знаю, как дергать за веревки, чтобы захлопнулась западня, я знаю, как нагибать траву, чтобы огонь охватил ее, и как раздувать пламя, чтобы в нем погиб род королей. Правда, западня захлопнулась бы и без меня, но она поймала бы в свои сети других крыс, и трава загорелась бы, если бы я не дул на нее, но только тогда огонь мог сжечь и не то, что нужно. Не я создал эти силы, Макумазан, я только направил их куда следует, чтобы достигнуть своей цели – падения дома Сензангаконы.
– Но я не понимаю, почему ты взял на себя труд прийти сюда ко мне? – спросил я.
– О, я хотел попрощаться с тобой, Макумазан. А также рассказать тебе, что Мпанда, или, вернее, Кетчвайо, по просьбе Нанди пощадил жизнь Садуко, но изгнал его из страны, позволив ему взять с собою скот и всех людей, кто захочет пойти с ним в изгнание. По крайней мере, как говорит Кетчвайо, это сделано по просьбе Нанди и по моей и твоей просьбе, но на самом деле после того, что случилось, он считает благоразумнее, если Садуко погибнет от самого себя.
– Ты хочешь сказать, что он лишит себя жизни?
– Нет, нет. Я хочу сказать, что его собственный дух убьет его понемногу. Видишь, Макумазан, ему и теперь уже кажется, что дух Умбулази преследует его.
– Другими словами, он сошел с ума, Зикали.
– Да, да. Называй его сумасшедшим, если хочешь. Сумасшедшие живут всегда с духами, или, вернее, духи вселяются в сумасшедших. Ты понимаешь теперь?
– Понимаю, – ответил я.
– Но смотри, солнце уже село. Тебе следовало бы быть уже в пути, если ты к утру хочешь быть далеко от Нодвенгу. Вот здесь небольшой подарок для тебя, моей собственной работы. Разверни этот пакет, когда снова взойдет солнце. Этот подарок будет напоминать тебе о Мамине, о Мамине с пламенным сердцем. Прощай, Макумазан! О, если бы ты сбежал с Маминой, как все могло бы сложиться иначе!
На следующее утро я раскрыл пакет, данный мне Зикали. Внутри я увидел вырезанную из черной сердцевины дерева умцимбити фигурку Мамины, на ней было оставлено немного белой древесины, чтобы обозначить глаза, зубы и ногти. Конечно, исполнение было грубое, но сходство было – или, вернее, есть, потому что я до сих пор храню эту фигурку, – поразительное! Она стоит, слегка наклонившись вперед, с протянутыми руками, с полураскрытыми губами, как бы собираясь поцеловать кого-то; в одной руке она держит человеческое сердце, тоже вырезанное из белой древесины умцимбити – я предполагаю, что это сердце Садуко или Умбулази.
Но это было не все. Фигурка была завернута в женские волосы, в которых я сразу признал волосы Мамины, а вокруг волос было обмотано ожерелье из крупных синих бус, то самое, которое она всегда носила на шее.
* * *
Прошло около пяти лет, когда однажды я очутился в отдаленной части Наталя, в районе Умвоти, в нескольких милях от холма Иланд.
Однажды мои фургоны застряли посреди брода небольшого притока Тугелы, который очень некстати разлился в это время. Только к наступлению ночи мне удалось вытащить фургоны на берег. Дождь лил как из ведра, и я промок до костей. По-видимому, не было надежды на возможность развести костер и приготовить себе ужин, поэтому я уже собирался идти спать не поужинав. Но при свете вспыхнувшей молнии я увидел в какой-нибудь полумиле от себя большой крааль на склоне горы.
– Кому принадлежит этот крааль? – спросил я одного из кафров, которые из любопытства собрались вокруг нас.
– Тшозе, инкоси, – ответил кафр.
– Тшоза? Тшоза? – повторил я, так как имя мне показалось знакомым. – Кто такой Тшоза?
– Не знаю, инкоси. Он пришел из Земли Зулу несколько лет тому назад вместе с Садуко Сумасшедшим.
Тогда, конечно, я сразу вспомнил его, и вспомнил ту ночь, когда старик Тшоза, дядя Садуко, выпустил из краалей стада Бангу и мы сражались бок о бок с ним в ущелье.
– Вот оно что! – воскликнул я. – Ведите меня в таком случае к Тшозе. Я дам вам за это шиллинг[35] [35] Шиллинг – английская монета, равная 1/20 фунта стерлингов.
[Закрыть].
Соблазненные таким щедрым предложением, кафры повели меня по темной извилистой тропинке. Я был счастлив, когда мы, шлепая по лужам, перешли через последний поток воды и очутились у калитки.
Мы постучали, и среди оглушительного лая собак я попросил впустить меня и провести к Тшозе. В ответ мне сообщили, что Тшоза здесь не живет, а живет в другом месте, что он слишком стар, чтобы видеть кого-либо, что он спит и ему нельзя мешать, что он умер на прошлой неделе и похоронен – и тому подобную ложь.
– Слушай, приятель, – сказал я парню, говорившему мне все эти небылицы, – ступай-ка в могилу и скажи ему, что если он немедленно не выйдет оттуда живым, то Макумазан поступит с его скотом так же, как Тшоза некогда поступил со скотом Бангу.
Пораженный необычностью моих слов, парень отправился передать их, и вскоре при бледном свете луны я увидел маленького сморщенного старичка, бежавшего по направлению ко мне.
– Макумазан! – воскликнул он. – Неужели это ты? Войди, и добро пожаловать!
Я вошел. За сытным ужином, которым он меня угостил, мы разговорились с ним о былых временах.
– А где же Садуко? – спросил я, зажигая трубку.
– Садуко? – ответил он, и лицо его изменилось. – Он здесь. Ты знаешь, я ушел вместе с ним из Земли Зулу. Зачем я ушел? По правде сказать, после той роли, которую мы сыграли в битве при Индондакузуке – против моей воли, Макумазан, – я подумал, что безопаснее будет покинуть страну, где предатели не могли рассчитывать на друзей.
– Правильно! – сказал я. – А где же все-таки Садуко?
– Я тебе не сказал? Он в соседней хижине и умирает.
– Умирает? От чего, Тшоза?
– Не знаю, – ответил он таинственно, – я думаю, его околдовали. Уже больше года, как он почти ничего не ест и не переносит темноты. В сущности, с тех пор как мы покинули Землю Зулу, он все время был странный.
Тут я вспомнил слова Зикали пять лет тому назад, что Садуко лишился рассудка.
– Он много думает об Умбулази, Тшоза? – спросил я.
– О, Макумазан, он не думает ни о чем другом. Дух Умбулази не покидает его ни днем ни ночью.
– Могу я видеть Садуко? – спросил я.
– Не знаю, Макумазан. Я пойду и спрошу Нанди. Если можно его видеть, то нельзя терять времени. – И он вышел из хижины.
Минут через десять он вернулся с Нанди, такой же спокойной и выдержанной, какой я ее всегда видел и знал, только от забот она выглядела старше своих лет.
– Привет тебе, Макумазан, – сказала она. – Я рада видеть тебя, но странно, очень странно, что ты пришел как раз сегодня. Садуко покидает нас, он отправляется в свой последний путь, Макумазан.
Я с грустью ответил, что уже слышал об этом, и поинтересовался, захочет ли он меня видеть.
– Да, Макумазан, он будет рад, но только приготовься к тому, что ты найдешь Садуко совсем не тем, каким ты его знал. Иди за мной.
Мы вышли из хижины, прошли через двор и вошли в другую большую хижину. Она была освещена лампой европейского изделия, а также ярким огнем, горевшем в очаге, так что в хижине было светло как днем. У стены хижины на циновке лежал человек. Он закрывал глаза рукой и стонал.
– Прогоните его от сюда! Прогоните его! Неужели он не может мне дать умереть спокойно?
– Ты хочешь прогнать своего старого друга Макумазана, Садуко? – мягко спросила его Нанди. – Макумазана, который пришел навестить тебя?
Он присел, одеяло спало с него, и я увидел, что это был просто живой скелет. О! Как он не был похож на гибкого, красивого вождя, которого я знавал прежде! Губы его вздрагивали, глаза были полны ужаса.
– Это действительно ты, Макумазан? – спросил он слабым голосом. – Подойди ко мне и встань как можно ближе, чтобы он не мог встать между нами. – И он протянул свою костлявую руку.
Я взял руку, она была холодна как лед.
– Да, да, это я, Садуко, – сказал я веселым тоном, – и между нами никто не стоит. Здесь только твоя жена Нанди и я.
– О нет, Макумазан, здесь в хижине есть еще один, кого ты не видишь. Вот он стоит. – И он указал на очаг. – Смотри. Он пронзен ассегаем, и перо его лежит на земле.
– Кто пронзен, Садуко?
– Кто? Разве ты не знаешь? Принц Умбулази, которого я предал ради Мамины.
– Ты говоришь пустые слова, Садуко, – сказал я. – Много лет тому назад я видел, как умер Умбулази.
– Нет, нет. Ты помнишь его последние слова: «До самой твоей смерти я не дам тебе покоя!» И с этого часа я не имел покоя.
Он снова закрыл глаза рукой и застонал.
– Он сумасшедший! – прошептал я Нанди.
– Пусть ярче горит огонь, – снова заговорил Садуко. – Я не так ясно вижу его, когда светло. О Макумазан, он смотрит на тебя и шепчет что-то. Кому он шепчет? Я вижу! Это Мамина. Она тоже смотрит на тебя и улыбается… Они разговаривают… Молчи. Я хочу послушать.
Вид сумасшедшего Садуко действовал мне на нервы, и я хотел выйти, но Нанди не пустила меня.
– Останься со мной до конца, – прошептала она.
Садуко продолжал бредить.
– Какую ловкую яму ты вырыл для Бангу, Макумазан. Но ты не захотел взять своей доли скота, так что кровь амакобов не пала на твою голову… Ах, как сражались ама-вомбы при Индондакузуке. Ты был с ними, Макумазан. Но почему меня не было рядом с тобой? Мы как вихрь смели бы тогда узуту… Почему меня не было?… Ах да, я помню… из-за Дочери Бури. Она изменила мне ради Умбулази, а я изменил Умбулази ради нее. Ах, и все это было напрасно, потому что Мамина ненавидела меня. Я читаю это в ее глазах. Она смеется надо мной и ненавидит меня еще больше, чем ненавидела живой… Но что она говорит? Она говорит, что это не ее вина, потому что она любит… любит…
Удивление отразилось на его измученном лице. Он раскинул руки и простонал слабеющим голосом:
– Все… все было напрасно… О Мамина! Ма-ми-на! Ма-ми-на! – И он замертво упал на циновку.
* * *
– Садуко ушел от нас, – сказала Нанди, натягивая каросс на его лицо. – Но мне интересно бы знать, – добавила она с легким истеричным смехом, – кого могла полюбить Мамина?… Бессердечная Мамина…
Я ничего не ответил, потому что в эту минуту я услышал странный звук где-то наверху, над хижиной. Что он напоминал мне? Ах да, я знал. Он был похож на жуткий страшный смех Зикали, Того-Кому-Не-Следовало-Родиться.
Несомненно, однако, это был лишь крик какой-то ночной птицы. Или, быть может, это смеялась гиена – гиена, почуявшая покойника…



АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН
ВСТУПЛЕНИЕ
Я похоронил недавно моего мальчика, моего милого мальчика, которым я так гордился. Сердце мое разбито. Так тяжело – иметь одного сына и потерять его. Божья воля! И я не мог ничего поделать. Смею ли я, могу ли жаловаться? Неумолимо вертится колесо судьбы и давит всех нас поочередно – одних раньше, других позже, – и в конце концов уничтожает всех. Мы не падаем ниц пред неумолимым роком, как бедные индийцы, мы пытаемся убежать туда или сюда, мы вопим о пощаде… Но бесполезно! Как гром, разражается над нами мрачный рок и обращает нас в пыль и прах.
Бедный Гарри! Умереть так рано, когда целая жизнь открывалась перед ним! Он так усердно работал в больнице, так блестяще сдал последние экзамены, и я так гордился этим, полагаю, даже больше, чем он сам. Ему нужно было отправиться в другую больницу для изучения инфекции оспы. Он писал мне оттуда, что не боится оспы и что ему необходимо изучить болезнь и набраться опыта. Страшная болезнь унесла его, и я, старый, седой, слабый, остался оплакивать его, совсем одинокий на свете. Нет никого, ни детей, ни близких, чтобы пожалеть и утешить меня. Я мог спасти его, не пускать туда, У меня достаточно средств для нас обоих, – более, чем нужно, копи царя Соломона в изобилии снабжают меня деньгами. Но я говорил себе: нет, пусть мальчик учится жить, пусть работает, чтобы насладиться потом отдыхом! Но этот отдых застал его среди работы. О, мой мальчик, мой дорогой мальчик! Судьба моя похожа на судьбу библейского Иова, который имел много имущества, много житниц с хлебом, – я тоже припас много добра для моего мальчика! Бог прислал за его душой, и я остался один, в полном отчаянии. О, я хотел бы умереть вместо моего милого мальчика! Мы похоронили его после полудня под сенью древней серой церковной башни, в той деревне, где я живу. Это был печальный день. Тяжелые снеговые тучи обложили небо. Как только гроб опустили в могилу, несколько снежных хлопьев упало на него. Чистой девственной белизной сияли они на черных покровах! Перед тем как опустить гроб в могилу, произошло замешательство, – забыли нужные веревки. Мы стояли молча и ждали, наблюдая, как пушистые снежные хлопья падали на гроб, словно благословение неба, таяли и превращались в слезы над телом бедного Гарри. Это еще не все. Красногрудый снегирь смело спустился, сел на гроб и начал петь. Я испугался и упал на землю с растерзанным сердцем. Сэр Генри Куртис, человек более сильный и смелый, чем я, также упал на колени, а капитан Гуд отвернулся. Как ни велико было мое горе, я не мог не заметить этого.
Эта книга – извлечение из моего дневника, который я вел более двух лет тому назад. Я переписываю его вновь, так как мне кажется, что он может служить началом истории, которую я собираюсь рассказать, если Богу угодно будет дозволить мне окончить ее. Не велика беда, если я не окончу. Этот отрывок из дневника был написан за семь тысяч миль от того места, где я лежу теперь, больной, и пишу это, а красивая девушка стоит около меня и отгоняет мух от моего августейшего лица. Гарри – там, а я здесь, и все же я чувствую, что и я скоро уйду к нему.
В Англии я жил в маленьком красивом доме, – говорю в красивом доме, сравнивая его с домами, к которым я привык в Африке, – не дальше чем в пятистах ярдах от старой церкви, где спит вечным сном мой Гарри. После похорон я вернулся домой и немного поел, но может ли быть хороший аппетит у того, кто похоронил все свои земные надежды! Немного поев, я принялся ходить, вернее, ковылять – я давно уже хромаю благодаря укусу льва – взад и вперед по отделанной под дуб передней комнате, потому что в моем английском доме есть комнаты. На четырех стенах комнаты было размещено около сотни пар рогов. Тут были действительно прекрасные образцы, так как я хранил только лучшие рога. В центре комнаты, над большим камином, находилось пустое пространство, где я повесил свои ружья. Некоторые из них были старинного образца, которых теперь уже не увидишь, я достал их сорок лет тому назад. Одно старое оружие я купил несколько лет назад у бура, который сказал мне, что из этого оружия стрелял его отец в битве у Кровавой реки[36] [36] 16 декабря 1838 г. объединенные силы англичан и буров нанесли сокрушительное поражение зулусским войскам в долине реки Инкоме, которая после этого получила название Блад (Кровавая).
[Закрыть], после того как Дингаан напал на Наталь и убил шестьсот человек, включая женщин и детей. Буры назвали это место – местом палача, и так оно и называется до сих пор. Много слонов убил я из этого старого ружья. Оно вмещает горсть черного пороха и три унции[37] [37] Унция – английская мера веса, равная 28,35 г.
[Закрыть] дроби и дает сразу двойной выстрел. Итак, я прохаживался взад и вперед, посматривая на ружья и рога, и великая тревога заползала ко мне в душу. Я должен уехать прочь из этого дома, где живу праздно и спокойно, опять в дикую страну, где я провел лучшую половину своей жизни, где встретил мою дорогую жену, где родился мой бедный Гарри, где случилось со мной столько хорошего и дурного. Во мне жила жажда пустыни, дикой страны, я не мог выносить более моей жизни здесь, я должен уехать и умереть там, где жил, среди дикарей и диких зверей! Расхаживая по комнате, я размышлял и смотрел на лунный свет, серебристым блеском заливавший небесный свод и таинственное море кустарника, наблюдал за причудливой игрой его на воде. Говорят, господствующая в человеке страсть сильнее всего сказывается перед смертью, а мое сердце умерло в эту ночь. Независимо от моего волнения, понятно, что ни один человек, проживший сорок лет так, как я, не может безнаказанно запереться в Англии, с ее нарядными, отгороженными, возделанными полями, с ее чопорными, образцовыми манерами, с разодетой толпой. Мало-помалу он начнет тосковать о свежем дыхании воздуха пустыни, грезить безбожными зулусами, которые подобно орлам бросаются на врагов со скалы, и сердце его возмутится против узких границ цивилизованной жизни.
И это цивилизация?! Что дает она? Целых сорок лет провел я среди дикарей, изучал их нравы и обычаи, потом несколько лет прожил в Англии и по собственному глупому разумению присматривался к детям цивилизации. И что же я нашел? Огромную пропасть между теми и другими? Нет, небольшое расстояние, которое простодушный человек легко перепрыгнет. Дикарь и цивилизованный человек – очень похожи друг на друга, только последний – изобретательнее и обладает тягой к различным общественным объединениям. Зато дикарь, насколько я узнал его, не знает жадности к деньгам, которые, подобно раку, впиваются в сердце белого человека. В общих чертах, дикарь и дитя цивилизации сходны между собой. Смею думать, что высокообразованная дама, читая эти строки, улыбнется наивности старого глупца охотника, когда подумает о своих черных увешанных бусами сестрах! Улыбнется также высококультурный прожигатель жизни, смакуя свой обед в клубе. Сумма, истраченная на этот обед, позволила бы прокормить целую неделю не одну голодную семью! Моя дорогая барышня! Что за прелестные вещи надеты у вас на шейке? Они имеют странное сходство, особенно когда вы одеваете низко вырезанное платье, с украшениями дикой женщины. Ваша привычка вертеться кругом под звуки музыки, ваше пристрастие к притираниям и пудре, уловки, к которым вы прибегаете, чтобы найти себе богатого завоевателя, который должен сделаться вашим супругом, ловкость, с которой вы убираете себе голову перьями и всякой всячиной – все это приближает вас к вашим черным сестрам! Вспомните, что в основных принципах вашей природы вы совершенно схожи с ними! Вы, сударь, также смеетесь? Пусть дикарь придет и ударит вас по лицу, пока вы наслаждаетесь удивительно приготовленным блюдом, мы удивимся тогда, не сидит ли в вас самих такой же дикарь?!
Я уеду навсегда отсюда. Что здесь хорошего? Цивилизованные люди – те же дикари, позолоченные сверху! Цивилизация – суетные слова; подобно северному сиянию, она сверкнет и исчезнет, и окружающий мрак сгустится еще сильнее! Она подобна дереву, выросшему на почве варварства, и я уверен: рано или поздно, но она падет, как пала цивилизация Египта, культура эллинов и римлян и много других, которых не перечесть. Не подумайте, что я осуждаю современные учреждения, представляющие из себя экстракт человеческих экспериментов на пользу общую! Цивилизация дала нам большие преимущества, например больницы. Но подумайте, эти больницы наполнены больными людьми, жертвами той же цивилизации! В диких странах больниц нет. Возникает вопрос: на сколько больше эти благословенные люди обязаны христианству, чем цивилизации?
Весы опускаются, поднимаются, – здесь больше, там меньше, – и природа дает средний результат на обеих чашах весов, и общая сумма является главным фактором в этом огромном уравнении, результат равен неизвестному количеству целей и намерений.
Разумеется, на все это можно смотреть только как на вступление молодого народа на путь прогресса. Мне приятно думать, что мы пытаемся иногда понять те или иные границы нашей природы, что серьезность познаний вовсе не пугает нас! Человеческое искусство необъятно и растяжимо, подобно эластичной ленте, но человеческая природа похожа на железное кольцо. Вы можете его обойти кругом, можете отлично отполировать его, сплющить, можете прицепить его к другому кольцу, но никогда, пока существует мир и человек, не сумеете увеличить его постоянную окружность. Это – вещь неизменяемая, как звезды на небе, более прочная, чем горы, неизменная, как пути Вечного. Природа человека – это калейдоскоп Бога, маленькие цветные стекла, в которых отражаются наши страсти, надежды, страхи, радости, стремления к добру и злу. Всемогущая Десница управляет ими, как звездами, уверенно и спокойно составляя их во все новые сочетания и комбинации. Но основные элементы природы остаются неизменными независимо от того, будет ли больше цветных стекол или меньше.
Цивилизация должна осушить человеческие слезы, а мы плачем и не можем утешиться. Война отвратительна ей, а мы деремся ради домашнего очага, ради дома, чести и славы и находим удовлетворение в драке. И так везде и во всем.
Когда сердце убито, а голова лежит во прахе, нам не надо цивилизации. Назад, назад! Мы ползем назад, укладываемся на груди великой Природы, как малютки, и ждем, что она утешит нас, заставит нас забыть пережитое или спасет от жала воспоминаний!
Кто из нас в своем великом горе не чувствовал желания посмотреть в дивное лицо Природы, нашей всеобщей матери? Кто не стремился лежать где-нибудь на горе и следить, как облака плывут по небу, слушать раскаты отдаленного грома, слиться хоть ненадолго своей бедной, жалкой жизнью с жизнью Природы, почувствовать биение ее сердца, забыть все свои печали, погрузиться в ее вечную энергию и жизненную силу! Она создала нас, от нее мы произошли, к ней и вернемся! Она дала нам жизнь и поглотит нас в своих недрах.
Расхаживая по комнатам своего дома в Йоркшире[38] [38] Йоркшир – графство на севере Англии.
[Закрыть], я мечтал о нежных объятиях матери-природы. Не той природы, которую вы знаете и видите – в ровных зеленеющих лесах, в улыбающихся нивах, но дикой Природы, такой, какой она была создана, нетронутой, девственной, не знающей борющегося и мятущегося человечества. Я уйду туда, где на свободе бегают звери, назад, в страну, история которой никому не известна, к дикарям, которых я люблю, хотя некоторые из них так же беспощадны, как политическая экономия. Там я научусь спокойно думать о бедном Гарри, который лежит под сенью старой церкви, и сердце мое не будет разрываться от тоски.
Декабрь, 23.








