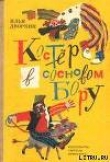Текст книги "Пристань в сосновом бору"
Автор книги: Геннадий Солодников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
7
Утром Надя, еще недовольно хмурясь после ночного разговора с Лилей, неожиданно сообщила ей:
– Вечером твой звонил. Спрашивал, где ты, почему не дождалась, как договорились.
«Твой», «мой» – так они шутливо называли между собой режиссера театра после того, как он стал оказывать Лиле не назойливое, но довольно заметное внимание. Но сейчас «твой» в устах Нади прозвучало с новым для Лили оттенком, слишком уж иронично и неприязненно. Она тоже еще сердилась на Надю – ишь ты, моралистка выискалась, сердобольная заступница Николая! – и поэтому сердито спросила:
– А ты что, сразу не могла сказать?
– Это в полночь-то? Тебе бы легче стало? – отпарировала Надя и решила, что не помешает еще малость помучить Лилю – пусть не зарывается слишком. Больно ей будет? Ну и пусть! Иных такая боль порой вылечивает от излишней самовлюбленности. – Кстати, он где-то Николая встретил. Ладно, хоть не с тобой. «Что, – спрашивает, – к ней кто-то приехал? Столкнулся я тут с одним. Зимой его с вами видел».
– И что ты ответила? – замерла Лиля.
– Был, говорю, такой проездом… Позвонил – и только.
– А про меня?
– Сказала, что ушла подругу навестить. Работница, мол, заболела из нашего цеха… А жаль, – горько усмехнулась Надя. – Так и подмывало выложить всю правду. «Уважаемый Борис Маркович, оставьте девчонку в покое, не морочьте ей голову и сами не обольщайтесь. Она вам тоже столько наморочит, что не рады будете потом…»
– Перестань! – нервно закричала Лиля, сжала свои маленькие кулачки и заплакала от бессилия.
Ах, как некстати схлестнулось все в один день! Словно нарочно и Русин приехал, и Борис Маркович пригласил поужинать вместе, обещал позвонить, уточнить, где и во сколько. И вот теперь все рушится, рассыпается, и Лиля не в состоянии что-либо исправить. Перенервничала она вчера, издергала себя из-за стремления совместить несовместимое: Николая не оставить и Борису Марковичу во встрече не отказать. Отсюда так нескладно все вышло с Русиным. Не на шутку он рассердился и вряд ли забежит на обратном пути.
Не скоро забывается такое.
А Борис Маркович, как теперь с ним? Хорошо, что он не заметил их вместе, когда они заглянули в ресторан. Вот уж тут повезло так повезло… Может, все-таки отговорится она перед ним, отболтается? Надька – хоть на этом спасибо – не выдала ее, подсказала правильный ход. Этого и надо держаться со всей своей женской твердостью.
Но прежде надо встретиться с ним. И не завтра, а сегодня, по горячим следам. А как? Телефона у него нет. Хорошо, если Борис Маркович позвонит сам. Но едва ли, надежда тут мизерная. Пойти к нему она никак не может, даже не допускает такой мысли. Это ж сдача без боя, полная капитуляция; чего Лиля не позволит никогда, ни за какие блага на свете. Она свое дело знает толково: играть играет, да не заигрывается.
Все валилось у Лили из рук, ничего не хотелось делать, апатия и уныние разъедали ее привычную собранность и деловитость. Она совсем недолго задержалась перед зеркалом, отказалась от завтрака и сиротски маячила перед окном, невесть что разглядывая в застекольном мирке почерненного городского двора.
Надя понимала ее состояние, догадывалась о том, что происходит сейчас в Лилиной душе. Сначала она спокойно отнеслась к переживаниям подруги, даже легкий холодок злорадства пронизал на миг ее мысли о событиях вчерашнего дня: «Пусть, пусть помучается, может, с большей душевностью и пониманием будет отзываться на страдания других». Но чем дольше молчала Лиля, тем неуютней становилось и Наде, жалость поднималась к ней, росло желание как-нибудь сгладить свою резкость, принять посильное участие в ее судьбе.
Она прекрасно знала, из-за чего сейчас сильнее всего терзается Лиля. Из-за боязни всерьез оттолкнуть от себя Бориса Марковича.
С его заботливостью и вниманием он был нужен ей, нужен как никто другой. Месяца через два-три Борис Маркович собирался переехать в областной центр: его пригласили работать в профессиональный коллектив – театр юного зрителя. Он выделял Лилю как актрису, подчеркивал перед другими ее способности и делал это с такой неприкрытой значительностью, будто именно он и только он открыл в девушке недооцененный ранее дар. Самой Лиле режиссер прозрачно намекал, что, лишь захоти она, поможет перебраться в большой город, устроит в студию, заслужившую немалый авторитет в театральных кругах, а после – и на профессиональную сцену. Ради всего этого Лиля могла попуститься многим, даже Николаем. Правда, она искренне не хотела расставаться с ним и впредь видела его рядом с собой, особенно после переезда в областной город.
Наде невмоготу стало от утренней размолвки, ее совестливое сердце давно уже отошло.
– Ладно, Лилька, брось убиваться, – обняла подругу Надя за плечи и слегка встряхнула. – Выше голову! Найдем мы твоего Бориса, не так это сложно. Помогу тебе. Зайдем в обед в оба ресторана, в кафе заглянем. Можем мы в воскресный день по-человечески пообедать, в конце концов? Он наверняка где-нибудь попадется. Случайно и предстанем пред его очами… Одной тебе неловко, слишком все нарисовано, а вдвоем – никакого наигрыша. – И, видя, как засветились глаза Лили, разгладились хмурые складочки на лбу, добавила с еще большей энергией: – Давай собирайся! Представь, что идем на званый обед и все мужики вскоре покорно лягут у наших ног.
8
Тумана не было. Крутой утренник досуха выморозил земляные пролысины, ледяной коркой сковал оплавленные поверху снега. Солнце выкатилось каленое, звонкое.
Катер из города шел сегодня точно по расписанию, и когда Сармите остановилась на береговом откосе, он уже вынырнул из-за поворота, четко белея на темной воде.
Кто приедет на нем, кого она ждала весь вчерашний день и ждет сегодня, Сармите и сама толком не знала. Сергея? Навряд ли. Потому что уже не верила в его приезд, да не очень-то и ждала сейчас этой встречи. То, что опалило ее, обидело и даже унизило при последнем разговоре, что казалось сперва неожиданным и невероятным, теперь, спустя столько дней, виделось вполне закономерным и что-то завершающим…
Одна себе в пустой однокомнатной квартире, как она ждала мужа домой! Ждала истово: прислушивалась к шагам на лестнице, замирала нетерпеливо, когда ей казалось, что они затихают, останавливаются на их площадке, и даже несколько раз распахивала навстречу дверь. Она ждала всю субботу, никуда не выходя, чтобы самой принять на пороге своего Сереженьку. В воскресенье не выдержала – не хватило на дальнейшее ожидание сил, – села в автобус и поехала на стройплощадку, где поднимались корпуса новой очереди химкомбината.
Возводился он в двадцати километрах от города, в тайге. Дел на стройке было невпроворот, вовсю шел монтаж металлоконструкций. Бригада, в которой работал Сергей, часто оставалась на сверхурочные; ребята в конце концов решили не тратить времени на переезды и, пока горячая пора, поселиться в деревеньке неподалеку от площадки. Домой, к семьям, у кого они были, наезжали изредка, чтобы помыться, переменить извоженную ржавчиной, замасленную до стального сизого блеска брезентуху, ну и, само собой, подтвердить домашним факт своего существования и благоденствия. Правда, семейных в бригаде было меньше половины, так что остальная холостяцкая братва почти не вылазила из деревни, благо старуха хозяйка исправно топила баню, не скупилась на впрок заготовленные веники и за сходную цену обстирывала молодых монтажников.
Сармите без труда нашла большой дом-пятистенок, где жила бригада, вошла в него и сразу оказалась в просторной комнате, некогда, видимо, разделяемой дощатой заборкой. Слоистый табачный дым густо колыхался под потолком. Возле широкобокой русской печи под лавкой стояли нестройным рядком разнокалиберные сапоги. Сквозь прогорклый табачный запах пробивался устойчивый дух портянок и промасленной одежды. На деревянных топчанах, поржавелых железных койках и раскладушках валялись смятые постели, кое-где поверх них распластались неподвижные тела. За столом с пузатым чайником посередине и стайкой мутных стаканов сидела группа парней и резалась в карты.
Сармите уже была наслышана про здешнее житье-бытье и все-таки при виде всего этого растерялась.
Парни замерли, на полдороге приостановив свои жесты и на полуслове оборвав разговор. Смотрели на нее недоуменно, с любопытством. Один встал из-за стола и нетвердой походкой пошел к порогу. Тут только Сармите признала в нем Сергея – в расстегнутой рубахе, обметанного щетиной, с припухшими глазами.
– Ты что это прикатила? – хмуро спросил он, не поздоровавшись. – Я ж предупреждал, что не на все выходные буду приезжать домой. Неужели не ясно? Мы вон вчера до полуночи вкалывали.
За столом сообразили, что к чему, сдержанно загомонили, задвигались. Кто-то полез открывать форточку, кто-то потащил на кухню чайник и стаканы.
– Здравствуй, Сережа, – только и нашлась Сармите, – навестить вот решила.
А он, не обращая внимания на движение и гул голосов за спиной, наскоро натянул сапоги, накинул на плечи стеганку и потянул в дверь, на улицу, явно давая понять, что в мужском застоялом «малиннике» ей не место. Это же самое он высказал на словах, предупредил, чтоб впредь обходилась без самодеятельности, и посадил на первый же подвернувшийся автобус на тракте. И ни понимания ее порыва, ни заинтересованности, ни сострадания – ничего такого не заметила в нем Сармите, сколько ни приглядывалась. Чужой он был и отключенный от нее.
Так вот и свиделись, и с тех пор нет от него ни единой весточки. Или дома еще не был, не читал ее записки, что маловероятно, или закусил удила, уверенный, что никуда она от него не денется.
Не ждала уж Сергея Сармите, ни на что не надеялась и вспоминала сейчас о нем с тупой успокоенностью – перекипело в ней все, выбродило, остался лишь кислый я мутный осадок. Но на катер поглядывала с томливым ожиданием, с легким замиранием сердца. Может, причиной тому был Николай, его долгое отсутствие? Так о нем в эти минуты она вовсе не думала. Вчера – да, вчера она тосковала, нигде не видя его, уныло слонялась весь день по дому отдыха. Даже Ваня заметил. Вечером на столовской веранде сказал мимоходом:
– Потерялся мой сосед где-то. К ужину обещал вернуться, а нет и нет. Дружок у него должен был приехать…
Катер шел переполненный, на верхней палубе и в проходах густо толпился народ – все мужчины, с рюкзаками, с деревянными ящиками через плечо, с ледорубами. Непоседливое племя рыболовов-подледников. Напротив поселка сплавщиков, конечного пункта катерного маршрута, в водохранилище впадала лесная река, еще не замутненная отходами предприятий по ее берегам. Вот сюда, в устье, на чистые струи, и устремлялась по весне, когда мелело водохранилище, ошалевшая от нехватки кислорода рыба. А за нею еще большими косяками высаживались на прибрежный лед рыбаки в поисках мимолетного счастья. Особенно много их было по выходным дням, так много, что речные трамваи ходили, как правило, с перегрузом и не всегда притыкались к берегу возле дома отдыха – не позволяла большая осадка. Вот и сегодня катер натужно раздвигал воду, грузно осев и слегка завалившись на левый борт.
Сармите с грустью поняла, что он пристанет сюда лишь на обратном пути, ждать ей больше нет смысла, незачем, да и некого «ей встречать: зря она томила себя, терзалась совершенно напрасно.
9
За порогом гостиницы Русина встретил тусклый рассвет. Было свежо, вдоль улицы сквозило. Стылые серые дома, серый снег по обочинам, хрусткий ледяной черепок под ногами, низкое серое небо. Даже в той стороне, где за рекой должно подниматься солнце, стояли серо-желтые размытые дымы химических предприятий.
Он не сразу заметил, как впереди замаячили такие же нахохленные фигуры – одна, вторая, третья. Справа и слева из окраинных проулков на дорогу-улицу призрачно выступали все новые и новые, и когда он оглянулся назад – там тоже был народ, целая разреженная толпа, негласно объединенная единым устремлением, шествовала следом. Русин начал различать отдельные восклицания, приветствия, глухой говорок. Со всех сторон потянуло табачным дымом.
Вскоре текучий людской поток выстроился в подвижную очередь перед окошечком кассы. Шаткие сходни, маленький дебаркадер, узкий трап, плотные спины впереди, перед самым лицом, дыхание в затылок – и Николай очутился на катере. Носовой и кормовой салоны были уже заполнены, на открытую палубу не хотелось, и он задержался в проходе, зажатый мягкими телами тепло одетых рыболовов.
И странное дело, сколько б ни толкали его в очереди, ни мяли при посадке, ни сдавливали со всех сторон сейчас, на ходу катера, Русин почему-то не ощущал никакого неудобства. Наоборот, ему казалось, что он, словно холстина под валком-каталкой, обминается, разглаживается. И в нем самом что-то постепенно выпрямляется, принимает объемную, осязаемую форму.
Несколько лет назад Русин еще курил, курил всерьез и помногу, Но я в то время терпеть не мог, когда мужики где-нибудь в очереди или зрелищной толпе на вольном воздухе в тесной теснотище смолили почем зря табак, трясли пепел друг другу на плечи, сорили искрами по ветру и, того и гляди, могли ткнуть невзначай горящей сигаретой или в лучшем случае прожечь одежду, ибо она сейчас сплошь нейлоново-поролоновая и прожигается-плавится – будь здоров. Он ругался, ссорился с окружающими людьми, выходил из себя, наживал врагов и, в общем-то, выглядел в глазах других чокнутым. Но ничего поделать с собой не мог. Такова уж натура.
А тут, на катере, глядя на размашистый мазок зари в стороне: от дымов уходящего города, он вдруг поймал себя на том, что равнодушен к курильщикам вокруг. Больше того, ему по-своему приятны были запахи разносортного табака, негромкий говорок сдержанно круживший возле, мягкое покачивание и движение человеческих тел. Согласное единение почувствовал он со всеми, проникся их сконцентрированным, скрытым до поры до времени азартом предстоящей рыбной ловли. Целебным, чудодейственным азартом, растворяющим в себе житейские огорчения, бытовые заботы, деловые неудачи и неурядицы. Вчерашний день и все связанное с ним отодвинулись вместе с отдаляющимся городом, стали прошлым, изжитым. То, что вчера казалось крахом, крушением смутных надежд, основательных планов на всю последующую жизнь, – сейчас виделось закономерным и естественным концом того, что сразу было отмечено духом нежити и рано или поздно должно» было отмереть. Хорошо, что это произошло сравнительно быстро. Чем раньше – тем лучше. Хватит с него нелепо затянутых связей и «дружб».
Русин не обратил внимания на то, что катер уже миновал дом отдыха, да он все равно ничего толком не рассмотрел из-за стоящих впереди. Он сошел на берег в поселке, после того как катер приткнулся к кромке прочного ледяного припая и высадил рыбаков. И даже на земле, оставшись один, Николай долго еще ощущал живое шевеление надежных плеч случайных попутчиков.
Солнце едва достигло середины деревьев, и, когда в гуще сосен тропинка повернула, распласталась круто выгнутым ободом, Русину показалось, что незамутненный улыбчивый диск бежит рядом, сторонкой, и зорко поглядывает на него в узкие просветы между стволами. Силится что-то ухватить, высветить в нем, но не успевает за короткий миг и все гонится, гонится.
Русин застал Ваню в комнате. Глаза у парня шально поблескивали и казались светлее обычного. Лишь губы, крупные, слегка вывернутые, дурашливо дулись, изображая обиду.
– Хо, прибыл наконец гуляка! Тут без него с тоски мрут, погибают, можно сказать, в расцвете лет, а он где-то прохлаждается, ешь твою плешь… Да я не про себя, Андреич, – взмахнул Ваня руками, предупреждая возражения. – Я о Сармите. Она, бедная, места себе не находит. Извертелась вчера вся, словно в ней пружинку какую подкрутили. Засветил ей мозги – сам в бега. Нет, ты скажи: засветил ведь? Что, сама по себе девка завелась?
– Ладно, ладно, Ваня, не зуди, – с усталой усмешкой отговаривался Николай. – Не твоя это забота. Как-нибудь без сопливых разберемся.
– Но-но, ты полегче! Трефовый король в побитой молью шубе. – Довольный своей остротой, Ваня хихикнул, легонько поддал Русину в бок. – Слушай, ты ж голодный, наверное, как мартовский кот. У меня банка рыбных консервов есть и еще кое-что найдется. Хоры?
Русин отказался – позавтракал, мол, в сплавной столовке – и блаженно вытянулся на койке, всем своим расслабленным телом ощущая притягательную силу мягкой постели. Сейчас бы вздремнуть малость, потом погладить брюки, побриться, вообще привести себя в порядок – и можно снова включаться в размеренную жизнь дома отдыха.
Прежде всего ему необходимо встретиться с Сарми. Но тут Николай засомневался: как-то неловко будет разыскивать ее, ни с того ни с сего что-то объяснять. Ему самому показалась странной такая нерешительность, но он все-таки подумал: «А что, если действовать через Ваню? Привлечь его в помощники».
– Ваня, дорогой. Раз уж ты такой заботливый, сотвори доброе дело. Сначала принеси утюг. Потом разыщи Сармите, подъедь к ней так, между прочим. Скажи, что я приехал. Собираемся, мол, прогуляться в старый поселок ради воскресного дня. Ну, и не желает ли она присоединиться к нашей мужской компании… Как тебе такой вариант?
– Хоры! – обрадовался Ваня. – Вот это по-нашенски, по-шоферски. Главное – движение.
Не прошло и получаса, как в дверь комнаты постучали.
– Войдите, – лениво откликнулся Николай, продолжая безмятежно лежать, не ожидая никого, кроме Вани, и еще не сознавая, что стучать может лишь посторонний. Он тут же вскочил, растерянно одергивая на себе рубашку и разгоняя ее складки под брючным ремнем.
На пороге стояла Сармите.
…В стылом павильончике неподалеку от временного причала толпился воскресный шумный люд, и Русин в который уж раз за это утро мысленно поблагодарил Ваню со всей искренностью и теплотой, на какие только был способен. Вот где воистину пригодились Ванина общительность и казавшаяся поначалу излишне суетливой, незаменимая сейчас расторопность. Он как-то незаметно и естественно внедрился в середину очереди, вольно балагуря с соседями, вовремя разжился порожними кружками и вскоре с простецкой улыбочкой подавал их бойкой буфетчице.
Русину стало неловко перед Сармите за бездействие, и он тоже решил выказать предприимчивость. Приметив в углу незанятую пивную бочку, смахнул с нее в газету остатки рыбьей шелухи, перехватил у одного из уходящих мужиков расшатанный табурет и усадил Сармите. А тут и Ваня подоспел с полными кружками, предварительно застолбив в очереди новое местечко, чтоб позднее при надобности можно было без задержки отовариться еще.
Он был разгоряченный, взъерошенный, словно долго настигал кого-то и теперь вот вернулся, распаленный удачной погоней. Из глубины куртки, из просторной запазухи достал пучок вяленых ржаво-серебристых рыбешек, рассыпал веером по днищу бочки, живописно заполнив пространство меж пенистыми кружками.
«Хороший просится натюрморт, сочный», – подумал Русин и не удержался от восторженного восклицания:
– Ну, ты орел!
– А что? В самый раз подсолониться. Пиво без рыбки, что девка без… – он споткнулся, взглянув на Сармите, и закончил уж без прежнего подъема, – без приданого.
– Да не об этом.
– А-а. Где достал? Вчера приятеля встретил. Родичи у него тут. Этого добра! – Иван небрежно махнул на рыбу рукой.
Сармите смотрела на Ваню с радостным изумлением, чуть прикрыв счастливую улыбку поднятой кружкой и слегка пригубив из нее.
Затем перевела взгляд на Николая, и во влажном блеске полураспахнутых свежих губ ему почудилась невысказанная благодарность: за то, что он наконец вернулся; за то, что существует вообще, что взял ее сегодня с собой, и ей очень хорошо с ним и этим простодушным неунывающим Ваней.
Русин поймал себя на том, что ему очень хочется нежно погладить Сармите по длинным пальцам, лежащим на кромке бочки. Больше того, он с удовольствием взял бы эти пальцы в свою руку, повернул бы ее ладонь к себе и прикоснулся бы к ней губами – именно изнутри, к тому месту, где соткали свою затейливую сеть линии ее судьбы, ее жизни. Он даже качнулся к ней и судорожно шевельнул рукой, но тут же осадил себя и, чтоб окончательно погасить свое желание, снова повернулся к Ивану.
– Да я не о рыбе даже. С очередью ты ловко провернул.
– А что тут особенного, – с живостью откликнулся тот. – Важно быстро выяснить обстановочку: Всегда найдутся добрые парни, которые отзовутся. Ну, и самому не надо хлопать ушами. Главное – хватка: расчет и натиск. При возможности – только так. Особенно в нашем шоферском деле. Да и не в нем одном.
Ваня сдержанно фыркнул в кружку, отер губы и рассмеялся в открытую.
– Очередь, что – лабуда! Хотите, расскажу, как со своей женой познакомился?.. Я еще в армии шоферить начал. И перед самым дембелем направили нас на лесозаготовки. В глухой леспромхоз на краю света. Вкалывали… Во все лопатки. Зато жили вольно. В клуб на танцульки, кино посмотреть – пожалуйста, если силы остались… И вот смотрю как-то: новая девчонка появилась. Ладненькая такая, щечки пышут, глаза бойкие – зырк, зырк. Эх! – Ваня прижмурился, крутнул головой. – Я сразу к ней. Трали-вали, туда-сюда. Танцуем. «Не замечал, – говорю, – что-то я вас здесь. Так, думал, и уеду отсюда с нехорошим мнением о местных девчатах: не на ком глаз остановить, полюбоваться от души. Все не то да не то». «Умело смотреть, – отвечает, – надо. И глаза чистые иметь». Смутилась, конечно, но смело держится. А про чистые глаза, как я понял, это потому, что запашок от меня слегка. Причастился малость… В общем, веду я ее на место, договариваюсь провожать домой. «Пожалуйста, – говорит, – если не боитесь других провожальщиков». И косится на двух парней в углу. Обычная пара: один, сразу видно, местный ухарь-сердцеед, а с ним подпевала-прихлебатель с ушлой рожей. Они меня тоже засекли, перешептываются.
Ваня перестал теребить рыбешку, привалился к стенке, полез в карман за папиросами.
– Короче, идем мы с ней. Только за клубом завернули в улицу, впереди – парни эти. Вдвоем. Ладно, думаю, так-то нам не больно страшно. Надо лишь от Светки избавиться – я уж имя ее узнал. «Света, – говорю, – ради бога, как подходить станем, я приостановлюсь, а ты вперед. Только вперед. И не оглядывайся. Жди меня в конце улицы». Она туда-сюда: не оставлю, говорит, и все прочее. Я даже рыкнул на нее. Пожалей, мол, мою молодость. Только мешать будешь, мне же и достанется… Сближаюсь с парнями. Молча. Так задумал: ни слова в ответ – одно молчание. А они, конечно, уже зудят, не столько меня, сколько себя заводят… Первым подпевала начал. Несерьезно как-то, по-дурацки махнул. А я его на всю катушку отоварил. Любил тогда кулаками молотить, да и обучен был кое-чему. Тот у меня сразу – кувырк. Ухажер покрепче оказался. Пришлось поработать. Да я маленький мешал, подскакивал сзади, пока второй раз не схлопотал. Сшиб я все-таки главного. И что тут на меня нашло, сам не знаю: преследования вроде не боялся… Парень почему-то в валенках был, вообще не танцевал, что ли. Пока он в снегу пурхался, я с него валенки – дерг, дерг. И – через заплот в чью-то ограду. Шагов десять не торопясь шагнул и врубил четвертую – догонять Светку… Вот и все. Через два месяца, сразу после дембеля, снова приехал в тот поселок. Уговорил ведь. Увез с собой.
Ваня победно подмигнул Николаю: знай, мол, наших! Озорно повел глазом на Сармите: а как тут воспринято?
Сначала она коротко рассмеялась. И сразу же неуверенная улыбка осталась на ее губах: не присочинил ли рассказчик кое-что для красного словца? Неожиданно спросила, посерьезнев:
– А вы любите свою жену?
– Как ее не любить, – развел руками Ваня. – Она мне вон какого сына родила!
Сармите снова одобрительно улыбнулась, мечтательно посмотрела в заоконное пространство и вдруг отвернулась, начала суетливо рыться в сумочке. Когда она вновь подняла голову, в ее взгляде промелькнула затаенная грусть.
* * *
– Держи ее! Держи! – кричал Ваня на весь бор, а сам топтался на месте, изображая быстрый бег, будто с маленьким ребенком играл. Потом вложил пальцы в рот, свистнул что есть мочи. Но звуку не было простора, он быстро угас во влажном воздухе, увяз среди сосен, облепленных снегом.
Сармите хохотала, укрывшись за толстым стволом, и пушила в них меткими снежками – то в Ваню, то в Николая, смело вызывая на неравный бой.
Погода к середине дня окончательно испортилась. Когда они отправились в поселок, солнце еще едва проглядывало сквозь облачную вуаль. К концу пути оно вовсе спряталось, повалил бесщумный сырой снег. Позже из павильонного окна Русин видел, как несколько раз занималась метель, накатывала волнами-перевалами, словно хотела вновь надолго забелить посеревшую землю, упрятать все черное, наглухо укрыть вытаявший мусор.
Русин не принимал участия в игре: сказывалась усталость. Он лишь слепил несколько снежков, лениво пошвырял их, даже не стараясь попасть точно, угодил вместо Сармите в Ваню и одиноко стоял посредине тропы. Дали на какое-то время посветлели, и в широком прогале меж деревьями прорезалась недалекая река – темная, без отсветов, гладкая, как грифельная доска.
Сармите с Ваней, сговорившись, налетели на него, давай тормошить, отжимать на снежный отвал. Он вяло отпихивался, боясь сильно толкнуть Сармите, но они не отступались. Николай не выдержал, сцепился с Ваней, дурашливо зарычал, пытаясь повалить его. Но на руке повисла хохочущая Сармите, и вдвоем они легко уронили его, припечатали, да еще и на лицо снежком потрусили, приговаривая: «Так тебе!»
– У, черти! – ворчал Николай, выбираясь на тропу. – Всего измяли. Утром только отгладился. И в башмаках полно снегу.
Сармите начала было его отряхивать, но он шагнул от нее, сел на бровку, стал раздергивать тугие узлы на влажных шнурках.
– Идите, идите. Я догоню.
Они посмотрели на него: не обиделся ли? И послушно двинулись вперед, звонко переговариваясь и легонько подпинывая друг друга.
Ветер вновь набрал силу. Налетел, принес снежный заряд, вытряхнул его, с гулом расшвыривая по-над землей, и укатил дальше. Уж не было никакой воздушной тяги, не ощущал ее Русин. А взвихренные тяжелые хлопья долго не опадали, густо метались в воздухе, ища пристанище. Все помутнело вокруг, все стояло в снежной сумяти, в белом тихом кружении. Скрылась река, растворились стволы дальних сосен. Даже фигурки идущих впереди стали размытыми, проглядывали еле-еле. И Николай снова остро ощутил свое одиночество.
После обеда он пошел в бор с лыжами. Пожалел было, что нет нужной мази, и тут же успокоил себя, придумав на ходу: «Самая лучшая мазь – никакой мази».
Возле забора ему встретился парень. Сказал предостерегающе:
– Кое-как добрел назад. Не идут лыжи.
Николай ничего не ответил и посмотрел на солнце. Оно тщетно пыталось пробиться сквозь грязно-серую наволочь, показав лишь один размытый краешек, – робкое, словно виноватое за сегодняшний прогул.
В бору понизу было чисто. Кроны сосен все в проседи от налипшего снега. Лыжню в глубине леса основательно засыпало. Она едва проглядывала чуть заметными впадинами. Лыжи не скользили, приходилось чуть ли не переступать на них. Николай быстро упарился, повернул назад и присел на первый попавшийся пенек.
Стало еще пасмурней. Там, где недавно силилось проклюнуться солнце, расплывшись, просвечивало оранжевое, с кровинкой пятно. От снега тянуло прохладой. Ветер стих. И все-таки по вершинам сосен прокатывался скрытый, едва различимый гул.
Живой бор.
Прощай, лыжный бор!
За окном вновь вершилась снежная перебелка. Хлопья накосо резали воздух, толклись и метались, ткали густую сложную сеть. Отягченные налипью сосны, казалось, окончательно запутались в ее ячеях, смирились и лишь вяло шевелили под ветром иглистыми лапами.
Русин держал в руках непросохший, сочно отблескивающий этюд, и давно не испытываемое удовлетворение, что подступило еще во время работы, не уходило от него, а, наоборот, крепло и ширилось. Пусть маленькое, пусть по незначительному поводу, но все-таки удовлетворение.
Хотя на этюде, как и за окном, много белого, даже серо-белого, во всем чувствовалось, что это не зимний бор. Нет. Это весенний сосновый бор, который и ныне уже был по-настоящему обласкан солнцем. И, несмотря на снег, может, последний, все у него впереди: и благодатное тепло, и животворные грозы, и утренние росные зори в полнеба с птичьим многоголосым хором, славящим новый день.
Русин поставил этюд на тумбочку и теперь только заметил, что в комнате невыносимо душно. Он распахнул форточку и бросился навзничь на кровать, раскинув руки. Разгоряченную ладонь тотчас же окропил мелкий бус. Откуда он? Николай повернулся лицом к окну. В форточку густо залетали снежинки. Они плавно летели над батареей отопления, клонились к полу… И оседали на зеленую ворсистую дорожку алмазно сверкающими капельками.
* * *
На вечер в клубе был объявлен самодеятельный концерт. Русин ничего интересного не ожидал, но делать все равно было нечего, и он поднялся наверх за Сармите, как договорились. Обе тетечки, ее соседки, сидели дома. Они сразу засуетились, спешно стали собираться, с любопытством исподтишка разглядывая его, будто видели впервые. Минутная скованность у Русина прошла, и он непринужденно рассмеялся: сначала над простенькой этой забавной ситуацией, потом – еще сильнее – над недоуменной растерянностью пожилых женщин от его смеха.
– Извините, пожалуйста, – сказал Николай как можно мягче. – Вы зря беспокоитесь. Мы ж сейчас уходим.
– А мы на концерт.
– Мы тоже. Вместе и пойдем, – улыбнулся Николай и понял, что сумел расположить их к себе. «Ну и хорошо. А то подумают черт-те что».
Концерт был как концерт, ничего особенного, пока на сцену не вышел сам директор. Плотный, седовласый, он легко и свободно начал арию Мельника из «Русалки»: «Вот то-то… Все вы, девки молодые…» Зал шевельнулся в едином порыве и враз затих, живо реагируя на все дальнейшее. Пожилой человек—исполнитель и оперный персонаж – внушал девушкам, «как надо молодость лелеять, как надо осторожной быть». «То ласками, то сказками старайтесь угодить, упреками, намеками хоть что-нибудь добыть», – учил он, и все внимали ему. «Да нет, куда – упрямы вы. И где вам слушать стариков! Ведь вы своим умом богаты, а мы уж отжили свой век», – сокрушался он, и с ним соглашались, не пряча простодушных улыбок. «Вам только б целый день на шее висеть у милого дружка», – продолжал сетовать мельник дальше, и легкое оживление прокатывалось по рядам, а мужчины восхищенно подталкивали друг друга: «Так, мол, все так оно и есть на самом деле».
И еще раз был задет за живое маленький зал, когда выступала хрупкая девушка с миловидным лицом, очень знакомым Русину, хотя видеть ее раньше он вряд ли мог. Ей не очень шло блекло-розовое платье до пят. Оно обесцвечивало и облегчало и без того воздушную фигурку. К бледности ее лица, льняным волосам и печальным глазам лучше всего бы, наверное, пришлось что-нибудь насыщенно-голубое, васильковое. Русин шепнул об этом Сармите. Та согласно кивнула, предостерегающе вскинув ладонь, чтоб не мешал слушать.