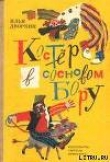Текст книги "Пристань в сосновом бору"
Автор книги: Геннадий Солодников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)

Художник В. Костин
Г. Солодников
ПРИСТАНЬ В СОСНОВОМ БОРУ
1
Лиля не любила неожиданностей.
Когда после дневного спектакля ее пригласили в полуразрушенный храм, она вначале отказалась. Будь с ними Надя, она б еще подумала: идти – не идти. Но Надя освобождалась часа через два. Ленька, старый приятель – это, конечно, его затея, никто из остальных ребят не знал областного центра, – продолжал уговаривать, расписывал прелести тамошнего места. И какой чудный вид на закатную реку, и какие пронзительные дали открываются за излучиной, и как по-деревенски тихо там, почти в центре миллионного города, в глубине его самой древней части. Надю он встретит потом и приведет туда же. И художник Коля будет. Парень-то какой, а! Такими не бросаются… И ребята из театра смотрели на нее осуждающе: дескать, чего цену набивать перед своими-то.
Настроение у Лили было редкостное. Спектакль они отыграли отлично. Не просто гладко, а с подъемом, какого от себя не ожидали. Хорошо прозвучали Олежкины песенки – Севка напел их под гитару с завидной душевностью – уж в который раз, а будто впервые. И новый режиссер молодец. Давно ли начал работать с ними, а уже отличился. Это ему пришла мысль оживить в общем-то заношенную пьеску музыкально-поэтическим обрамлением.
Но больше всего Лиля была довольна собой. Хоть и не в самой главной роли, но она наконец сумела обратить на себя внимание по-настоящему. И притом где – на местной театральной весне!
Может, потому Лиля и не устояла, согласилась.
Откос возле храма действительно оказался чудесным. Все были в ударе: вольно пелось под гитарные переборы, легкое болгарское вино растворяло телесную тяжесть, придавало движениям воздушность.
Потом ребята ушли за Надей, и неожиданно хлынул дождь, подкравшийся из-за храма. Лиля с Николаем бросились под высокие каменные своды и устроились в нише с подветренной стороны.
Лиле не нравились нахрапистые мужчины, холостяки, которым под тридцать и более. Они, может быть, и не воспламенялись так быстро, как юные вздыхатели, но уж если им ударяла в голову кровь, то устоять перед их натиском было нелегко, И остывали они не скоро, и переживали свое поражение очень болезненно и самолюбиво. Николай, видимо, был не из таких: во всяком случае, в глаза бросались его деликатность и даже некоторая робость.
Вот и сейчас, наверняка от растерянности, чтобы как-то заполнить паузу, он стал читать стихи, и Лиля молчаливо одобрила его. Она не вникала в смысл, не старалась вспомнить или отгадать автора – просто слушала. Николай читал хорошо поставленным голосом, распевно – по-авторски. Его чистый голос и ровный шум дождя действовали на Лилю завораживающе и возносили в храмовую высь. Она поудобней уселась на плоской каменной глыбе, заботливо застеленной газетой, и блаженно зажмурилась, вытянув ноги.
Лиля любила себя, свое тело, сознавала эту любовь, не пыталась отстраниться от нее и ничуточки не стыдилась. Она знала, что у нее красивые ноги. Нередко перед большим зеркалом ласкала, оглаживала их снизу вверх, будто раскатывала эластичные чулки, потягивалась сладко и привставала на цыпочки. Лиле нравилось ловить восхищенные взгляды, и потому она сразу же приняла моду на сапоги в обтяжку, всяческие «мини» и очень редко щеголяла в брюках. Когда же о себе властно заявили «макси», она, не смея спорить с модой, и тут ухитрялась так сесть, принять такую позу, что на нее нельзя было не обратить внимания. Нет, не зря она еще в школьные годы увлеченно занималась в драмкружке.
Когда Николай замолчал и затих перед нею неподвижно, она безошибочно угадала, что он сейчас обязательно приблизится к ней. Он и вправду порывисто прильнул, обдал горячим щекотным дыханием. А она вся подобралась, закаменела и властно отстранила его. Потом открыла глаза и с любопытством стала смотреть, стараясь ничем не выдать своего состояния.
Дождь не переставал. Начался он в тишине, а теперь ветер усилился, в стороне раздалось рыкливое громыхание, и далекая молния на миг обесцветила листья на деревьях. Лиле уже было жаль Николая: и зачем она оттолкнула его, ведь сама ждала, до конца еще не признаваясь себе, ждала этого.
Снова полыхнуло уже ближе, где-то за противоположной стеной храма. С треском раскололось небо прямо над ними, над продырявленным куполом. Ветер изменил направление, сильный порыв швырнул дождевые струи в оконный прямоугольник.
Лиля ойкнула, метнулась от окна. И сама не заметила, как очутилась в кольце рук Николая, припала к нему, уткнувшись в широкую грудь.
Потом они целовались: жарко, зажмурившись напрочь, не слыша шума грозы. И Николай шептал прерывисто, на секунды отпуская ее губы и снова требовательно отыскивая их:
– Завтра уезжаешь? Как все нелепо, жестоко! Уедешь и не вспомнишь… Я буду писать… Обязательно буду. Может, приеду. Что-нибудь придумаю…
2
Она сразу обратила на него внимание. Собственно, он еще не приехал, а ее уже заинтересовало: для кого же это готовят комнатку под лестницей? Под той самой лестницей, по которой ей по нескольку раз на дню приходится спускаться и подниматься к себе на второй этаж.
И вот он появился. С большим чемоданом, будто собирается прожить здесь не обычные двенадцать дней, а несколько месяцев. Кто он, откуда? Ее занимало это гадание, наблюдение за ним. Среднего роста. Демисезонное пальто из легкого драпа в скрытую клетку. Светло-коричневые башмаки на толстой подошве. На голове – ворсистый берет с козырьком, из-под него чуть выбиваются русые волосы. А брови намного темнее, широкие. «Тот, который в берете», назвала она его мысленно.
Только-только устроившись, он уже шел из библиотеки: в одной руке – лыжи, в другой – несколько книг. И больше она не видела его до самого ужина. Да и после он сразу же скрылся в комнате.
Ей, как и все предыдущие дни, было тоскливо и одиноко. В который уж раз она пожалела себя, свою молодость, никому не нужную и не вечную. Еще недели не прожив в этом доме отдыха, она уже вовсю ругала себя. Стоило ли так скоропалительно срываться из дому, оставив на столе скупую записку Сергею. Сколько вынесла хлопот с путевкой! Как упрашивала сменщицу, тоже аппаратчицу технологической установки, чтоб она поменялась с ней временем отпуска – с ранней весны на осень. А здесь оказалась еще большая скука, чем в последнее время дома. Народ пожилой, степенный. Несколько девиц, совсем молоденьких, с нагло подведенными глазами. Парни, которых тоже не густо, только и знали гонять бильярдные шары, потихоньку перебрасываться в карты да смотреть телевизор.
Сначала она думала, что Сергей примчится к ней в субботу или воскресенье, хотя бы на один вечер. Сперва была просто готова к его приезду, а потом, неожиданно для себя, стала желать встречи. Но он не показался, не подал весточки, и неприязнь к нему, разросшаяся за последние месяцы и на какое-то время чуть угасшая, заклокотала в ней пуще прежнего. Она уж хотела оставить дом отдыха раньше срока, но в конце концов заставила себя жить до последнего дня, постепенно привыкая к своим страданиям и даже находя в них порой некоторую сладость.
Перед самым сном «Тот, который в берете» вышел на крыльцо жилого корпуса. Она возвращалась с прогулки – по дорожке до ворот и обратно – и нарочно замедлила шаг, увидев его. Заговорит – не заговорит? Ведь они совсем одни, а он еще ни с кем не знаком, и это будет выглядеть так естественно. Она готовилась к разговору и все-таки вздрогнула, услышав его голос:
– Вы не боитесь гулять одна?
«Какой стандарт! Не мог придумать что-нибудь получше», – подумала она, а вслух ответила:
– Нет, почему-то не боюсь.
– И давно вы здесь?
– Скоро уезжать.
– Да-а, а я вот только начинаю. – В его голосе почудилось сожаление.
– Неудачное время выбрали. Таять начнет – никуда не выйти.
– Ничего. Снегу нынче! В лесу растает не скоро.
– Надейтесь, надейтесь.
– Вы…
– Меня зовут Сармите, – прервав его, назвалась она и смутилась своей невольной навязчивости. – Имя такое, что его трудно правильно выговорить с непривычки.
– Отчего же. Пожалуйста…
Она очень удивилась, услышав это его: «Саармитэ». Так легко прозвучало сдвоенное, протяжное и в то же время нечеткое «а» в это затушеванное «э», а не «е» на конце слова, будто он долго тренировался, прежде чем заговорить с ней.
– А меня очень просто – Николай. Вы, конечно, латышка?
– Да, я родом из Латвии. А как вы догадались?
– Ну, это не так трудно, – довольно рассмеялся он. – Расскажу в другой раз. А теперь, пожалуй; спать пора. Не правда ли, Сарми? Можно вас так называть сокращенно? – И, не дожидаясь ответа, распахнул перед нею дверь. – Прошу!
3
В ночь, после дневной оттепели, крепко подморозило, и сосны стояли сплошь расцвеченные белым, словно распустились диковинные махровые цветы. Всю зелень, все до единой длинные иголки густо опушило кристаллами изморози.
Николаю Русину невольно вспомнились прочитанные вчера строчки из томика Верхарна, распахнутая книга и сейчас еще лежала вверх корешком на тумбочке рядом с изголовьем: «Вот иглы инея, прильнувшие к ветвям зеленых лиственниц косматой бахромой. Огромное безмолвие снегов».
Русин стоял на заснеженном берегу, зачарованный тишиной раннего мартовского утра и торжественной белизной соснового бора. После резвой пробежки от жилого корпуса до берегового яра гулко колотилось сердце, было жарко даже в легком спортивном костюме. Сейчас бы в самый раз сделать привычную разминку до того состояния, когда тело становится почти невесомым, но Николаю почему-то расхотелось. Здесь, на закрайке бора, возле заливчика, затянутого шатким ледком, воздух был так неподвижен, что казалось: любое движение, любой звук могут нарушить его зыбкое равновесие. И действительно, когда на верхушке одной из сосен шумно завозилась и вскрикнула галка, снежная пыль, посверкивая, медленно поплыла вертикально вниз, увлекая за собой все новые и новые мельчайшие блестки. Они долго роились в недвижном воздухе, и дерево стояло все пронизанное белой холодной пудрой.
Понизу стлался туман. Вблизи, вокруг себя, Русин его не замечал, но стоящие поодаль невысокие строения и глухой дощатый забор еле-еле проглядывали сквозь мутную пелену. Туман наползал с воды. Постепенно его относило все дальше и дальше, и над верхушками сосен вдали кое-где уже робко проглядывало голубое.
Несколько предыдущих дней Русин прожил в ожидании чего-то радостного, готовый окунуться в самим собой придуманную сказку, исподволь настраивался на нее, и потому сегодняшнее утро показалось ему предвестником желанных свершений. Он вдруг заторопился назад, чтобы переодеться, взять лыжи и опять отправиться в заснеженный бор, пока его сторожкую тишину не спугнули голоса отдыхающих. Ему казалось, что чуть промешкай он, задержись – и пропустит тогда что-то очень важное для себя, невозвратное.
Он шел широким раскатом, почти не глядя под ноги: старался не упустить ничего из потаенной жизни безлюдного бора. С близких сосен плавно струился неразличимый издали легкий иней. Тонкоперистые, почти прозрачные хлопья летели так медленно, что казалось: они могут совсем зависнуть и неподвижно парить в воздухе долгое время. По мере того как над бором поднималось пока не видимое глазу солнце, воздушные токи усиливались, становились порывистыми, их дыхание стало улавливаться уже внизу, у древесных стволов. Чуть ощутимый порыв – и то там, то тут между деревьями распускаются шлейфы дыма, плотного и струистого, словно кто-то распалил вдали большие костры. За краем бора над водой разгулялся настоящий ветер. Он срывал остатки тумана, мял, трепал их, наносил на лес, смешивал со снежным дымом – и впереди все было в этой искрящейся под солнцем белой мути.
Одиночество и тишина, первозданный блеск утра настолько захватили Николая, что он не слышал шороха снега под лыжами, не ощущал ни своих усилий, ни сердцебиения. Будто он чуть-чуть оторвался от заледенелой земли, парит беззвучно над нею и воздушная тяга плавно несет его в нужном направлении, странным образом повинуясь невысказанной воле. Хорошо было Русину, вольготно. Нет, он не испытывал звонкой радости, не ощущал наплыва сиюминутного счастья, когда хочется не то петь, не то гукнуть от избытка чувств на весь лес. Если и была радость, то с острым, щемящим оттенком грусти. Привычное, с юности знакомое ему состояние. Состояние неудовлетворенности и тоски оттого, что нет рядом близкого человека, так же остро воспринимающего все вокруг. Нет, он не забывал Лилю ни вчерашним вечером, ни среди ночи, когда проснулся и долго лежал с открытыми глазами, глядя в тусклую полоску окна между шторами. И все-таки только сейчас, ощутив неизбывную потребность в близком спутнике, он подумал о ней конкретно, впрямую. Подумал и пожалел, что до сих пор не позвонил ей, не сообщил о своем приезде, не договорился о встрече. Но пожалел не надолго, на какой-то миг, успокаивая и уверяя себя, что лучше появиться перед ней внезапно, ошарашить, обрадовать – почему-то он был уверен, именно обрадовать, и не допускал ничего другого. И потом, ему ведь было мало просто встречи с нею. Ему хотелось сделать все так, как мечталось еще там, у себя дома, когда Ленька предложил «горящую» путевку.
Ах, эти мечтания, властно заполнившие последние несколько дней! Русин невольно остановился, замер и – услышал упругое торканье крови, в висках, шорох снежного буса, сочащегося меж сосновых игл, и незлобивый собачий лай из-за плотного островерхого забора.
Забор этот, местами облезлый, некогда крашенный зеленым, выкраивал в бору территорию пионерлагеря. Жилые корпуса с застекленными верандами, столовая и клуб – все было засугроблено по самые окна, на кромках крыш причудливо бугрилась снежная навись. Лишь вокруг административного домика, разделенного на две половины, тянулись аккуратно расчищенные дорожки, а над трубой вился ласковый дымок, словно приглашал заглянуть в домашний уют такого желанного среди стылого леса жилья.
Русин еще не заходил в этот домик, но почему-то был уверен, что обязательно побывает в нем, и не просто побывает, а проведет парочку счастливых дней, настолько счастливых, что они запомнятся надолго, может быть, до самого конца жизни. Он уже разузнал про его обитателей. Сторож-старик с женой слыли людьми общительными и, судя по всему, не отказались бы от веселого застолья в доброй компании. Русин настолько все продумал, так ясно представлял себе желанную встречу, что порой забывался и на какое-то время принимал мечты за реальность. Он видел своих друзей, слышал их оживленные голоса, удивленные восклицания при входе в хорошо протопленные комнаты, при виде стола с разнокалиберной посудой. А над всем этим – тягучий запах наваристой ухи, стоящей на плите в чуть приоткрытом эмалированном ведре… Здесь были и Лиля, и Надя, и Олег, и Севка с гитарой – как же без гитары, без нее просто немыслимо! И конечно же Ленька. Он только собирался устроить себе командировку в город химиков, а Николай уже ждал его. Более того – отводил ему место главного распорядителя за столом и вообще представлял по обыкновению душой всей компании.
Опыт у Леньки был, да еще какой! Кто, как не он, организовал ту незабвенную по своей неожиданности встречу Нового года? Может, именно ее отзвуки и возбуждали в Русине желание по-своему повторить все…
Тогда они заранее заручились письменным разрешением и уже в середине последнего декабрьского дня укатили на спортивную базу. Она тоже стояла в заснеженном лесу, в стороне от железной дороги, неподалеку от реки. На удивление легко и быстро столковались они со сторожем – натосковался, видно, мужик в одиночестве, – помогли наготовить дров, истопили печи в двух больших комнатах. Все это не торопясь, вперемежку с угощением. Потом по подсказке сторожа сходили в недалекую деревню к рыбакам, хорошо посидели с не шибко разговорчивым бригадиром и принесли на базу мерзлых судаков для ухи.
Сторож к вечеру совсем оттаял, стал свойским человеком, и когда им уже надо было собираться к электричке, чтобы встретить остальных редакционных сотрудников и сотрудниц с магнитофоном и баяном, с тяжелыми сумками, мужичок вдруг до того расчувствовался, что запряг в сани мохнатую казенную лошадь. Сколько неподдельной радости было у приехавших, особенно у женщин, когда они увидели заиндевелую лошадку и стали грузиться в широкие скрипучие розвальни! До Нового года оставалось еще целых четыре часа, но уже с первых этих минут всех захватило праздничное настроение. Оно не покидало их ни в остатки вечера, ни ночью – у небольшого костерка возле живой елки, – ни после недолгого сна в первый день только что родившегося года.
Холод проник под куртку, стал расплываться по разгоряченной спине, потек студеной струей меж лопатками. Русин повис на палках, сделал на месте с десяток быстрых шагов, чтоб раскатать лыжи, и побежал по следу, круто свернувшему в сторону реки. Встречь ему налетел порыв ветра, ожег лицо. Высокие сосны захрустели застоявшимися суставами, запокряхтывали. А в густом пушистом подросте посыпало, так посыпало сухой изморозью, что обросало всего с головы до ног, и он вышел к берегу на яркий свет, словно запорошенный новогодними елочными блестками. Солнце уже пробилось сквозь морозно-туманную наволочь и всплыло над лесом. Бронзовели на опушке стволы сосен, четкие синие тени от них рассыпались веером по просторно голубеющему снегу. Над незамерзшей посередке темной водой завивались тонкими жгутиками струйки пара.
Высвеченная солнцем лыжня казалась густо устланной мелкими перьями птиц, их белым легчайшим пухом. Боязно было ступать по ней, мнилось, что лыжи не пойдут, споткнутся, облепленные этим пухом. А они, вопреки опасениям, стремительно скользили, почти бесшумно несли его все дальше и дальше, вперед, и от этого бега у Русина перехватывало дыхание.
Воздушные волны накатывали на бор плавно, размеренно одна за другой, – но случались усиленные всплески, своеобразные девятые валы, и тогда по лесу прокатывался тягучий вздох и вновь все окутывалось белым и дымилось. Когда Русин нырнул с открытого прибрежного пространства в частый молоденький сосняк, на него вдруг снова посыпалось – на грудь, на спину, на плечи полился прохладный поток. Чуть замедлив бег, он запрокинул голову, прижмурился и подставил лицо под этот ласковый снежный дождь.
Он почти ничего не различал, лыжи сами несли его по глубоко продавленным ровным следам, но только сейчас Русин с поразительной отчетливостью увидел все со стороны. И эти насыщенные тени на снегу, чешуйчатые серо-оранжевые стволы, белые прозрачные шлейфы меж ними, и конечно же себя – в синих брюках, оранжевой куртке и красной вязаной шапочке. И еще он поймал себя на том, что пытается запомнить сегодняшнее утро, запечатлеть его во всей изменчивости, в цвете. И не просто смотрит на окружающее, а, как бы примеряясь тайком, невольно видит его уже перенесенным красками на картон или холст. От понимания этого стало и радостно, и грустно одновременно: значит, жива еще в нем неудовлетворенная жажда творить, выразить наболевшее хотя бы в этюдах. Но в том-то и беда, что надо было прежде всего преодолеть сковывающее сопротивление и суметь выразить…
Время завтрака прошло, и Русин безнадежно запаздывал, но, взбежав на высокое крыльцо столовой, он все-таки остановился и посмотрел на уходящий вдаль бор. С верхушек сосны уже начисто обдуло, обнажилась тусклая зелень, но понизу в общей массе они еще сплошь белели и осыпались наземь холодными искрами.
* * *
Солнце уверенно поднималось и почти в полном безветрии плавило на открытых местах осевшие снега. Внутри двора на потемневшей дороге играли радужными бликами оконца талой воды. Редкая капель с крыш набрала силу, и теперь текло обильно, прерывистыми струями.
Русин набросил на плечо ремень этюдника и пошел через раскисший двор, неся лыжи в руках. За проломом в заборе – самым близким выходом в лес – он увидел Сармите. Она стояла прислонившись к дереву, смотрела на разноцветные дымы чуть открывающегося за поворотом реки города, и во всей ее расслабленной и чуть поникшей фигуре чувствовались не то грусть, не то безответное ожидание.
Заслышав шаги, Сармите обернулась, глянула отрешенно, но тут же согнала с лица задумчивость, улыбнулась.
– Куда это вы с лыжами? Тает кругом.
– Ультриков ловить, – засмеялся Русин, вспомнив забытое выражение из далекого детства.
– Чего, чего?
– Загорать. Принимать ультрафиолетовые лучи. Сейчас самое время.
– Хо-олодно! – передернула она плечиками.
– Х-ха, у меня заветное местечко есть. Африка! Нет – Рио-де-Жанейро… Хотите со мной? Покажу, – вырвалось у него, хотя всего минуту назад он видел себя сидящим в тишине и полном одиночестве.
– Хочу! – откликнулась Сармите. Глаза ее заинтересованно сверкнули и тут же угасли. – Только вот лыж нет, а в лесу снег еще глубокий.
– Ну, это не проблема. Сейчас организуем. Мой сосед Ваня вроде никуда не собирается, возьмем у него. Размер ботинок, может, великоват – тоже не беда, нам ведь не нормы ГТО сдавать, лишь бы добраться до моего «замка». – Русин все больше загорался, говорил без умолку, а сам уже торопливо шел по двору, шел не оборачиваясь, чувствуя, что Сармите покорно следует за ним…
Замком он называл два начатых и оставленных вскоре санаторных корпуса в глубине бора. Кирпичные стены были выложены до уровня второго этажа, вернее, кончались верхними срезами оконных проемов первого. Где-то чуть повыше, где-то пониже, и заброшенные строения своими неровными зубцами-выступами, уже начавшими местами осыпаться, действительно напоминали разрушенный замок. За долгую зиму между стен надуло высоченные сугробы, в их прогибах торчали кое-где макушки молоденьких сосенок в две-три мутовки. Главная лыжня проходила в стороне, сюда мало кто заглядывал, и, попав в первый же раз под прикрытие зубчатых стен, Русин долго наслаждался нетронутым покоем, пока не начали мерзнуть ноги. Он решил как-нибудь прийти сюда с этюдником и вот только сегодня, когда все кругом сверкало и плавилось, собрался наконец.
В гуще бора по-прежнему сохранялась утренняя прохлада, хрустко пела под ногами лыжня, и такие же синие тени внахлест полосовали редкие прогалины. Только на больших полянах снег заметно набух влагой, потерял свою искристую голубизну и кое-где неприкрыто посерел.
Минутная вспышка братского расположения к Сармите у Русина поостыла, и он уже ругал себя за то, что так неосмотрительно сманил ее с собой. Ведь он разговаривает с ней всего-навсего второй раз, и кто знает, как она поведет себя. Не дай бог начнет восхищаться вслух, охать и ахать над «красотами природы», а то еще полезет с дурацкими расспросами… Но поскольку для такого наплыва мелочной неприязни все-таки не было ни основания, ни повода, Николай тушил ее, не давал разыграться. Он сдержал желание перейти на размашистый бег, стал часто оглядываться назад, на Сармите, ободряюще покрикивал, стараясь придать лицу участливое выражение.
Они сидели внутри «замка» на железобетонных балках, на самом солнцепеке. Русин скинул куртку, тонкий свитер, высоко закатал рукава рубашки, расстегнув ее на груди. Глядя на него, Сармите тоже положила под себя шерстяной жакет, рядом – шапочку крупной вязки. Неуловимым движением что-то выдернула из пучка волос, собранных на затылке, тряхнула головой, и волосы рассыпались до самых плеч светлыми волнистыми струями.
Он был благодарен ей за эту несуетность и молчаливость и, когда раскрыл этюдник, взялся не за тюбики и кисти, а раскрыл шероховатый блокнот для работы карандашом.
Набрасывая профиль Сармите, Русин старался подолгу не останавливать на ней взгляд, чтоб не спугнуть ее, не выводить из задумчивости, – посматривал бегло, украдкой. Но она все-таки почувствовала внимание к себе, в уголках ее губ что-то дрогнуло, пальцы шевельнулись, одернули понизу кромку кофточки, и Русин отвернулся, сосредоточенно уставившись перед собой. Теперь он сам ощущал на себе несмелые взгляды девушки, теперь уж она заинтересованно и робко изучала его. Русин забеспокоился, ему стало неловко, желание понравиться девушке непроизвольно шевельнулось в нем.
В выгородке среди стен, в густом окружении сосен было так тихо, что Русин понял, отложив блокнот: не только его взгляды, но и шорох карандаша заставил Сармите насторожиться, скосить на него глаза. Он решил, что глупо сидеть истуканом, согнулся над этюдником, застучал тюбиками, пристроил в зажимы на внутренней стороне крышки небольшой лист картона. Он оглядывал пространство вокруг и слышал, как шепотно шушукается, оседая, размягченный снег. А потом уже громче, отчетливее: «Жу-ух! Жу-ух!» Это сползали и падали подтаявшие кромки пышных шапок-наметов, украсивших перекрытия наддверными проемами и гребни на выступах стен. «Ка-а-ар! Ка-а-ар!» – низко пролетела ворона, и крик ее, казалось, не растворился в воздухе, не рассеялся, а плотным сгустком уплыл вслед за нею. И даже медленный мах ее крыл ощутимо хлестанул по ушам: «Свись! Свись!»
Небо вкруг солнца чуть приметно сверкало, льдисто-голубое и глубокое. А напротив, над верхушками леса, небосклон широко растекся, густо-синий и плотный. Соки в соснах, видно, пошли по-весеннему ходко, в пазухах коры, возле молоденьких веточек, желто заиграли янтарные слезки. Терпко пахло хвоей и смолой, наносило талым снегом, от нагретых бетонных глыб отдавало золой, словно из остывающей печи с распахнутым просторным челом. В противоположном конце здания с верхних балок, с оконных карнизов срывались капли: «Тильк! Тильк! Тильк!» Мгновенно вспыхивали в солнечных лучах и исчезали – сверк, сверк…
Русин бросал на картон осторожный мазки, быстрые – в одно касание с оттяжкой, и горькая неудовлетворенность стремительно поднималась в нем, как пена на закипающем молоке. Привычное, опостылевшее уже бессилие, не раз доводившее его до исступления, до нервной дрожи в руках, снова давало о себе знать. Бессилие, родившееся из тоски по невозможному, несбыточному. Может, и вправду он поставил перед собой невыполнимую задачу, сам обрек себя на бессилие и нестерпимую муку от него? Передать полет капли… Точнее, изобразить сочащуюся сосульку в тот самый миг, когда она настолько набухла, так затяжелела влагой, что вот-вот разродится очередной каплей. И ощущение этой тишины со сгустившимся плотным звуком…
Проклятая неудовлетворенность!
Это она частенько вынуждала Николая Русина отшвыривать кисти и подолгу не брать в руки палитру. И даже когда он писал много и продолжительно, постоянные сомнения отравляли его жизнь, мешали завершить интересно задуманную и начатую работу.
В художественном училище он был одним из лучших учеников, но его самого это нисколько не трогало – ну, может быть, только чуть-чуть, в самом начале… Он слишком быстро все схватывал, перенимал – умел выполнять учебные работы чисто и правильно, «по науке». И эта правильность выпирала, била в глаза – видно было, как сделано. Он чувствовал, что ему не хватает раскованности, полета фантазии. Видел он остро, горячо отзывался на все, переживал в душе, но с предельной полнотой выразить свои чувства ему по-настоящему не удавалось.
Возможно, в основном из-за этого, вызвав недоумение у сокурсников, он отошел от чисто творческой работы, от живописи и устроился в оформительскую мастерскую. Правда, не сразу. Пришлось поработать в художественном фонде… Очень недолго. Он ушел оттуда, выполнив первое и единственное задание – сделал двадцать копий одного портрета, окончательно обалдел и разочаровался.
Ребята, творчески слабее его, во всяком случае с меньшим умением, продолжали колготиться в среде признанных художников, беззастенчиво волокли свои несовершенные работы на коллективные выставки, на всех мероприятиях в Доме художника постоянно крутились на глазах, на виду – спали и видели себя членами творческого Союза. Сначала он раздражался, воевал с ними, потом понял всю нелепость своей позиции – сам-то он кто? – и стал тихо над ними посмеиваться. Ему претила эта суетность шустрых молодых гениев, больше надеющихся на нужные знакомства, свои сильные локти и плечи, нежели на способности.
Нет, он не бросил серьезную работу. Стремясь побольше узнать, за многое брался: выполнял рисунки для газеты, сделал обложки нескольких книжек в издательстве, помогал товарищу оформлять спектакли в театре юного зрителя. И постоянно писал дома. Трудно, со срывами, с отчаянием, но писал. Он мучительно искал себя, помогал себе вызреть. Впадал в уныние, внутренне буйствовал, потом отходил понемногу и снова верил: придет время, не пропадут зря его нынешние, вроде бы никчемные труды; прорвется в нем сковывающая плотина, и он познает наконец чувство вдохновенного полета.
* * *
Если б у Русина позднее спросить, о чем они говорили с Сармите средь недостроенных стен, он бы не смог ответить. Такой уж беспредметный был разговор, необязательный – можно сказать, ни о чем. Но то, что она сидела и после шла рядом и не мешала ему думать, была как бы бессловесным собеседником, странным образом сблизило его с ней. И оттого, что он сумел по-своему выговориться перед собой, еще раз постарался понять в общем-то уже понятное, ему стало легче, не так одиноко, и он пришел из бора с прежним, утренним настроением.
Правда, когда остался наедине – а он умел уходить в себя, даже если сосед Ваня был в комнате, шелестел листами книги, бормотал что-то под нос или задавал вопросы, – вдруг подумал, что глуповато вел себя с Сармите. Во всяком случае, выглядел не то каким-то недоумком, не то человеком, который шибко много о себе понимает, играет в загадочную личность. Нет чтобы быть попроще: проявить элементарное внимание, выказать хоть чуточку мужской заинтересованности. А вместо этого – немое: ах, посмотрите, какой он непостигаемый и, может, несчастный!
А тут еще Ваня, сам не подозревая о том, мимоходом царапнул по больному.
С Ваней они познакомились по дороге в дом отдыха. Вместе переходили по обветшалому льду через реку в верхней части города, вместе устраивались и на отдых. Русину сказали, что для него приготовлена отдельная комнатка… «Но, понимаете, заведение наше старое, тесное… А тут, понимаете, заезд получился чуть выше нормы. Не могли бы вы позволить подселить к вам еще кого-нибудь? Одного. Всего одного»… Русин тут же с искренней радостью согласился, выдвинул вперед своего попутчика: дескать, вот он. Пожалуйста! С великим удовольствием! А потом даже чуточку возмутился тем, что кто-то за него хлопотал: он ведь никого не просил и потому на отдельное жилье не рассчитывал и не претендует. А сам в душе, тоже искренне, радовался: вон как ладненько все получилось, и его принимают наособицу. Молодец, Ленька! Это он загодя позвонил директору дома отдыха, представился честь по чести своим хорошо поставленным голосом, назвал внушительную фирму – редакцию областной молодежной газеты, уважительно и настоятельно, с бархатистыми переливчиками в интонации, попросил создать для приезжающего художника условия не только для отдыха, точнее, не столько для отдыха, сколько для работы… И вот теперь все складывается тип-топ, как любил говорить тот же Ленька.