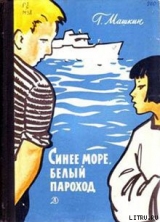
Текст книги "Синее море, белый пароход"
Автор книги: Геннадий Машкин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
3
Большой чайник пришлось нести Юрику, так как наши руки были заняты чемоданами, бельевой корзиной и узлами с табаком. Крышка на шпагатике громыхала, как тарелки в духовом оркестре. Из всех дворов лаяли собаки. Соседи глядели на нас из-под руки. Их, видно, слепил чайник, отражавший солнце, словно зеленое зеркало. Мама хотела и в чайник засыпать табак. Но Юрик тогда бы не донес его.
Отец нагрузился так, что еле передвигался. Куча узлов на блестящих сапогах «джимми». Отцу пришлось забрать весь табак, какой был у нас, иначе мама ни в какую не хотела ехать. Она плакала и приговаривала, что отец нас по миру пустить хочет. Она никак не желала понять, что табак нам теперь не нужен. Раньше он как бы заменял нам отца. А теперь отец сам будет нас кормить, обувать, одевать. Не нужно выменивать за табак шинели и шить нам из них штаны, рубахи, телогрейки… Но мама не понимала этого. И отцу, в конце концов, пришлось нагрузиться.

Нас провожали дружки отца и соседка Василиса. Борька, Скулопендра и Лесик тоже гнулись под чемоданами. Мне оттягивали руки узлы с табаком, а карманы штанов и шинели – самопал, патрон от крупнокалиберного пулемета, рогатка, две самострельные ракеты и леска с бронзовым крючком. Леску подарил мне Борька. Через плечо у меня была перекинута школьная матерчатая сумка, набитая учебниками для шестого класса, альбомом и русско-японским разговорником, которым меня наградила руководительница кружка за усердие. Она, старенькая наша Марья Павловна, думала, что я изучаю японский язык ради будущей дружбы с японцами. Она любила поговорить о том времени, когда кончится война. Она зажмуривалась и рассказывала, как мы будем ездить в гости к ним, а они к нам. Совсем запросто, словно соседка Василиса к моей матери на чай. И читала нараспев Марья Павловна короткие японские стихи – танки.
Ах, не топчи, постой!
Здесь светляки сияли
Вчера ночной порой…
У меня от них сладко свербило в носу. Но провести меня было не так-то просто. Я помнил про танки, которые нацелены в нас с той стороны границы.
– Как приедешь, сразу пиши, – напоминал Борька всю дорогу до вокзала.
– Ты с японцами не рассусоливай, – советовал Скулопендра, вытирая пот со лба рукавом телогрейки. – Чуть чего – бей! Нас не дожидайся.
– Я б-бы их… – сказал Лесик и чуть не уронил бабушкин сундук в грязь.
На вокзале я хотел устроить последнее совещание нашего штаба. Но старая труба из духового оркестра расстроила все мои планы.
Бронзовой улиткой прильнула она к железной ограде вокзала. Ее золотистый, с легкими вмятинами бок отражал солнце сильнее, чем наш чайник. Люди проходили мимо, но никому до трубы не было дела. Наверное, поломалась труба во время марша, и военные выбросили ее.
Мы окружили трубу. Борька оглянулся, поднял ее и надел на себя. Никто не окликал нас. Значит, труба была ничейная. Борька подул в мундштук, давя на клапаны. Труба не играла. Ребята побросали чемоданы и стали по очереди надувать щеки. Но труба только сипела.
– Починим, – сказал Борька, и они пошли назад. Они торопились, чтобы кто-нибудь не отобрал трубу.
– Ребята! – крикнул я.
Они повернули головы.
– Вот что, Гера, – Борька перебрал клапаны трубы, – если там подвернется флейта какая-нибудь, пришли. Создадим оркестрик…
– Знаешь, Борька, – ответил я, сдвигая брови, как отец, – я еду не флейты собирать!
Они посмотрели себе под ноги, потом по сторонам, помахали мне торопливо и зашагали дальше. Труба колыхалась на прямой Борькиной спине, обтянутой перелицованной шинелью. У нас с Борькой одинаковые шинельки.
Я заплел руку в решетку перронной ограды и так замер. Неужели не видеть мне больше оврага, где в зарослях паслена скрывался вход в пещеру?..
– Чего рот раскрыл? – Мама схватила меня за плечо и подтолкнула к воротам на перрон.
Вокзальный репродуктор с треском пел «Под звездами Балканскими».
Я протиснулся в вагон. Отец бегал взад-вперед, таская узлы. Его кудри из-под лакированного козырька военной фуражки обмокли и прилипли ко лбу.
Поезд двинулся, и песня стала стихать. Я высунулся из окна, стараясь увидеть ребят. Но ветер ударил в затылок, и мама закрыла окно от сквозняка.
Я сел на скамейку в угол и нахохлился. Да и вся семья загрустила. У мамы слезы лились, точно масло из дырявой масленки. Бабушка перекрестилась, когда мы проехали последний дом на краю Хабаровска.
– Ох, и зачем ты пожег иконы, Василь! – сказала она. – Ляксей мой и тот иконы не трогал.
Отец облизывал языком цигарку и сплевывал табачины. Он лишь поморщился от бабушкиных слов.
Один Юрик суетился и смеялся. Он сел на столик и прилип носом к стеклу. Мимо проносились бурые луга с гусями, красные дома, голые перелески, а дальше проплывали под солнцем широкоплечие сопки, пятнистые от снега. Поезд догнал тележку, которую волокла корова. Буренку подстегивала длинным прутом девочка в рваной телогрейке. Девочка пыталась угнаться за поездом. Но буренка только отмахивалась хвостом от прута. Тогда девочка показала нам розовый острый язык.
Юрик запрокинул голову от смеха. Но смех перешел в кашель. У брата посинел висок, и лицо сморщилось, как у старичка.
Мама и бабушка захлопотали вокруг него. Они уложили Юрика в большую нашу корзину на бельё. Отец сбегал к бачку, набрал в грелку горячей воды и положил Юрику в ноги.
Брат перестал кашлять. Он лежал, точно кукла. Глаза его поблескивали каплями ртути. Я не мог смотреть в его глаза. Мне сразу вспоминалась тетя Вера, мамина сестра. Она умерла от туберкулеза три года назад. Вот так же лежала в спальне, и румянец, как от пощечины, проступал на ее скулах. Когда она была еще на ногах, к ней приходили свататься лейтенанты. Но Вера отказывала всем. Когда лейтенанты уходили, Вера плакала. Мама и бабушка плакали вместе с ней. В такие минуты Вера брала свой альбом в красном бархатном переплете и перебирала фотографии этих лейтенантов. Я часто щупал бумагу в ее альбоме. Она была толстая и белая. Вот на чем рисовать!..
Когда Вера слегла, она позвала меня. «Гера, – сказала она, – когда я умру, возьми мой альбом. Рисуй».
Помню, как подло я обрадовался. Еще бы – такая бумага! В школе мы писали кто на чем. Вера сделала мне тетрадки из серых и желтых бухгалтерских бланков. Там были напечатаны красивые и непонятные слова: «дебет» и «кредит». Рисовал я тоже на «дебете» и «кредите». Борька, Скулопендра и Лесик любили рассматривать мои воздушные, морские, наземные бои. Они говорили: «Здорово!» А как бы я нарисовал на хорошей бумаге! И вот Вера дарила мне свой альбом… С того времени я стал прислушиваться к ее кашлю. И вот однажды… Прибежал с улицы, а Вера застыла в своей постели… Бабушка шила тапочки из черной материи. Я подумал, зачем такие непрочные тапочки? И тут до меня дошло, что бабушка шьет их Вере. А Вере в них не ходить… Кожу свело на челюстях. Я выбежал во двор и по пустому огороду спустился в овраг. Там свалился в бурьян, пытался прокусить себе руку, чтобы кровь вся вытекла и я умер. Но зубы не слушались меня. Даже больно они не желали делать… Я хотел умереть из-за того, что подло дожидался альбома. Но расстаться с жизнью оказалось не так-то просто.
К альбому я не прикасался долго. Рисовал по-прежнему на «дебете» и «кредите». По рисованию у меня пятерки.
Но вот осенью у Юрика случился приступ, как сейчас. Мы дежурили возле его постельки. Бабушка рассказывала Юрику сказки, а я ходил, как Чарли Чаплин, и пускал зеркальцем зайчиков.
В конце концов брату надоели мои выкрутасы. Он попросил меня нарисовать картинку. Я предложил ему бой матросов с японцами. Но Юрик в ответ замотал головой: «Не хочу бой. Нарисуй мне красивую картинку».
Тогда я взял альбом и спустился в овраг подумать, что бы такое нарисовать брату… Я засел в кустах паслена, недалеко от пещеры. Не люблю, когда мешают рисовать. А тут надо еще и подумать… Над оврагом голубела небесная река. По ней плыли серые дымы. Из-под земли донеслись голоса ребят:
Синее море,
Белый пароход,
Сядем – уедем
На Дальний Восток…
Я перебирал карандаши: синий, красный, простой и огрызочек зеленого. Ах, какие цветные японские мелки видел я на базаре, когда ходил с мамой менять губную гармошку на галеты! Но просил за них дядька столько денег, что нам и не снилось.
Я вздохнул и взял синий карандаш. Набросал запрокинутые под ветром гребни волн. Дал им оттенки синего. Вот острый нос врезался в волны, округлая корма, труба с дымком и две мачты… Зеленым карандашом подрисовал вдали островок с треугольными распадками. На небе оставил белые пышные тучи. И еще взмахами простого карандаша разбросал чаек в разных наклонах… Все – из ума, ничего – с натуры.
Я позвал ребят и показал им картину. «Вот здорово!» – сказали они.
И Юрику понравилось. Он стал расспрашивать меня о белом пароходе.
Я наплел ему, что этот пароход заплывает и в Японское море. На нем живут загорелые ребятишки. Пароход такой огромный, что на нем цветут сады и плещутся озера с золотыми рыбками. Ребятишки бегают в садах, плавают в озерах и едят галеты с компотом.
«Гера, я хочу на этот пароход», – сказал Юрик и вцепился в мою руку.
«Выздоравливай, – ответил я и подмигнул ему, – тогда дело будет в шляпе».
Через несколько дней брат встал на ноги. Но вот опять…
Со страшным грохотом заслонил свет в окне встречный поезд. Я вздрогнул.
– Гера, дай мне поиграть патрон, – сказал Юрик и протянул руку к оттопыренному карману моих штанов.
Я порылся в кармане и достал патрон от крупнокалиберного пулемета. Юрик схватил его и начал колотить шляпкой об острый железный край столика. Я сделал ему знак, чтобы он играл осторожнее. Но Юрик метил капсюлем об острый угол. Тогда я отнял у него патрон. Юрик поднял крик.
– Отойди от ребенка, олух окаянный! – сказала мама.
Подошел отец, увидел патрон и отнял. Его веки дрогнули. Отец повернулся и пошел в тамбур. Я последовал за ним. Он рванул дверь и швырнул патрон. Бронзовая гильза сверкнула над кустами.
Отец стал боком ко мне. Его горбатый нос делал клевки, вторя вагонной тряске.
– Еще есть? – спросил отец.
Я замотал головой.
– Зачем таскаешь такие дела? – спросил он.
– На японцев, – ответил я. – Не табаком же мстить за деда.
– А на табак можно выменять заветный твой «мерседес», – сказал отец игриво.
– «Мерседес» мне больше не нужен, – буркнул я, нажал плечом дверь и нырнул в вагон.
4
С вокзала нас повезли на машине прямо в порт. Улицы Владивостока вздымались и опускались волнами. Они скатывались к морю. Берег бухты был обставлен пароходами.
Нас подвезли к серому пароходу, на носу у которого белела надпись «Советы». С одной стороны парохода сияло, как наш эмалированный чайник, море. С другой стороны кишела толпа переселенцев. Мы влились в нее и под звяканье чайника пробились к трапу, потом на палубу.
Растрепанные люди с криком волокли чемоданы, узлы, сундуки к кабиночкам с надписью «Твиндек». Мы тоже протиснулись в один из этих твиндеков. Отвесная лестница сбросила нас в темную утробу парохода.
Чайник затих – Юрик нашел себе место. Он залез на нижнюю сетчатую полку и сидел, поглядывая на меня из-под шали. Я бросил свой чемодан, узел и побежал на палубу. За мной застучали по железным ступенькам трапа бурки Юрика. В трюме пахло ржавчиной, селедкой, табачным дымом и кислятиной. А палубу грело весеннее солнце. Морской ветер гладил лицо.
Мы с братом пошли, где никого не было, – на корму.
Вода в бухте напоминала по окраске хвост павлина.
– Это от нефти, – объяснил я брату.
К борту нашего парохода прибило мандариновую корку. Мы с Юриком стали плевать в нее. Юрик загадал: если попадет до десяти, мы встретим белый пароход. А я загадал: если попаду до десяти, на нас не обрушится буря. Мы плевали по очереди. Юрик первый попал в корку. Он запрыгал на одной ноге и запел:
Синее море,
Белый пароход…
Я попал лишь на десятый раз.
– Не будет бури, – объявил я торжественно брату. – Наш десант высадится в полном боевом порядке!
– Бури не будет, – вмешался кто-то у нас за спиной тягучим голосом, – а штормик баллов на шесть-семь потреплет «наш десант».
Мы обернулись. К нам подкрался высокий лохматый дядька в морском бушлате и клёшах. Под бугром его носа, напоминающим валенок, топорщились усы из медной проволоки. Дядька легонько шевелил ими при разговоре. Он пристально смотрел на солнце из-под левой руки, на которой не хватало двух пальцев – безымянного и мизинца. Солнце напоминало кусок тлеющего кокса. В войну мы иногда топили коксом, который я собирал на станции.
– Шторма не боитесь? – спросил дядька. Губы его выгнулись серпом, кончиками вверх.
– Нет, – ответил я и пожал презрительно плечами.
– А мин?
Я пожал еще презрительнее.
– А кто «травить» будет? – спросил дядька, и ус его дрогнул, как у таракана.
– Никто, – ответил я и повернулся к поручням.
– Поживем – увидим, – сказал дядька и зашаркал тяжелыми ботинками по палубе.
– Будет буря, будет шторм – встретим белый пароход, – сочинил Юрик и опять запрыгал по палубе.
В это время пароход загудел, и мы поплыли. Катерок-букашка поволок «Советы» на длинном канате в море.
– Как называется белый пароход? – спросил Юрик.
– «Оранжад», – ответил я, не моргнув,
Палуба под ногами качнулась. Из трубы выкрутился густой дым. Катерок пронесся мимо нас назад, подпрыгивая на волнах. Над мачтой закачались плоскодонные облака. Ветер подул холодный. Волны неслись на наш пароход, как табун зеленых коней с белыми гривами.
Я взял Юрика за руку и повел назад, в твиндек. Брата могло прознобить здесь, хоть он был укутан маминой шалью. По дороге я стал рассказывать брату о белом пароходе, плел ему, какая чудная жизнь у ребятишек на «Оранжаде».
В твиндеке ударил в нос тяжелый табачный дух. Меня сразу затошнило. Юрика потянуло на сон. Мама уложила его на среднюю полку. Я лег рядом.
По полу катался от борта к борту чей-то мяч, наполовину синий, наполовину красный. Волны стучали в борт, подбивали мяч. Удары становились звучнее. Они покрывали барахолочный шум твиндека.
Я закрыл глаза и увидел, будто рядом с нашим пароходом плывет мина – круглая, со стеклянными рожками. Все ближе и ближе на быстрой волне… Еще миг!.. Я прижал ладони к лицу. Потом потихоньку сдвинул их с глаз, со щек… Откуда эта трусость во мне? Может быть, так себя чувствует и каждый настоящий десантник?

Я растолкал Юрика и стал, полусонному, рассказывать о белом пароходе.
– Ребятишки не боятся мин, – говорил я, и лопатки мои передергивались от озноба, – потому что на «Оранжаде» установлены такие приборы… Они замечают мину издали и расстреливают ее из пулемета: тр-р-р…
– А если на них нападет подлодка? – спросил Юрик, зевая.
– Ребятишек никто не смеет трогать, – ответил я. – Ребятишки – в чем они виноваты? – Я прислушался к хлюпу волн за бортом и прибавил: – На крайний случай, на «Оранжаде» полно всяких шлюпок и спасательных кругов.
– Гера, а ты на Сахалине драться будешь с маленькими японцами или с большими? – спросил Юрик, и его глазенки сверкнули.
– Все они одинаковые, самураи, – ответил я. – Кроме самых маленьких, вроде тебя.
Юрик опять засопел носом. Тогда я положил голову на край полки и стал глядеть, что делается внизу.
На нижних полках сгорбились наши и еще несколько человек. Среди них я увидел того усатого. Семеном называли его соседи. Кончики усов шевелились вовсю. Разговор был не о минах, не о штормах, не о самураях, а о каких-то пустяках. Словно собрались соседушки на крылечке в сумерках посудачить. Видно сразу – им не страшно. Может, это оттого, что никто из них не собирается мстить японцам, как я.
– Картошка, капуста там родит, Семен? – спросила бабушка, затуживая ниже подбородка косынку в синий горошек.
– Родит, – ответил усатый и махнул левой рукой. Казалось, безымянный и мизинец у него поджаты. – Яблони даже родят. Только японцы сады не разводят на Сахалине.
– Нехристи, – сказала бабушка. – Ляксея моего в гражданскую живьем сожгли, как чурку дров… – Она достала из сундучка фотографию деда, потерла черную рамку о кофту и подала Семену.
Семен склонился над фотографией, кашлянул в кулак, но ничего не сказал. Я свесился с полки. Люди смотрели на моего деда и молчали. Я хотел, чтобы они увидели, как я похож на деда. Но они так и не заметили этого.
– А я всяких семян набрала, – встрепенулась бабушка. – Жива буду – садик разведу.
Пароход качнуло с борта на борт. Сине-красный мяч прыгнул на ржавый борт. В дальнем конце твиндека заплакал ребенок. Отец вынул портсигар с выбитыми на крышке черепом и костями. Крышка откинулась, соседи потянулись за самосадом.
Мама попросила, чтобы не пускали дым на детей. Они закурили, стараясь выпускать дым подальше. Но он все равно поднимался к нам сизыми пластами.
– А пьют они что? – спросил отец усатого.
– Рисовую легкую водочку, сакэ, – ответил Семен. – Пьютнаперстками. Нашего разгулу у них нет.
– Научим, – заявил отец, подмигивая.
Все засмеялись.
– Пальцы-то там потерял? – спросила бабушка, указывая на левую руку Семена.
– Самурай отхватил кинжалом, – ответил Семен и повертел трехпалой рукой на свету.
Я еще ниже свесился с полки.
– А дело так было, – продолжал усатый, и все взгляды нацелились ему в рот. – Взяли мы с боя Маока и одного за другим самураев накрываем… Победа! Мы с дружком автоматы на плечо и стали обдумывать насчет сакэ. Рядом с портом домишки налеплены, и выскакивают оттуда японец с японкой. Кланяются и лопочут что-то. Мы им про сакэ, а они в ответ: «Самурай, самурай…» Японец показывает на порт, она – в воздух руками: «Па-ф-ф! Бо-ф-ф!» Мы соображаем – дело нешуточное. Порт взорвать самураи замыслили, что ли? За автоматы – ведите! Они нас к складу громадному подводят. Перед дверью губы у обоих затряслись – слова сказать не могут. Ну, мы их оставили, сами – в склад. А там кули рогожные с вяленой селедкой штабелями, чуть не до потолка. Дружок верткий у меня, вскарабкался на штабель и поверху дует. А я понизу бегу. В полутьме прохода поперечного не заметил. Самурай и выскочил на меня оттуда кошкой. Я левой рукой успел прикрыться – двух пальцев как не бывало. Острый кинжал – боли я не услышал. Второй бы удар верный был, да дружок сверху на самурая свалился и автоматом приглушил.
Семен оглядел свою левую ладонь, точно читал по ней. Цигарка, зажатая между большим и указательным пальцами, дымила. Семен вскинул голову. Зашевелились усы.
– Над машинкой взрывной сидел наш самурай. Ждал, когда в порту все десантные катера соберутся… Если бы не те японец с японкой, было бы трауру. А так двумя пальцами отделались. Потом приходили ко мне в госпиталь те японцы, цветы и сакэ приносили…
– Сакэ и с тремя пальцами мимо не пролетит, – встрял отец, подмигивая.
Соседи разулыбались и загалдели.

– Памятник надо поставить твоим пальцам! – воскликнул дядька, которого называли Рыбиным. Он не курил. Сверху было хорошо заметно, что челюсть у него шире лба.
Где я видел раньше этого Рыбина? И слышал тонкий, горловой, как у нашей мамы, голос. Где? Что-то мерещится, а вспомнить – никак.
– Один нам нужен памятник для всех – мирная жизнь, – сказал Семен, затянулся и выпустил волнистое кольцо дыма. – Ух и табак – благость!.. Лишь бы мир да такой табачок был. Верно, Василий?
– Пусть только пикнут еще, – пробормотал отец и взглянул исподлобья куда-то поверх соседей, – и немцы и их союзнички…
– Говорят, на Южном Сахалине с табачком туговато? – спросил Рыбин, отдувая дым от себя.
– Табак, он везде сейчас дороже хлеба, – ответил Семен и выпустил новое кольцо.
– Посадим и табачок, живы будем, – сказала бабушка. – Семян я взяла. Турецкий табак у нас.
– Ну, это когда еще новый вырастет, – заметил Рыбин, отмахиваясь от дыма руками.
– Да тебе-то чего? – с сильным хмыком ответил отец. – Не куришь ведь.
– Сочувствующий я курякам, – ответил Рыбин и засмеялся вдруг басом.
Я перевернулся на другой бок и достал из своей сумки альбом. Меня поташнивало, и я решил отвлечься. Слушать пустые разговоры не хотелось. Нет чтобы все время рассказывать друг другу о войне, как ходили в атаки, лазили за «языками», подбивали танки… Ну вот – Семен заговорил о своей жене.
– … Вернулся я в Иркутск, а Марья моя за другого вышла… Пил три месяца, потом пошел в райком. Так и так, говорю, понравился Южный Сахалин, а потому как одинокий стал, направьте туда. Найду себе там японку…
Волны шарахнулись в борт, как стадо коров в тесном проулке. И вдруг нас потащило вниз, потом вытолкнуло вверх. И начались качели. Мама вытянулась на нижней полке. Соседи разлезлись по своим полкам. Мама постанывала, когда пароход проваливался. Лицо ее бледнело все сильнее.
– Выведи меня на воздух, мама, – попросила она бабушку, словно отца тут и не было.
Бабушка и отец взяли маму под руки и повели к трапу. Рыбин, хватая воздух большим ртом, тоже шел на палубу. У самого трапа он прихватил рукой челюсть и побежал. На верхних ступеньках мелькнули подковки на каблуках его яловых сапог.
– А ты выдюжишь? – спросил Семен, садясь на полку против нашей.
Я что-то промямлил: нужен он мне, такой «десантник», который любит японцев. А внутри в самом деле становилось муторно.
– Ты должен выдюжить, – продолжал он, – иначе какой из тебя вояка?
– Дядя, а Герка наш знаете как здорово про войну рисует! – сказал проснувшийся Юрик. Он взял у меня с колен альбом и подал Семену.
Тот перелистал альбом.
– Чувствуется рука, – сказал Семен протяжнее, чем говорил раньше, и вернул альбом. – Только война сплошь у тебя тут… Вот и говорю – вояка.
– У него есть и про синее море, белый пароход, – ответил Юрик, – только в колзине – доставать далеко.
– Вот именно что в «колзине», – ответил Семен и взял Юрика к себе на колени. А мне сказал: – Рисуй лучше собак, яблоки, дома с дымом. Скоро на войну мода пройдет.
Я скривил губы и засунул альбом в сумку. Какие еще собаки, яблоки, дома? Я думаю про деда. Дай себе волю – и слюни распустишь. Смотрел, помню, кинокартину цветную «Бэмби» и залился слезами, когда у Бэмби, крошечного олененка, охотники убили мать… Пусть Борька попробует еще раз заикнуться об оркестре, я ему покажу!..
И тут что-то накатилось изнутри к горлу. Я спрыгнул – только сетка взвизгнула за мной – и побежал к трапу. Ноги вынесли меня на палубу. Я протиснулся между людьми у поручней на борту и свесился над морем.
Люди с зелеными лицами вокруг меня делали такие движения, точно хотели выброситься в море, но в последний момент раздумывали. Я поглядел на них и сам сделал такой же рывок за борт. Пароход в этот миг дал крен на наш борт, и мои руки отцепились от поручней.
Сердце замерло – я повис над рокочущей пропастью. Потом скользнул вперед и вниз. Но чьи-то большие руки поймали меня сзади.
Слева я увидел на спасительной руке только три пальца. И еще я заметил, как самопал и одна ракета выскользнули из кармана и плеснули в тяжелой волне. Я и не пожалел об этом. Тут же услышал я топот сапог и прерывистый голос отца:
– Семен… У меня в глазах, веришь, темно стало… Легче бомбежку перенести…
– У меня самого колени дрогнули, – сказал Семен, вытирая лоб ладошкой.
– А я нырять уж собрался, – объявил Рыбин и вновь свесился с борта.
Отец потеребил мои волосы и укрыл полой шинели.
– По реке ходить – красота: не мутит тебя, не тошнит, – сказал Рыбин, вздыхая. – Так не живется ж на месте…
– Не паниковать! – отозвался отец. – Скоро шторм кончится.
– Может, полегчает, – обрадовался Рыбин.
– Сейчас подлечим вояку, – сказал Семен. – У меня есть лекарство.
Они отнесли меня к будочке твиндека.
Семен спустился вниз. Отец отошел к маме, которая висела на поручнях. Иногда он зорко глядел в мою сторону. А мне стало так плохо, что я заскулил. С носа на руку упала теплая капля.
– Вот так вояка! – раздался надо мной голос Семена. – Уже сопли распустил. Кто же десантом командовать будет?
Я поднял глаза и увидел в правой руке Семена синюю кружку с алой ягодой.
– Это брызги, – ответил я и вытер нос.
– На, – сказал он, протягивая кружку с клюквой, – покидай в рот.
От одного вида кислой ягоды приятно свело челюсти. Я отсыпал клюкву в горсть, а потом – в рот. Раздавил ягоду языком, и терпкий сок полился в горло.
– Лучше? – спросил Семен.
Я уронил в ответ тяжелую голову.
– А это маме, – попросил я, отдавая назад полкружки клюквы.
Семен отнес кружку маме.
Над мачтой неслись кудлатые обрывки туч. Я поежился и заклацал зубами.
– Замерз, – сказал Семен, поставил меня на ноги и повел в твиндек.
Они с бабушкой уложили меня в постель на нижней полке. Я стал про себя прощаться с жизнью, с ребятами, с планом… А Юрик топтался по мне и спрашивал:
– Гера, а ты со мной будешь на белом пароходе?
– Отстань! О-о-ох!..
– Скажи, тогда отстану.
– Нет, – ответил я еле слышно.
– Почему? – Юрик уселся мне на живот.
– Отстань, кому говорю! О-о-ох!..
– Потому, что ты травишь, да?
– Отстань…
– Скажешь, тогда отстану.
– Тебе нельзя говорить. Ты предатель.
– Ага, знаю! – Юрик подпрыгнул на моем животе. – Ты будешь драться с японцами, а я чтоб на этом «Оранжаде» с девчонками плавал. Не хочу! Я с тобой. И галеты мне не надо…
– Дурачишка, на нем знаешь как хорошо… А со мной опасно…
– Не боюсь, – ответил брат и запрыгал на моем животе.
– Бабушка, забери его, – простонал я.
Бабушка перенесла братца на противоположную полку и сказала:
– Не вяжись к нему, унучичек. У него одни бомбы на уме. – Она затужила косынку за концы и добавила: – С ним головы не сносишь.
– А я и так помру, – серьезно ответил Юрик. – Тетя Вера померла, и я помру.
Бабушка порывисто прижала его голову к себе и заплакала. Она утирала слезы пальцем с толстой, потрескавшейся кожей.
Я закрыл глаза, пытаясь уснуть. Но в это время отец, Семен и Рыбин привели маму. Ее уложили на противоположной нижней полке.
Отец говорил громко, точно соседи были глухие:
– Какая жизнь без друзей?! Был у меня друг Федя – под Кенигсбергом снайпер угомонил… Саньку Чирикова самурай на тот свет отправил. Чума и Зимин – те на материке остались… Дай, Семен, я тебя поцелую… Ц-ц-м-м-м… Ты друг мне теперь. Друг навеки!.. И ты, Рыбин, друг.
Что, если Борька, Скулопендра и Лесик не смогут пробраться ко мне? Как я жить без друзей буду?! И мне сразу стало хуже раз в десять.








