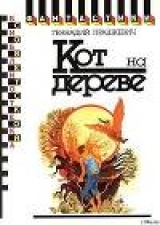
Текст книги "Кот на дереве (сборник)"
Автор книги: Геннадий Прашкевич
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Ага, зацепился за последнее сообщение Серега. Вот сейчас и проверим, существует ли телепатия? Выложил на стол лист бумаги, ручку нашел. Писал первое, что пришло в голову. «Дерево стоит. Кривое. На нем листья желтые. Даже не желтые, а просто меняются. А в листьях птицы. Собираются на юг».
Как в воду глядел.
Месяца через два появился рассказ в центральной газете.
Все больше перечисления, короткие фразы, нервность, будто писатель торопился, обрывал слова. И листья у него не желтели, а менялись. Как в английском языке. Такое не придумаешь, такое услышать надо. Будто самого себя читал.
Так подошла весна.
Дождь стучит, снег крутит. Скворцы прилетели.
Поежились, полезли в скворечники. Ну и черт с ними.
Серега давно крест поставил и на Галке и на письмах. Знал от тети Маши, что писателя последнее время сильно ругают за молчание. Но так ему и надо. Серега не хотел больше думать над лженауками. Пусть ученые думают. Стал часто бегать на волейбольную площадку. Сонька Жихарева его хвалила: ты длинный, любой блок возьмешь.
Он брал.
Например, с блеском выиграли у механизаторов.
После игры Сонька увязалась за Серегой. «Читал последние рассказы Синякова? Вот писатель!»
Серега озверел.
Все обдумав, написал Галке.
«Это мои рассказы, – написал. – Нечего придуриваться. Ну, в смысле, не сами рассказы, а письма. Я напишу про пруд или про птиц, а ты рассказываешь своему писателю. Нечестно это. Больше ничего не буду тебе писать, пусть твой писатель остается певцом городских окраин. Хоть всю ночь рассказывай ему про меня, Шахерезада!»
Отправил письмо.
Днем работа, вечером волейбол.
Играл за команду Соньки Жихаревой, но все ждал чего-то, чувствовал, не кончится просто так эта история. И однажды дождался. «Ой, к Мальцевым дочь приехала. Ведь пигалица совсем была, а теперь муж при ней. Говорят, писатель!» И дома то же самое: «Ой, Галка приехала! С мужем!»
Вроде как укоряли. А за что?
Отправился с отцом рубить жерди.
Ветерок, комарья нет. В природе тихо, как в погребе. На белых березах тире и точки. Придавишь тоску, вроде лежит. Но чуть забылся, вскакивает, как неваляшка. Так нарубили жердей, прикрикнули на кобылу. Идут, разговаривают.
Отец: «Женить пора».
Серега: «Кого? Кобылу?»
«Тебя, дурень. Лет-то сколько?»
«Двадцать два всего.»
«Я в твои годы тебя нянчил.»
«Тоже мне, подвиг.»
«Подвиг не подвиг, а главное дело совершил. – И пожалел: – Забудь ты эту Мальцеву. Других, что ли, нет? – Хитро напомнил: – Вон Сонька Жихарева, говорят, куль с мукой поднимает.»
Серега восхищаться не стал.
«А Петрова? Которая постарше… Мне нравится… Или Кизимова? Мало ли, что татарка? Такие надежные… Или Черепанова… Рослякова… Выбирай любую…» Отец перечислял, а кобыла тянула телегу, прядала ушами и косила мохнатым глазом на Серегу: чего, дескать, думать?
«Ладно, – нахмурился отец. – Свободен.»
Серега не пошел к Мальцевым.
Дорога к селу под гору, а он свернул направо, тропинкой спустился к старому пруду. Темный, вековечный сон его давно никто не будил. Лягушки обленились, поверхность пошла ряской. Освежить бы воду, пустить мальков.
Поднял голову.
Галка!
Круглое лицо чуть удлинилось. От прически, наверное. Глазки подведены. Порочное в них. Сама в брючном костюме. Раньше за такой костюм бабки залаяли бы ее на улицах. И писатель при ней. Серега сразу узнал писателя.
– Здравствуйте.
Не молчать же. И замер.
Решил ни о чем больше не говорить. Вдруг Синяков мысли читает?
– Здравствуйте, – негромко ответил писатель.
Он был повыше Галки, плечистый, седоватый. Но не старый еще. На плечах замшевый пиджак, глаза не злые. Все равно Галка лучше смотрелась бы не с ним. Хотя как сказать… Та еще коза… Тонкую сигаретку курит… Потом бросила ее и растоптала каблучком.
– Это вы зря, – вежливо заметил Серега. – Мы тут парк разобьем.
– А как с вековечным сном? – Видно было, что писатель не любит обижать ближних.
– Будем будить.
– А вообще?
– Что вообще? – насторожился Серега.
– Ну, ты же знаешь, – доверительно заметил Синяков, и Серега почему-то принял это его обращение на «ты». – Я ведь всякое делал. Ты не думай. Я напишу рассказ и спрашиваю Галину Антоновну, были письма от Сережи? Если были, обязательно сравниваю текст. Удивляюсь, какой черт связал нас одной ниткой? Ведь пишу я сам, а получается, что как бы с твоих слов. Я раньше так и считал, что все это – воспоминания детства. Ну, знаешь, есть такие. Что-то совсем забудешь, как будто не было, а вдруг всплывет в памяти. Я знаю, ты обижаешься. Но откуда мне знать, в чем тут дело. Ты сам-то как думаешь?
– А я никак не думаю.
Серега нарадоваться не мог. Вот ведь как хитро получается. Сперва писатель наживался на его письмах, а потом его все стали ругать за молчание, потому что Сережка перестал писать Галке. Теперь приехал, разговаривает на «ты», как с равным.
– Сам не пробовал писать?
– Я дурак, что ли?
Тут Галка вмешалась. Галина Антоновна. Оказывается, ее и так можно было называть.
– Чего ты дуешься? – вмешалась она. Красивая, зараза. – Мы к тебе специально приехали. Я твоим письмам всегда радовалась, а ты замолчал. Но я, ладно. И Николай Степанович – ладно. Но читатели-то? Они почему должны страдать. У нас теперь горы писем, почтальоны нас ненавидят. Все обижаются, почему не выходят новые книги? Ну, не отвечать же, что из-за Сереги Жукова не выходят. Дескать, он нам перестал писать…
– Оставь, Галя, – нахмурился писатель и обратился к Сереге: – Я ту книгу, которая всем нравится, действительно написал на одном дыхании. Какая-то тайна в этом. Не собирался ее писать, но Галина Антоновна… Ну, Галя… Она ходила на занятия литобъединения и подарила мне старого неваляшку… Ваньку-встаньку деревянного, ручной работы… И вдруг я начал писать… В детдоме у нас только такой и был неваляшка… Понимаешь, о чем я?
– О Ваньке-встаньке.
– Да нет… О Гале я…
Короче, поговорили.
Устроили в клубе творческий вечер.
Познакомили писателя с местным композитором Бобом Садыриным, придумавшим собственный музыкальный инструмент – из колокольчиков. Но Синяков не сильно рвался к людям. Предпочитал уйти в лес. Уходил в лес с Серегой. Спорили на берегу вековечного пруда: дар в человеке принадлежит ему или всем людям? Серега хорошо держался.
А потом Синяковы уехали.
Бригадир как-то в курилке сказал: «Ты, Серега, задумчивый стал. Скучаешь по знаменитостям?» И добавил знающе: «В мире все через баб!»
Серега в драку. Разняли.
Но этим дело не кончилось.
Недели через две тетя Вера, почтальонка, принесла Сереге бандероль. Он ее вскрыл, а там Ванька-встанька и куча писем.
Понес игрушку на старый пруд.
Ленивый день, пустой. Плавали паутинки.
Крошечный паучок сел на Серегин нос, закопошился.
Серега паучка сдул, вывалил на колени присланные Галкой письма. И правда, отовсюду. Магадан, Москва, Иркутск, Пермь, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Мариинск, Благовещенск. Разные почерки, разные люди. «Взбесились!» – подумал Серега и даже пожалел писателя. Ему ведь надо всем отвечать. А как ответить всем? Один пишет: вы замечательный писатель, а другой утверждает: лучших и нет на свете! Вот как любили Синякова. И как сговорились: почему, ну, почему вы не пишете про Таловку? Вы ведь так хорошо писали! Это, наверное, все про ваше детство? Одинокая учительница из Братска закапала письмо слезами. Когда она думает, что Синяков больше ни строки не напишет про таловчан, она плачет. Стропальщик из Новокузнецка писал: ну, какого черта, мужик! Раз уж взялся, давай! Если трудновато с деньжатами, он поддержит. Одно письмо пришло даже из духовной семинарии. Писал какой-то парнишка, что, прочитав книгу Синякова, вернулся в мир. Ему теперь кажется, что таловчане, изображенные Синяковым, ближе к богу, чем сам священник отец Борис.
Надо же, прикинул Серега.
Рассказ всего лишь про старый пруд, про лягушек пучеглазых, бесстыдных, а парнишка семинарию бросил. Он, Серега, Галке писал, а стропальщик из Новокузнецка готов поддержать писателя своими деньжатами.
И так печально стало.
Он ведь действительно писал только Галке, нечего злиться на Синякова.
Плотники и учительницы, шоферы и семинаристы – все читали рассказы Синякова, а не его письма. Это большая разница. Писателем интересуются все, а Серега Жуков никому не нужен. Как старенький неваляшка, которого Галка в бандероль, наверное, не без умысла ему вернула.
Подержал неваляшку на ладони – сто и т!
Рот до ушей, уши рисованные. Толкай не толкай, все равно встанет. Это Серегу писатель, кажется, прижал до самой земли. Прижал и не дает встать. А стропальщик из Новокузнецка злится.
В общем, воцарилось равновесие.
Писатель о Таловке больше не писал, имя его редко стало появляться в печати.
И Серега тоже стал забывать Галку, водил в кино Соньку Жихареву. Она ростом с него, а хихикает как девчонка. А то скажет задумчиво: «Чего-то новых книг интересных мало.» Это всегда было как острый нож. «Синяков! Синяков! Да я, может, написал бы не хуже!»
– Ты? – дивилась Сонька.
– Я!
И попробовал. Из принципа.
Чтобы Сонька так красиво и немножко презрительно не качала бедрами.
Но ведь, когда письмо пишешь, понятно – кому. А здесь? Чепуха какая-то. Сонька заглянула в тетрадь, хмыкнула:
– Ты хоть в городе был, балда? Там собаки сидят на цепи?
– А куда они денутся?
Сонька рассердилась:
– Не порть бумагу. Хочешь почитать интересное, у меня книжка есть.
– Писателя Синякова?
– Ага.
– Вот сама и читай.
Сидели как-то на берегу.
Пруд темный. Лиса тявкает с той стороны.
Действительно, чего это он там понаписал – город, машины… Сонька правильно сказала – круглая чепуха… Так еще станешь певцом городских окраин…
И все же заело Серегу.
Как в детстве с неваляшкой.
Купил толстую общую тетрадь, бросил Ваньку-встаньку в ящик стола – лежи, дескать, стервец, знаю я твои штучки! С тоски хотел порвать с Сонькой Жихаревой, пусть читает своего Синякова, но пришел как-то на пруд, а на берегу Сонька. Сидит долговязая, глаза на мокром месте.
– Чего ревешь?
– Книжку перечитывала.
Конечно, ту книжку! Не боялась Серегу, затараторила:
– Я в газете прочитала, что писатель Синяков ушел из литературы. Как думаешь, он надолго ушел?
– Навсегда.
– Ты сам дурак! – сказала Сонька и снова заплакала. – Я сегодня птичницам пересказала ту историю, где они у Синякова голышом купаются, так птичницы все плакали, а тетя Фрося сказала. Что когда приедет писатель, мы ему подарим корзину яиц двухжелтковых! Писателям здоровье необходимо. Как у него со здоровьем?
– Плохо, наверное.
Сонька снова в слезы.
Чтобы успокоить, спросил:
– Замуж за меня пойдешь?
Сонька сразу засуетилась, всхлипнула еще разок для порядка, чтоб видно было – она сомневается. Но волосы незаметно поправила и, как в зеркало, глянула в темный пруд. Ответила высокомерно:
– Пойду.
Серега – как проснулся.
Соньку всяко обхаживал. А она призналась: она куль с мукой поднимала ради него. До того дошло, что Ванька-встанька снова, как в детстве, начал мешать Сереге. Снится по ночам, подмигивает: уложи меня! Надоел. Он неваляшку запечатал и отправил бандеролью по знакомому адресу в Новосибирск. «Ты, Галка, – написал на бумажке, – скажи Николаю Степановичу, что я на него не сержусь. Неваляшка ведь через многие руки прошел, с ним, с игрушкой, все были откровенны, может, в нем, правда, есть что-то такое, как в намоленной иконе, да? Я недавно в книге читал, что инопланетяне много нам чего набросали. Как на свалку будто, да? Ну, может, и этого неваляшку…»
Ответа не ждал.
Как бы навсегда распрощался с петит фема Галкой Мальцевой.
А ответ пришел. Николай Степанович коротко сообщил: все у них хорошо, вот получили неваляшку, он у них снова стоит на той же полке. Сам Николай Степанович пишет очерки, много ездит. Галина Антоновна ездит с ним, но чаще дома помогает в работе. Советовал: «Ты, Сережа, по шею не уходи в будни. Зачешутся руки, пиши. Так просто, для себя. В этом есть польза. Известно, где один перестает мечтать, двоим становится плохо.»
Как-то Серега уснул, а ночью Сонька, жена, будит. Что-то, говорит, неважно себя чувствую, в обморок могу упасть. А сама рядом лежит: беременная, красивая. Сказал ей ласково: вот длинные тени, видишь? При Луне они всегда такие длинные. Я, Сонька, сейчас о тебе думаю. Ты очень светлая. Хочешь, еще что-нибудь расскажу?
– Ну, рассказывай, а то упаду в обморок.
Пруды всякие бывают, рассказал. Но лучше всего – темные и прозрачные. Рыба идет, а по дну, по камешкам и песочку, медленная тень движется. Встретит камень, изогнется. А рыбе ничего. Идет себе и идет. Ведь тень изгибается, а не рыба.
И заросшие пруды хороши.
На них мреет ряска, растут кувшинки.
Они желтоватые, растут из ила. Кувшинку потянешь, она тянется как резиновая, пускает пузырьки со дна, а потом сразу лопнет.
Или – черемуха. Немножко холодно, морозит, а от черемухи густая волна, кружит голову. Ты, Сонька, не падай в обморок, потому что я без тебя что? Вот видела, как осенью стоит под забором коневник? Он коричневый, его тронешь, он осыпается, как спелая конопля. Только невкусный он и не едят его лошади.
За месяц до Сонькиных родов тетя Вера принесла Сереге тоненькую бандероль. «От писателя Синякова.»
– Откуда вам знать?
– Я грамотная, – с достоинством заметила тетя Вера. – Там адрес обратный.
И жадно спросила:
– Дашь почитать?
Серега буркнул что-то неразборчивое, но в положительном смысле.
Подержал бандероль в руках. Опять, наверное, письма читателей – с упреками. А у него дел по горло. Он теперь истории рассказывает только Соньке. Никто не слышат его историй, кроме нежной и сладкой Соньки. Пришел, обрадовал:
– Вот от писателя.
– Ой! Книжка!
И правда, книжка.
Небольшая, в голубой обложке.
Название: «Серегины рассказы». На фотографии – Синяков. Постарел немного.
Но почему – Серегины?
Перелистал книжку. Отлегло от сердца.
Наверное, правда – работает на них с Синяковым тот неваляшка, Ванька-встанька, сын сукин. Все рассказы-то больно знакомые. Про коневник, который лошади не едят. И про старый пруд и все такое прочее. Ох, зарыдает опять над книжкой одинокая учительница из Братска. Работает Ванька-встанька, не устает, стервец, никак не уложит его судьба!
Спросил Соньку:
– О чем думаешь?
– Да вот думаю, чего ты не учился? Был бы ученый, книжку бы написал. Образования у тебя мало, – капризничает.
– Ничего себе, мало! Я три языка изучал!
– Все равно мало. Надо пять знать!
– Зачем столько? – удивился Серега.
– Да затем, что я теперь о нем думаю, – Сонька задумчиво ткнула пальцем в свой живот, имея в виду будущего наследника. – Слышь, Сережка, ты ведь работаешь с деревом. Сделай ему игрушку.
– Сделаю, – обрадовался Серега. – Я ему все сделаю.
И вырвал книжку у Соньки.
– Оставь, не это главное!
– А что?
– Ой! Не догадываешься?
– Совсем не догадываюсь.
– Да я тебе сто раз на дню говорю!
– Подумаешь, по сто раз! – догадалась Сонька. – Скажи и в сто первый. Любишь?
ВИРТУАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ, ИЛИ ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ДАВЛЕНИЯ
…Жена сварила кофе. Сделав первый глоток, всегда самый вкусный, Николай Владимирович попросил:
– Найди, пожалуйста, черный галстук. Сегодня у нас ученый совет.
– Совет? По Мельничуку? – Жена всегда была в курсе его дел. – Он и в самом деле изобрел что-то особенное?
– Не изобрел, – хмыкнул Николай Владимирович. – Открыл. Он так считает – открыл. И если Хозин с Довгайло поддержат Мельничука, я обязательно съезжу ему по роже.
– Правильно! – сказала жена. – Истину, даже научную, надо защищать. Ты только не увлекайся, милый. Ты же сам доктор наук. Одна, ну, от силы две пощечины, этого вполне хватит. А что он открыл такое?
– Для начала закрыл. Он закрыл закон всемирного тяготения.
– А как же Ньютон? – взволновалась жена. – Про гравитацию написано во всех учебниках.
– Мельничука учебники не тревожат.
– Хорошо, но как тогда быть с этим? – Жена выпустила из рук чашку, осколки разлетелись по полу. – Отчего же она падает?
– Сила всемирного давления! Ясно? Так провозглашает профессор Мельничук.
– А по мне так все равно, – примирительно улыбнулась жена. – Как ни назвать, чашка все равно разбивается. А что Мельничук требует за это?
– Почти ничего. Разве что заменить в учебниках имя Ньютона на свое собственное.
– Ты завидуешь, милый?
Николай Владимирович поперхнулся:
– Не сбивай меня с пути. Если ученый совет выступит в защиту этого ниспровергателя классиков, я дам ему пощечину. Мельничук, Хозин, Довгайло… Тебе ли не знать, какие они демагоги.
– Хорошо, хорошо, вот твой галстук, – мягко сказала жена. – Прогуляйся. По липовой аллее до института дальше, но время у тебя есть. И не сворачивай на бульвар, где тополя, не то нос покраснеет. Не будешь же всем объяснять, что это аллергия.
Николай Владимирович и сам решил прогуляться. Неплохо бы, подумал он, заглянуть к Мишину. Усатый и рослый, с калькулятором, болтающимся на груди, Мишин поведет его к своему аппарату. «Еще денек, – скажет он, любовно поглаживая рыжую панель, – и мы услышим голос неба». Это был его пунктик: услышать, что там в небе.
За липовой аллеей тянулись дома. Верхние этажи казались непрорисованными, как и облака, катящиеся над головой. Эта недовершенность всегда волновала Николая Владимировича. Он глянул вправо: вчера с балкона ему помахала рукой симпатичная девочка. Но сегодня там прыгал нахальный мальчик, он показал Николаю Владимировичу язык. На углу, где вчера возился с мопедом знакомый механик с Опытного завода, стояла лошадь под седлом. Кто ее сюда привел?
Николай Владимирович наслаждался утренней тишиной. Он любил свой научный городок – искусственный городок, построенный при искусственном море. Если бы только не внезапные изменения – то вдруг исчезал памятник, а на его месте появлялся пруд, то вместо молоденькой лаборантки оказывалась за микроскопом прокуренная мегера…
Но – изменения!
«Или я схожу с ума, – жаловался он Мишину, – или с нашим миром что-то творится».
«Выбирай второе, – советовал Мишин, скаля мощные зубы. Он любил Николая Владимировича. – Если Мельничук и его компания не выкинут меня из института, кое-что в картине мира я проясню».
Мишин собирался прослушивать непрорисованные участки неба, те участки, на которых нет ни одной звезды. «Там могут быть прорывы в параллельные миры, – утверждал он. – Может быть, мы лишь один из этих виртуальных миров. Ты вот считаешь, что Мельничук плохой, а на самом деле плох мир, поскольку мы не можем оказывать на него влияния».
Слова Мишина не приносили Николаю Владимировичу успокоения. В каком-то смысле они нравились ему еще меньше, чем наглость Мельничука…
…Варить кофе жена не стала.
– Вари сам, рохля! – Она уже была одета и не могла присесть. Это ее бесило. – Я трублю в отделе кадров десятый год, но я уже начальник отдела, а ты лишь так… кандидатишка. Ну почему тебе не поддержать профессора Мельничука? Ты же прочел его книгу, ее все прочли, даже я прочла. «Явления, отрицающие земное тяготение». Такой человек пойдет далеко, он дерзает, не зря его поддерживают Довгайло и Хозин. Зачем тебе идти против них?
– А зачем мне идти с ними?
– Ну да! – саркастически усмехнулась жена. – Ты желаешь шагать в ногу с Ньютоном. А кто тебе этот Ньютон? Он был англичанин и пэр, а Мельничук наш!
Николай Владимирович очень не хотел, чтобы в пэры выбился Мельничук. Тогда сразу откроется, кто кого поддерживал в изнуряющей борьбе, а кто выказывал непростительную принципиальность.
Он шел по знакомой улице. Пух тополей витал в воздухе, только это и нарушало гармонию мира. Не хватало еще явиться на ученый совет с красным носом. И Мельничук, и Хозин, и Довгайло – все они знают, что он аллергик, но если цветом его носа заинтересуется комиссия, еще не известно, что они скажут.
Слева тянулись деревянные домики. Бабка растягивала меж столбов бельевую веревку. Мальчишка с крыши сарая показал Николаю Владимировичу язык. Нет, затосковал Николай Владимирович, я бы предпочел, чтобы на балконе смеялась девочка. Забегу к Мишину, решил он. Мишин заносит его наблюдения в особую тетрадь. «Вчера, говоришь, шел мимо девятиэтажки, а на балконе смеялась девочка? Хорошо… А позавчера? Тоже дом, только кирпичный, в три этажа и со старухой в окне? Хорошо… А сегодня, говоришь, деревянные домики? И это хорошо! Только ты не пугайся, все живут, и никто не пугается. Ты не сходишь с ума, ты просто подтверждаешь мою теорию. Когда заработает наш аппарат, – он щедро приглашал друга в соавторы, – мир раскроет нам свое нутро. А на Мельничука плюнь. Он или Ньютон, какая разница?»
«То есть как, какая разница?» – по-настоящему пугался Николай Владимирович…
…Жена сварила кофе.
– Давай никогда не ссориться, – предложила она. – Попробуй, как вкусно! Это настоящий кофе, его привезла из Нигерии жена Довгайло, они опять вместе ездили в командировку. Это ты не можешь оторваться от своих дурацких приборов. А тебя, между прочим, ценят. И Мельничук ценит, и Хозин, и Довгайло. Они говорят, что ты неплохой физик, только очень уж держишься за классическое наследие. Зачем тебе этот Ньютон? За Мельничука коллектив, Мельничук дерзкий. Ты смотри, – доверчиво сказала она, – я роняю чашку, и она разбивается. Может, ее притягивает Земля, а может, на нее давит какая-то сила. Зря вы там шумите со своим Мишиным. Ты покайся, Колька. Прямо на совете и покайся.
Николай Владимирович нервно заметил:
– Не все дерзкое является истиной.
– Дирекции виднее, – строго сказала жена. – Я не первый год в секретаршах Мельничука. Он тебя ценит, только, говорит, ты находишься под дурным влиянием Мишина, который задумал что-то подслушать.
– Бред, киска! – Николай Владимирович улыбнулся через силу. – Где моя кожаная куртка? Через час ученый совет, а я тут болтаю с тобой о всякой чепухе. И запомни, киска, – сказал он строго, – я был и остаюсь на стороне Ньютона!
– У Ньютона был отдельный дом, – всхлипнула жена. – Я видела на картинках. У него был дом и еще сад, а в саду росли яблони.
– У нас тоже все будет.
– Только ты не заходи к Мишину! Он звонит и спрашивает – как дела? Я говорю – как и вчера. А он каркает: так не бывает! Зачем он так говорит?
Николай Владимирович вышел на улицу. Он любил свой городок. Торговый ряд, детские ясли, слева новая девятиэтажка. Сосны, несколько лип. Если поторопиться, он успеет забежать к Мишину.
Николай Владимирович пересек неширокую площадь, показал язык старушке, застывшей в окне, кивнул головой знакомому автолюбителю, копавшемуся в «Жигулях». Мчались мимо машины, размазанные, как на кинопленке, плыли над головой неопределенные облака. Нормальный живой мир. В таком мире есть смысл бороться за незыблемость законов природы.
По узким коридорам подвального помещения Николай Владимирович добрался до мощных двойных дверей с хитрым глазком.
– Вы тут чего? – спросил он рабочих, столпившихся у дверей.
– Нас Мельничук послал – аппарат выносить. Он же не по профилю, этот аппарат, а энергии жрет будь здоров!
Николай Владимирович постучал в дверь.
– Не открою! – сварливо отозвался Мишин. – Сказано вам, приходите после обеда, сам все вынесу.
– Это я, – сказал Николай Владимирович. Дверь приоткрылась и сразу же захлопнулась за ним.
Мишин потирал руки. Дьявольская конструкция поднималась до самого потолка.
– Может, вынести все это? – пожалел Мишина Николай Владимирович. – Я бы помог. Мельничуку доложат, он даст мне лабораторию, а если у меня будет лаборатория, я тебя возьму к себе.
В дверь сильно постучали.
– Ох, отключат ток, – сказал Мишин и заторопился, полез к решетчатому пульту, потянул на себя какую-то рукоять. Из двух колонок, разнесенных по углам, пробились, наполнили лабораторию странные звуки. Интересно, куда он направил антенну, в какой из непрорисованных участков неба?
– Слушай! – Мишин вцепился в его плечо.
И они услышали. Голоса были такими далекими, будто доносились из невообразимо глухих областей Вселенной.
– Неплохо… – услышали они. – Совсем неплохо…
Неплохо… Совсем неплохо… – сказал редактор. – Седьмая глава начала, наконец, оформляться. Герой оживает. Ему бы еще решительности!
– В первом варианте он был решителен, – робко заметил автор.
– В первом варианте он был драчлив, – возразил редактор. – Кстати, зачем ему такое громоздкое имя? Возьмем что-нибудь покороче. Скажем, Илья. Или Петр… Петр Ильич! Принято? И еще – что за странная идея подслушивать небо? Не спорю, время требует от нас остро ставить вопросы, но до какого-то предела, верно? Подслушивать небо… Так мы далеко зайдем.
Он потрепал автора по плечу:
– Поработайте над главой еще. Что-то от первого варианта, что-то от остальных. Синтез – вот на чем стоит искусство…
…Жена сварила кофе.
– Я хочу чаю, – попросил Петр Ильич. – Через час ученый совет, а кофе действует на меня раздражающе. Мне не следует торопиться. Может, в рассуждениях профессора Мельничука и впрямь есть что-то такое… Надо присмотреться, послушать разных людей. Ньютон никуда не денется.
– Я сейчас заварю чай, – мягко сказала жена. – А ты на совете требуй лабораторию. Ты же сам говоришь, в рассуждениях Мельничука что-то есть, так поддержи его. Жена Довгайло говорила мне, что Мельничук очень не любит спорщиков.
– Буду молчать, дорогая, – торжественно пообещал Петр Ильич. – Буду нем как рыба. Мельничук или Ньютон… Ты права, сейчас главное – получить лабораторию.
– У нас два часа в запасе, – потупилась жена.
– Я погуляю. – Петр Ильич был человеком с характером. – Я загляну к Мишину. Он что-то обалдел с этим своим аппаратом. Подслушивать небо… Этак мы далеко зайдем!







