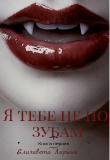Текст книги "День обаятельного человека"
Автор книги: Геннадий Шпаликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
ДЕНЬ
Чудесный был день, прямо надо сказать.
Таких немного бывает среди всех летних дней, а если и случаются такие дни, то нужно относиться к ним с большой нежностью и уважением и стараться, чтобы твое душевное состояние не шло вразрез с состоянием погоды, природы, с тем белейшим тополиным пухом, который летает по городу, не считаясь ни с потоком машин, ни с тем, что здесь не какая-нибудь усадьба, гдe своды тополей образуют некие тоннели.
Да и какие в Москве тополя, я вас спрашиваю, чтобы этот пух так безбоязненно и гордо влетал в окна домов, реял над шляпами и касался ресниц? Это не те патриархальные деревья, которые, если распилить, обнаружат возраст времени Ледового побоища, а совсем молодые, юные растения, еще не располневшие, стройные, как курсанты, но, между тем, уже обладающие этой странной способностью расточать над городом деревенский аромат и этот пух, появление которого вдруг весело и разом смещает времена года, напоминая об их относительности, о том, что еще будет зима, снегопады, снега, снег, летящий, летающий, столь же белый и ласковый своим прикосновением к лицу, ресницам, губам.
Лето в Москве можно описывать бесконечно, поэтому остановимся, хотя останавливаться не хочется.
Мы у Большого театра. Пусть некоторое, но не слишком продолжительное время
перед нами будут его колонны, серые, прославленные, его кони и колесница, вздыбленные над крышей, весь его величавый фасад, который так убедительно и безоговорочно говорит нам о том, что перед нами действительно Большой театр.
И пусть, исключив все многочисленные звуки улицы, города, все то реальное многозвучие, наполняющее Москву в этом шумном и оживленном месте, звучит для нас хор и отдельные арии и дуэты какой-нибудь прекрасной оперы – хотя бы «Евгения Онегина».
Причем музыка, которая будет звучать на фоне колонн, фасада, стены, высоких театральных дверей с массивными ручками, вот эта музыка – она не должна быть непрерывной, такой, как на представлениях.
Вовсе нет!
Это музыка репетиции, ее ритм, с остановками, с человеческими разговорами, репликами, с постукиванием дирижерской палочки о деревянный пульт, с замечаниями, пусть короткими, за которыми вновь последуют вступление оркестра и голоса певцов, среди которых непременно должен быть услышан и отмечен голос Андрея.
Реальный шум города вернется одновременно с тем, когда Андрей покинет театр и появится на улице.
И вот он уже сидит с приятелем, человеком его лет, может быть, даже чуть постарше его, но в разговоре он явно подчинен Андрею.
Летнее открытое кафе, только тент над ним, но здесь все-таки столы покрыты белыми скатертями, а не тем разноцветным всепобеждающим пластиком.
– Что ты будешь есть? – спрашивает приятель.
– Мясо, салат – все.
– Пить?
– Пить в такую жару! Ты сумасшедший! Вообще старайся как можно меньше пить, особенно на людях. Я никогда не пью на людях. – Андрей расправил накрахмаленную салфетку, вытер лицо. – Дайте три лимона, жим, воды и лед. – Он обращается к официанту. – А ему, – он показал на приятеля, – бутылку водки, и – подогрейте.
Пока официант записывал заказ, Андрей разглядывал сидящих в кафе.
Рядом, за перилами, была улица, и Андрей посмотрел еще и на теx, кто идет по ней мимо.
– Как твоя жена? – спросил приятель. – Я всегда думал, что у вас должна быть масса детей.
– Да? Ну, в общем, так. У меня час времени, поэтому давай не отвлекаться. Я все обдумал: ты должен ехать на целину. Ни в коем случае не отказываться! Напротив: наш патриотический долг, искусство принадлежит народу – ты меня понимаешь? Пока никто не догадался – выступи первым, обрадуйся у всех на глазах, поторжествуй! Думаешь, тебя не заметят? Заметят! Запомнят!
– Я могу быть уверен, что ты меня будешь ждать? – спросил приятель.
– И ты спрашиваешь об этом? Ты – мой единственный аккомпаниатор, друг, опора в пути, эталон вкуса. Все-таки ты загадочный человек!
– Смотри, Устинов, – сказал приятель.
– Только не вздумай приглашать его к нам. – Андрей даже не обернулся. – Ни в коем случае.
– Почему?
– Скажи, что мы ждем кого-то. Что у нас – серьезный разговор, деловой.
– Можно к вам? – У столика стоял высокий человек в светлом костюме. – Привет, Боря, привет, Андрей!
– Видишь ли, мы заняты, – сказал Андрей. – Ты можешь подойти позже?
– Несколько погодя? – усмехнулся Устинов.
– Спустя некоторое время, – сказал Андрей. – У нас деловой разговор.
– А-а, деловые люди. Все у вас дела. Все в делах. Если ваши дела приносят вам деньги, одолжите до зарплаты пятерку? У тебя, конечно, нет с собой? – он спросил Андрея. – Не надо. – Он заметил, что приятель Андрея полез в карман. – Это шутка, юмор. Я хотел вас напугать. – Он махнул рукой, отошел.
– Ну и хам, – сказал Андрей. – Не обращай внимания.
– А вы с ним дружили, – сказал приятель.
– Раньше он был ничего. А теперь выдохся. Всего себя проговорил. Когда я с ним разговариваю, у меня такое ощущение, что время остановилось. Самые страшные люди на свете – это друзья детства и отрочества.
– А что он вообще делает? – спросил приятель.
– Пишет что-то. Да ничего он не напишет. Все у него плохие, все врут. Один он – честный писатель. Остальные – жулики. Все пьесы написали жулики, все книжки напечатали, все стихи, а он, честный писатель, ничего принципиально не пишет, кроме каких-то передач для телевидения.
– Он все-таки неплохой парень.
– Тоже мне профессия! По мне – лучше плохие. Мне неважно, какой ты человек. Лишь бы дело делал. И вообще, знаешь, с определенного возраста дружба переходит в другое качество. Я не могу дружить просто так! И очень хорошо понимаю людей, которые ко мне относятся так же.
– Но я же к тебе так не отношусь.
– Ты – другое дело! Ты – святой человек, прелесть! И я ценю в тебе эти качества, как никто. А ты себя мало ценишь! Я посмотрел, как ты разговариваешь с людьми! Чем ты проще, обходительней, деликатней – тем меньше тебя уважают окружающие. Но хамы всегда в почете. Уж так устроено. Попробуй похамить. Ну, не слишком, в меру. Да у тебя и не получится слишком!
– Официант! – позвал он. И – приятелю: – Скажи ему, чтобы тебе переменили прибор и стакан вымыли: нечист!
– Но все чистое.
А ты скажи. Попробуй. Только тверже, наглее.
– Что вам? – подошел официант.
– Вилки переменить, – сказал недостаточно твердо, но гораздо требовательней. – Стакан вымыть: нечист.
– Будет сделано, – сказал официант послушно, все забрал и скрылся.
– Ну! – Андрей весело откинулся на спинку стула. – Как это ни странно, но люди любят, чтобы ими командовали! Они без этого просто не могут! – Он встал. – Ты прости, я уже опаздываю. – Приятель тоже встал. – Мы договорились? Учти, твоя поездка хороша для нас обоих. Помни об этом, а я тебя тоже здесь не забуду.
Он поцеловал приятеля в щеку и пошел через кафе, стройный и крепкий, привлекающий внимание.
Андрей вел машину по Москве, насвистывая что-то. Солнце светило ему прямо в глаза, и он сначала опустил зеленый защитный козырек, а потом надел темные очки.
Вел машину он очень легко, на большой скорости.
Панорама города, улиц, открывавшаяся перед ним, была прекрасна и соответствовала его настроению.
Он остановился перед старым домом с тяжелыми лепными карнизами, каменными балконами.
Легко взбежал по лестнице.
Дверь, в которую он позвонил, ему открыл подросток лет семнадцати, худощавый, длиннорукий.
– Здравствуйте, Андрей Николаевич, – сказал подросток.
– Что-то ты сегодня плохо выглядишь. – Андрей проходил по коридору. – Родители дома?
– Слава богу, нет. – Подросток шел за ним.
– Тебе нужно заняться спортом, – говорил Андрей.– Спорт – не развлечение, а необходимость. Посмотри на себя в зеркало. Куда это годится? – Они вошли в комнату, и Андрей подвел подростка к высокому зеркалу: – Ну? Где гантели, которые я тебе принес?
– Честно говоря, я их в канале утопил, на даче, – сказал подросток. Вы только не обижайтесь.
В этой комнате стоял рояль, на стенах висели фотографии в рамках.
– Ты не представляешь, что ты с собой делаешь! – Андрей снял пиджак и ходил по комнате. – Сколько раз ты можешь отжаться? А? А ну – ложись на пол! – И Андрей сам лег, держась на руках.
Подросток нехотя последовал его примеру.
– Раз, два, – начал Андрей, пружинисто сгибая и выпрямляя руки. – Три, четыре...
Подросток сел на пол.
– Все, – сказал он. – Слабак я, да? – Он улыбнулся, и улыбка у него была удивительно хорошая.
– И этот человек хочет быть оперным певцом! – Андрей встал.
– Да я вовсе не хочу быть певцом, – сказал подросток. – Вы же знаете. Я не виноват, что у меня отец – профессор консерватории.
– Твой отец достойный человек, – сказал Андрей. – А ты гантели утопил в канале! Ну, какие у тебя новости? Как твои девочки?
– Какие девочки?
– Ну, у всех в твоем возрасте должны быть какие-то девочки, Или ты выше этого?
– Все дуры. Ни одного нормального человека, – сказал подросток.
– Абсолютно точно. Когда это тебе пришло в голову? Я тоже когда-то так думал. А потом свыкся.
– Но к этому же нельзя привыкнуть!
– Ты преувеличиваешь. – Андрей сел за рояль. – Ты в таком возрасте, когда все несколько не так. Главное – не относиться ко всему слишком серьезно. Будь снисходителен.
– Я очень снисходителен, – сказал подросток. Он сел рядом, и они заиграли в четыре руки Шопена.
– Да? – Андрей посмотрел на него.
– Просто всему есть свой предел. У глупости тоже есть свой предел.
– Тебе сейчас кто-нибудь нравится? – спросил Андрей.
– Да нет.
– Я же вижу. Поделись. Помнишь, Пьер Безухов рассказал о своей любви к Наташе какому-то пьяному французу, а я все-таки твой друг.
– И учитель, – сказал подросток, продолжая играть, и это, кстати, получалось у них очень хорошо. – Все они дуры, а мы тоже дураки, – говорил он задумчиво. – Понимаете, я вижу в этом какую-то закономерность.
– В чем? – спросил Андрей.
Вот мой отец, – продолжал подросток. – Славный человек, я его люблю. Он уже двадцать пять лет живет с моей мамой, а она мелочна, неинтересна, глупа. У меня нет глоса, а я пою – это ее затея. Мой отец ненавидит чинопочитание, он иначе как-то распределяет для себя людей, но, однако, в нашем доме бывают самые неприятные для нас с отцом люди.
– Не так уж твоя мать глупа, – сказал Андрей. – Поверь мне, не так уж. Но это правда: чем лучше человек, тем хуже ему живется. Не знаю ни одного счастливого хорошего человека.
– Но вы-то счастливы, – сказал подросток.
– Как тебе сказать. Это сложный вопрос. Всегда кажется, что что-то не так. Ты меня понимаешь? Но я бы хотел тебе счастья. Главное – не попадаться им на удочку. Такие, как ты, всегда попадаются. Ты доверчивый, добрый. Тебя по головке погладь – ты куда хочешь побежишь. А ты не бегай. Тебя гладят, а ты сиди помалкивай. Не ликуй, не обожай. Принимай все как должное.
– Андрей Николаевич, и что – так всю жизнь? – Подросток продолжал играть.
– Что?
– Ну, улыбаться там, где нужно орать. Помалкивать. Что-то из себя строить. Я на самом деле не такой, а для вас я такой, потому что вы все сволочи и этого заслуживаете, да?
– Да.
– Да?
– Нет. Все очень хорошие, славные люди. Один лучше другого. Но вообще, если так подумать: неужели совсем нет хороших людей? Может быть, они нам просто не попадаются? – Андрей продолжал играть. – Или мы сами недостаточно для этого хороши? Помню, был я пионером. Ты был пионером?
– Был, конечно.
– Самое смешное, что все мы были пионерами. – Андрей заиграл мелодию песни «Пионер, не теряй ни минуты, никогда, никогда не скучай... » – Сколько сейчас времени?
– Половина четвертого.
– Ты ничего не хочешь спеть? – спросил Андрей. – А то моя совесть учителя нечиста.
– Нет, не хочется. Зачем?
– А я настаиваю.
– А я решительно сопротивляюсь. Вам, между прочим, деньги за этот месяц оставили. В конверте.
– Учитель должен получать деньги не через ученика, а из рук его родителей, – сказал Андрей. – Ты и не подозреваешь что я работаю за деньги. Не догадываешься. Я для тебя – светоч разума и таланта. Твой бескорыстный друг и наставник, твой Галилео Галилей. – Андрей поднялся. – Ну и жара. – Он взял протянутый конверт. – Благодарю.
И снова машина его мчится по городу.
Город, лица, жара, белый раскаленный асфальт со следами, которые остаются на его мягкой поверхности, с палочками от мороженого, впрессованными в него, с блеском бензиновых и масляных пятен и горячим воздухом, который колеблется над мостовой.
А машина – мчится.
Андрей шел через зал звукозаписи, где был перерыв и музыканты оставили свои инструменты и, переговариваясь негромко, собирались в углу, а кто-то, кто, может быть, недостаточно хорошо был подготовлен и хотел еще раз проверить себя, сидел перед нотными листами, что-то наигрывая.
В зале было полутемно, только светились лампочки на пюпитрах, и стоял совершенно определенный шум помещения с хорошей акустикой. Кроме того, после яркости летнего дня здесь было гораздо прохладнее, чем на улице.
Андрей, проходя мимо певца, который стоял рядом с дирижером (оба без пиджаков, сосредоточенные), поздоровался, положил ему руку на плечо.
– Привет. Как работа?
– Андрей! – обрадовался певец. – Вы знакомы? – обратился он к дирижеру.
– Конечно. – Дирижер протянул руку. – Привет.
– Тебя страшно разыскивал Ковалев, – сказал певец. – Он и в театр звонил. Но он знает, что ты тут будешь.
– А в чем дело, ты не знаешь? – спросил Андрей.
– Не знаю.
– Я буду в кассе, – сказал Андрей. – Счастливо.
В коридоре его догнал плотный, лысоватый человек в белом пиджаке с короткими рукавами.
– Андрей! – крикнул он. – Андрей
– Привет! – Андрей остановился. – Ты меня искал?
– Ты только не волнуйся. – Он взял Андрея за руку.
– Да я не волнуюсь. В чем дело?
– У тебя дома страшный скандал.
– Ну и что? Андрей шел по коридору, человек спешил за ним.
– Ты можешь не бежать?
– Я тебя слушаю.
– Я ничего не понимаю: мне звонила твоя жена и сказала, что она от тебя уходит.
– Почему она тебе позвонила, а не мне?
Она тебе звонила, но тебя уже не было в театре. Я просто ей под руку попался.
– Она пошутила. Это шутка. – Андрей снова пошел по коридору. – Просто у нее веселый характер. А у тебя нет чувства юмора.
– Я знаю, что у нее веселый характер, но она плакала. Я твой друг или нет? Я должен волноваться?
– Но я же не волнуюсь, ты видишь? Я спокоен, сдержан, сохраняю достоинство. – Андрей остановился, взял человека за руку и завел за угол. – В чем дело, рассказывай.
– Понимаешь, ей позвонила какая-то женщина и что-то ей наговорила. И уж не знаю что, но можно себе представить.
– Это все серьезно? Это не розыгрыш? Если это розыгрыш, я тебя просто убью. Ты мне веришь? Просто тебе остается жить считанные часы.
– Какой розыгрыш. Правда – звонила какая-то женщина и говорила о тебе. И уж, наверное, ничего хорошего она не сказала.
– Тоже мне заботы! – Андрей говорил раздраженно. – Только этого мне не хватало. Ну, и что она тебе сказала? Что ты услышал сквозь ее слезы?
– Знаешь, как плакала! Сам чуть не зарыдал.
– Ты зарыдаешь, – усмехнулся Андрей. – Ну привет. Спасибо.
Андрей снял пиджак, бросил его в угол, развязал галстук и тоже снял его.
Он ходил по большой полупустой комнате.
На подоконнике сидела молодая девушка, босая, в летних шортиках.
– Как тебе взбрело в голову ей звонить? – говорит Андрей. – Как ты могла догадаться!
– Я с тобой не разговариваю. – Девушка пожала плечами.– Я вообще тебя даже не слышу. Говори что угодно.
– У тебя в холодильнике есть лед? – спросил Андрей.
– Есть, кажется.
Андрей ушел и вернулся с большой кружкой воды, выпил ее.
– В любом поступке должна быть своя логика, – продолжил он. – Но я не понимаю, зачем ты все это сделала? Кто от этого выиграл? Ты? Я? Вера?
– Мне это уже неинтересно. Ты вообще меня не интересуешь. – Девушка говорила с твердостью, в которую невозможно верить серьезно.
– Да? – Андрей остановился.
– Если я говорю, так оно и есть.
– Ну, прощайся с жизнью. – Андрей взял ее на руки и понес через комнату к балкону, толкнул дверь ногой и вышел на балкон. Это был примерно четырнадцатый этаж. Внизу простиралась Москва-река. – Выкинуть тебя? – спросил Андрей.
– Да ты не выкинешь, – сказала девушка. – У тебя на это характера не хватит.
– Пожалуй, да. – Андрей поставил ее на ноги. – Да и зачем? Живи – Он обнял ее, прижал к себе, и она прижалась к нему.
– Все-таки зачем ты позвонила моей жене? – спросил Андрей.– Я, серьезно, не понимаю. Ты же не злой человек, не склочный и вообще хороший человек, и я тебя люблю. Не перебивай.
– Я хотела, чтобы она узнала правду. Так же будет лучше для нас. Отрубить все и освободиться.
– От чего освободиться? – спросил Андрей.
– От неправды, – сказала девушка, прижимаясь к нему.
– Правда – неправда! Кто знает, что лучше. И вообще, что такое правда? Ты знаешь сама?
– Ты мне так говорил, что я тебе верила.
– Правда, которую ты сказала сегодня по телефону, повлечет за собой новую ложь, – говорил Андрей. – Какая же это правда, если из нее вытекает ложь? Знаешь, правда тоже редко бывает чистой. У нее всегда есть свои цели, как и у лжи. Правдивые люди в своем чистом виде всегда выглядят как дураки, но они – исключение, хотя мне лично они подозрительны; человек, который говорит сразу правду, имеет на этот счет свои соображения. Но зачем тебе, чистой и хорошей девочке, вмешиваться в это? Почему нельзя любить просто, не доставляя никому хлопот и беспокойств? Почему я, взрослый человек, должен буду из-за твоей опрометчивости – назовем ее так – выслушивать все, что мне предстоит выслушать сегодня? И зачем обижать Веру – человека, который этого совершенно не заслуживает? Ложь во спасение – святая ложь. Но не хочешь лгать, никто тебя не заставляет: молчи. Все остальные грехи я беру на себя. И потом – если мы с тобой начнем ссориться, то кому же дружить? – Он обнял ее и поцеловал. – Твое благоразумие и трезвость – я никогда в них не сомневался. Ты меня любишь?
– Да. – Она прижалась к нему.
– Ну вот и хорошо.
– Если ты умрешь, на твоей могиле напишут: «Расстрелян за обаяние».
Как высоко они стояли!
Этот балкон, обдуваемый ветром справа, и слева, и снизу, от реки, и от высоты, был освещен заходящим солнцем, а пара, обнявшаяся на нем, представлялась издали, если ее могли видеть как некая идиллия, как что-то, что не бывает каждый день: кому в голову придет мысль днем целоваться на балконе при полном свете и так долго, что... А, впрочем, я только пишу, как это было тогда, не обобщая вовсе: мало ли что бывает!
ВЕЧЕР
Семья собралась в большой комнате, которая принадлежала покойной тете.
Квартира, судя по этой комнате, была огромна, и здесь жили не первый год, и во всем уже был свой определенный уклад большой интеллигентной семьи, которая разрасталась, конечно, принимая в себя новых членов, а все-таки осталась в своей основе прежней.
Человек двадцать, одетых по случаю похорон в темные костюмы и темные платья, стояли полукругом перед портретом покойной тети, а портрет был очень молодой, и девушка, изображенная на нем, хотя она и жила тогда в начале века, но своей прической, выражением лица, улыбкой и чем-то еще, чему трудно найти определение, была совершенно похожа на тех девушек, которых мы видим каждый день.
Люди стояли молча перед портретом, отдавая долг этой женщине, вспоминая в эти минуты о ней живой, о том, какая она была тогда и позже, и в последние годы, а если кто-то и думал о другом, то в этом не было большой беды, ибо был уже поздний час, и уже все вернулись с похорон, и должны были отправиться к столу, за которым происходит вначале поминовение усопшей, а потом уже просто ужин в память о той, кого нет за столом.
Вера стояла среди родственников, глядя на портрет тети, и то ли на нее подействовали события сегодняшнего дня, то ли все это соединилось вместе, но лицо ее выделялось среди других какой-то внутренней, взрослой печалью.
Она была одета в темное закрытое платье, которое очень шло ей и делало ее юной, и придавало ее лицу одухотворенность, строгость – я бы сказал, – и вообще на нее обращали внимание, потому что нельзя же слишком долго предаваться скорби, тем более, что рядом стоит такая девушка, которая хотя сейчас и полна печальных мыслей – и это естественно! – Но пройдет некоторое время – и она вновь оживет для жизни, для разговоров об ином, о чем-то не потустороннем, а скорее – постороннем, несерьезном и славном, что и составляет существо молодой жизни.
Андрей прошел в раскрытую дверь и, не встретив ни одного человека, направился по коридору в комнату, где стояли все, соединившись в скорбном молчании.
Его появление не должно быть замечено вначале, и его голос, прозвучавший неожиданно, должен полностью соответствовать печали и торжественности минуты. Никто не должен удивиться его появлению, посчитав это за должное, как и все, что он будет делать дальше, тоже должно вызвать общее воодушевление и все то, что должны вызывать поступки, совершаемые к месту.
Андрей сразу же увидел профиль Веры, обращенный как-то в сторону, грустный и в то же время беспомощный, но, не подавая даже вида, что он заметил ее и как-то оценил ее состояние и свою вину перед ней, он прошел вежливо, но требовательно в первые ряды и, сделав паузу, совсем короткую, сказал голосом твердым и значительным:
– Перед памятью этой женщины, этого человека, которого я любил, я хочу сделать единственное, что я могу сделать, и уже не для нее, а для вас, но помня о ней и обращаясь к ней. Я спою любимый романс Александры Ивановны.
Все послушно расступились, и Андрей прошел к роялю, стоявшему в глубине комнаты, за которым все это время сидел пожилой человек, игравший Скрябина, Чайковского и еще многое.
Человек этот встал, ожидая, что скажет ему Андрей.
Андрей наклонился и что-то сказал ему.
Взгляды всех присутствующих и Веры в их числе были обращены к Андрею, но он – мягким и одновременно повелительным движением руки – заставил присутствующих повернуться к портрету тети. Повернулась и Вера.
Последовала пауза.
Наконец, первые аккорды – и Андрей запел. То, что он пел было само по себе, вне его исполнения, прекрасно.
Слова, которые он произносил, были начертаны не так уж давно, но все-таки давно, а действие их было безошибочным, они трогали не так, как трогают слова песни, а как трогает трагедия и талант.
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
Андрей пел, и его мысли и взгляд были сосредоточены не на портрете тетушки, конечно, хотя все, кто был в этой комнате, поддались настроению этой песни и видели только это девичье лицо начала века, и ничего более, но Андрей смотрел только на волосы Веры, собранные на затылке в светлый пучок, на ее шею, плечи, спину.
Он смотрел на нее, когда пел эту песню, и пел только для нее, и ни для кого больше.
Все стояли к нему спиной, обращенные к портрету, и Вера была в их числе.
Андрею немыслимо хотелось, чтобы она повернула голову, посмотрела на него, и уже в этом была бы победа его искусства надо всем, что между ними произошло, хотя и произошло немногое, но ради своего спокойствия он не хотел и этого, малого; хотел, чтобы все было как раньше, ибо видел в этой неизменности своей жизни счастье, и судьбу, и единственный способ жить без тревог.
Он пел, глядя только на нее, только к ней обращаясь, и она, обиженная на него, собравшая вещи, думающая о нем плохо, обернулась среди песни, потом еще через некоторое время, когда он, уже торжествуя, пел последние слова, она обернулась к нему своим ясным заплаканным лицом, глядя на него прямо, прощающе, освобожденно от всего, что ее мучило в это время.
Все дальнейшее уже не имеет значения, как неважно то, как они ехали вечером домой, как она была вначале еще немного обижена на него, да и не обижена, делала вид, что обижена, и то, что он говорил ей или сидел молча, и то, как они доехали и поднялись в свою квартиру, носившую следы ее побега, – все это неважно, а важно то, как она тогда повернулась к нему, возвращая этим поворотом головы все, чем они жили каждый день, все их заботы, разговоры, все их радости и огорчения, которые если и случаются с ними, то проходят так же быстро и так же они излечимы, как все, что было в этот летний день.