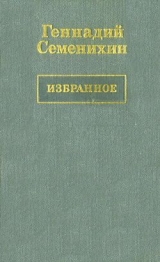
Текст книги "Пани Ирена"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Виктор Большаков с грустью подумал, что, если бы не замолк Али, а штурман Алехин не был бы тяжело ранен, он бы вместе с ними воспользовался парашютом. Все-таки была бы надежда, что они все трое успешно приземлятся, найдут друг друга, будут вместе пробираться к линии фронта по лесам и перелескам. А сейчас… Ветер свистел за кабиной и фюзеляжем. Машина окунулась в ночь, и ничто теперь не в состоянии изменить ее полет, потому что Виктор установил самый маленький угол планирования. Под ними густые массивы леса. Он знал, что в этом районе нет ни рокадных, ни магистральных шоссейных и железных дорог, что большие города отсюда находятся в стороне, и это наполняло его уверенностью. «Если бы полянку. Полянку или перелесок. Я бы на них как-нибудь плюхнулся».
Большаков напряженно покрутил головой и осмотрелся. И справа, и слева, и впереди, насколько хватало глаз, линия горизонта была темна, ее не пробивал ни один огонек. Ни один прожектор не колыхнулся над землей, ни одна трасса «эрликона» не ощупала небо, ни одна сигнальная ракета не взвилась над лесом. Вероятно, фашистам и в голову не могло прийти, что советский самолет, обрушивший дерзкий удар по самому центру Познани, получив повреждения, повернет не на восток, а на запад. Теперь же в мрачной пучине неба обнаружить бомбардировщик с выключенными моторами было просто невозможно. Он снижался, нависая над землей большой горестной тенью. «Слишком быстро падает высота», – подумал Большаков и поймал себя на мысли, что ему очень хочется, чтобы это снижение продолжалось как можно дольше, отдаляя трагическую встречу с землей. «Отставить, – грубо оборвал он себя, – под тобою лес, а не река с кисельными берегами. Не до размышлений».
Он уже хорошо различал близкую колеблющуюся поверхность леса. На часах было 23.17. Именно в эти минуты, после прохода линии фронта, он должен был обнаружить себя в эфире и доложить на аэродром, что задание выполнено. А вместо этого…
Стрелка высотомера показывала уже восемьсот. Она была безжалостной, эта стрелка, все ползла и ползла к нулю. Боковой ветер чуть встряхнул самолет. Виктор утопил ногой правую педаль и едва не вскрикнул от боли. «Почему это болит ступня, если рана под коленкой?»
– Володя! – окликнул он штурмана. – Потуже привяжись, сажаю.
Лес шумел под крыльями снижающегося бомбардировщика. Большаков это скорее чувствовал, чем слышал. Пятьсот метров высоты, четыреста… двести… Будь сейчас день, он бы хоть видел землю и мог бы все же дотянуть до какой-нибудь полянки и опуститься там. Но сейчас темень скрывала все внизу, и от этого та самая земля, по которой он ходил около двадцати четырех лет, была ожидающе страшной. Он почувствовал неприятную сухость во рту и, уменьшая угол планирования, все отдалял и отдалял встречу с ней. Зоркие глаза искали площадку, пригодную для посадки, но на многие километры окрест тянулись верхушки деревьев, и ни одного гектара земли, свободного от леса, не было видно во мраке. А как он был нужен, этот гектар!
Виктор для чего-то расстегнул под своим крутым подбородком ремешок шлемофона. Казалось, именно из-за него было трудно дышать. Сто метров отделяли его от леса, и он только теперь, как воин, сражавшийся с окружившими его врагами до последнего патрона, с безысходной тоской понял: придется сажать на лес, иного выхода нет. Он включил все пожарные краны, выпустил щитки, стараясь предельно погасить посадочную скорость, погасить ее так, чтобы тяжелая «голубая девятка» бессильно упала на верхушки деревьев и удар этот пришелся бы равномерно и па фюзеляж, и на широкие крылья, способные в какой-то мере его ослабить, самортизировать. Это уже было скорее не планирование, а парашютирование. Безжизненная «голубая девятка» падала на лес, как парашютист, над головой которого не раскрылся спасительный купол. Большаков все уже сделал, что мог и может на своем веку. Самые точные, самые филигранные движения педалей ничего не могли сейчас изменить. Но он все равно продолжал двумя руками держаться за баранку, чувствуя, что пальцы судорожно прикипают к ней. В страшном напряжении, полузакрыв глаза, он вел отсчет: раз, два, три, четыре, пять… десять… двадцать… А машину несло и несло вниз, и косо, угрюмой тенью приближалась она к верхушкам леса. Сухой треск Виктор услыхал при счете сто двадцать. Но это еще не было то самое страшное, чего он ожидал. Он еще успел досчитать до десяти, после того как щитки самолета первыми царапнули по острым елям.
Когда он произнес «сто тридцать», он увидел совсем близко от себя клонившиеся от ветра ветви и оглушительный грохот наполнил уши. Виктору показалось, будто это не самолет, а он сам переломился надвое. Его рвануло вперед, навстречу приборной доске и пушечному прицелу, но ремни удержали, он безвольно повис на них, а в следующую секунду спиной вдавился в жесткую бронированную спинку сиденья. Пол кабины с педалями, линиями заклепок, узлами крепления встал над его головой, заслоняя ночное осеннее небо. Второго удара и грохота отвалившихся крыльев он уже не слышал. Тишина придавила его к земле, наводняя холодной тоской меркнущее сознание.
«Земля, родная, принимай», – успел только подумать Виктор Большаков, и тишина, плотная, как покров этой опасной ночи, обволокла его тело, делая безвольным каждый мускул.
Вероятно, он пришел в сознание очень скоро. Это было странно, но он сидел в своей кабине, и над его головой, на положенной высоте, целым и неповрежденным был все тот же стеклянный фонарь из толстого непробиваемого зенитными осколками плексигласа. На приборной доске были разбиты указатель скорости и бензочасы. Откуда-то сочилось масло. Стрелка высотомера стояла точно на нуле. Едва слышно шептали часы несложный мотивчик своей однообразной жизни. «Странная штука часы, – подумал Виктор, – самолет треснулся, что было силы, а они идут, как ни в чем не бывало. А вот мои, карманные, те, что дядя Леша привез в детдом, раз только на тротуар асфальтовый выпали и – вдребезги».
Он вдруг вспомнил дядю Лешу, младшего отцова брата. Когда Виктор учился в шестом классе, к ним в интернат приехал худощавый блондин в буденовке со споротой звездой, что было верным признаком недавнего ухода из армии в запас. Короткая кожаная курточка и новые сапоги заманчиво скрипели. Дядя Леша долго водил его в тот день по самым лучшим городским магазинам, но тогда все было по карточкам, и только в одном коммерческом кафе дяде удалось за дорогую цену накормить племянника галетами из кукурузной муки и напоить невкусным фруктовым чаем. Голодный, как волчонок, Виктор с жадностью истреблял галеты, так что у него беспрерывно двигались уши и острый кадык. Хлебая горячий чай, тонко тянул:
– Дядь Леш, ты теперь где?
– На Магнитке инженером-монтажником, – улыбаясь всем своим красным обветренным лицом, "отвечал ему дядя. – Я туда прямо из армии, по путевке Цека. Там, брат ты мой, такое дело варганится. Вот подожди, обживусь немного, обязательно к себе заберу. Если даже и женюсь, все равно заберу.
В тот день он купил племяннику карманные часы с блестящей посеребренной крышкой. Усмехаясь, сказал:
– Ты смотри с ними поосторожнее. Все-таки лучшая швейцарская фирма – «Омега».
И уехал. А весной как-то Виктора вызвал к себе директор интерната, усатый, пахнущий махоркой, Иван Степанович, человек добрый, уважаемый всеми детдомовцами. Сворачивая из грубой оберточной бумаги козью ножку, негромким сиплым баском спросил:
– Большаков Алексей Павлович – твой, что ли, дядя?
– Мой, – весь встрепенулся Витя. – Он на Магнитке инженером. О нем даже в «Правде» один раз писали. Только я об этом никому не стал рассказывать, Иван Степанович, чтобы за хвастуна не посчитали. Он меня летом к себе на житье заберет.
– Не заберет, – отрезал Иван Степанович. – Не заберет, не жди.
– Почему? – зябко передернув плечами, спросил тогда Виктор.
Директор положил ему на затылок тяжелую руку с толстыми, в желтых подпалинах от табака пальцами.
– Умер твой дядя…
Он вышел тогда от директора, словно чем-то придавленный, полез в карман за платком, чтобы высморкаться, и выронил часы. И они сразу разбились от одного удара об асфальт, часы швейцарской фирмы «Омега». А вот эти, самолетные, идут. На них уже 23.57. Это как раз та минута, когда «голубая девятка» должна заходить на родной аэродром. Вероятно, там ждут не дождутся зажечь электрическое посадочное «Т». Полковник Саврасов бегает с ракетницей по летному полю, срывая зло, кричит на всех попавшихся ему под руку, потому что уже угадал верным чутьем старого, видавшего виды воздушного волка, что не будет сегодня «голубой девятки». Ни сегодня, ни завтра, ни в другие дни.
Виктор попробовал привязные ремни – в порядке. Он поднял руку и отстегнул металлическую застежку. Затем также осторожно, все еще не веря, что жив, освободил на ногах и на груди парашютные лямки.
За кабиной темно. Глухо шумел потревоженный стылым ночным ветром лес. Ни одного огонька, и тысячи шорохов. Он осторожно попытался привстать: получилось. Чтобы открыть фонарь, не требовалось больших усилий – на «голубой девятке» был очень хорошо отлажен замок фонаря. Виктор дотянулся до него, но вдруг от правой ступни и до самого плеча обожгла острая боль, и он сильно сжал губы, едва удержавшись от стона, плюхнулся на сиденье. Холодные капли пота осыпали ему лоб, стало жарко. Он сорвал с головы шлемофон и снова убедился, что руки ему хорошо повинуются. Откинул голову, несколько минут, пока не утихла боль, глотал настой кабинного воздуха, пропитанного бензиновыми парами, запахами металла и нитролака. Душно было от этого воздуха, мутило. Нет, ему нельзя было бездействовать. Где он, что с экипажем? Закусив губы, чтобы не закричать от боли, он сделал новую попытку привстать, опираясь на этот раз только на левую ступню, а правую держа на весу. Боль не возвратилась. Только тяжелела правая нога и горячо было в меховом унте, вероятно, рана продолжала понемногу кровоточить. Быстрый щелчок, и крышка фонаря с легким скрипом заскользила в пазах. Прохладный воздух ворвался в кабину, разогнал душный запах бензина, плеснулся в лицо. И как-то полегчало Большакову. Он опять привстал и осторожно выглянул за борт кабины. Первое, что он увидел, были белые даже в потемках сломы веток, душисто пахнущие смолой, несколько сваленных сосен и широкое изуродованное крыло самолета, валявшееся примерно в десяти метрах от кабины. «По частям падали», – вздохнул капитан.
Сама кабина, словно большая личинка, лежала прямо на земле, а позади от нее темнела отвалившаяся при падении хвостовая часть с кабинами стрелков. «Надо скорее к ним, к экипажу», – прошептал Виктор и лихорадочно забеспокоился. Первым делом он вытащил из специального гнезда в пилотском сиденье парашют и, поднатужившись, выбросил его за борт. Брезентовый мешок почти неслышно шмякнулся на мягкую землю. Затем он вывернул часы, спрятал их в карман комбинезона, а рукояткой пистолета выбил стекла на всех остальных приборах, безжалостно погпув при этом стрелки. Подтянувшись на мускулистых руках, он перенес здоровую ногу за борт кабины, затем вторую и постарался осторожно спрыгнуть вниз. Высота была небольшая, и он, расчетливо упав на левую сторону, сумел избежать боли. Он лежал на спине, устремив в небо широко раскрытые глаза, обдумывая, как ему лучше добраться до других кабин.
Может, ребята в лучшем состоянии, чем он, им только надо помочь вылезти?
Что-то изменилось в природе. Мягкий знобкий ветерок гулял над землей, наполняя осенний лес неразборчивыми шумами. Если бы не ветер, лес сейчас был бы тихим и сонным. Виктор хорошо знал, что такое притихший бор: наступи на сухую палку – на целый километр слышно. Глаза его привыкли к темноте, и он теперь видел гораздо больше, чем в первые минуты. Рядом лежала верхушка сосны, срубленная крылом при катастрофе. Он подполз и выломал большую палку. Подтесать ее снизу и подровнять сверху с помощью острой финки было делом недолгим. Получился приличный посох. Виктор медленно встал, опираясь на него, и сделал несколько неуверенных шагов. Надо было не мешкать, и он торопился. Еще один шаг, и стеклянный колпак носовой кабины перед ним.
– Володя… Алехин, – негромко позвал капитан.
Никто не ответил, только лес зашумел сильнее. Большаков увидел в плексигласе огромную дыру, вырванную снарядом, и сквозь нее черный комок, навалившийся на прицел. Даже не поверилось сразу, что это человек.
Виктор вспомнил галчонка, что пригрели они однажды в курсантском общежитии. Долго жил галчонок. А раз проснулись по зычному крику дневального «Подъем!» и увидели: жалким мягким комком накрыл галчонок блюдце с невысохшей за ночь питьевой водой. Чем-то и Алехин напомнил ему этого галчонка, и с тоскою капитан подумал: «Нет, не лежат в такой позе живые». Он просунул руку в рваную дыру, нащупал изнутри замок и отстегнул крышку. Тело штурмана безвольно навалилось на него. Комбинезон Алехина набух от крови. Виктор расстегнул на нем «молнию», увидел разорванную на груди гимнастерку, залитую кровью грудь. Осененный внезапной мыслью, он нащупал на гимнастерке карман, достал из него завернутые в целлофан документы. Не вытирая от крови и не разглядывая, сунул себе в комбинезон, потом взял у мертвого пистолет. Бледное лицо Алехина провожало его застывшими в муке глазами.
– Прощай, Володя, – прошептал сдавленно Большаков, – прощай, родной, и прости, что не в силах тебя вытащить и похоронить.
Потом он, чувствуя с каждой минутой, как тяжелеет раненая нога, добрел до отлетевшего на несколько метров хвоста. Кабины стрелков были сплющены, на хвост пришлась основная сила удара. Под листами дюраля и обрывками пулеметных лент лежали изуродованные трупы Али Гейдарова и нижнего люкового стрелка Пашкова. Верхняя кабина, где всего час назад хозяйничал веселый Али, была, словно сито, изрешечена осколками.
– Сколько же ранений ты получил, – горько покачал головой капитан, – вот и не придется тебе, бедный мой Али, никого приглашать в Баку на шашлык по-карски, и старая Фатьма, твоя мать, выплачет под апшеронскими ветрами свои глаза.
Чувствуя глубокое изнеможение, Большаков опустился на влажную, покрытую мелким мохом землю и заплакал. Широкие плечи вздрагивали под комбинезоном. Вот и конец сто четырнадцатого боевого. Он, командир, видит погибший экипаж и стоит сейчас над обломками «голубой девятки», словно над свежевырытой могилой.
Ветер перед рассветом начал стихать, но лес шумел по-прежнему. Тонко звенели корабельные сосны, будто струны пели в их рыжих стволах. Каждый куст рождал свои особенные шорохи, отвечая снизу шуму ветвей. Виктор вытер рукавом лицо и, стискивая зубы, злобно подумал: «А ты все-таки должен идти, идти на восток. Ты должен добраться до своих и рассказать Саврасову и всем твоим друзьям страшную правду о гибели этих молодых ребят, принести их залитые кровью документы, чтобы все знали, как трудно даются в этой войне победы. Ты не рыжий, чтобы впадать в отчаяние и безвольно погибать в этом лесу. Главное – это подальше уйти от самолета. Вполне возможно, что в окрестных деревнях слышали грохот падения и скоро сюда нахлынут любопытные, а то и гитлеровцы из ближайшей комендатуры».
На мгновение ему показалось, будто за передними кустами раздаются человеческие голоса. Он выхватил пистолет и снял предохранитель, удивляясь тому, с каким равнодушием это сделал. Несколько минут он напряженно вслушивался. Нет, это не голоса. Это кровь у него в ушах стучит. Потом он впервые подумал, как быть с раневой ногой. Она тяжелела, и, самое плохое, что кровь из раны продолжала сочиться. Если ее не унять, он не проковыляет и километра. Тогда он твердо решил заняться перевязкой. Испытывая адскую боль, он кое-как стащил с ноги унт, оголил колено. Марлевый индивидуальный пакет остался в аптечке, он забыл ее взять с. собой, покидая кабину. Снова забраться туда у него не хватит сил. Тогда он вспомнил о парашюте, подполз к нему, финкой располосовал брезентовый мешок и отрезал кусок шелка. Колено сильно кровоточило. Виктор наложил повязку потуже, и, когда вновь натянул унт, ему показалось, будто ноге стало легче и он сможет идти.
«Главное – подальше от самолета», – повторил он про себя, доставая компас. Найти восток было легко, он сделал несколько шагов.
Планшетка с картой ударила о бедро, и рана сразу заныла. «Голова, как же это я позабыл перевесить планшетку на левую сторону». Он это сделал и снова пошел. Несколько раз осторожно ступил на носок правой ноги, обеими руками опираясь на палку. От нее приятно пахло смолой. Виктор добрел до узкой лесной дороги, не оглядываясь на останки того, что совсем недавно называлось «голубой девяткой». Подавленный горем, теряющий силы, он находился теперь в состоянии странного оцепенения. Но если бы его спросили, куда он идет, он бы не колеблясь ответил: на восток. Потерпев аварию над занятой врагом территорией, Виктор теперь делал то, что делали все советские воины, попадавшие в его положение. Он определил восток и шел туда. Там была линия фронта, там был аэродром, там были свои.
Разбившийся самолет стал уже его прошлым. Чтобы остаться в живых и вернуться в полк, он должен был думать только о будущем и постараться уйти как можно дальше от этого опасного места. Виктор не оглядывался назад потому, что не хотел огорчить себя признанием, что идет слишком медленно и что по-прежнему от места катастрофы его отделяют лишь десятки метров. Шаги он тоже не стал считать, сознательно обманывая себя, и ему, теряющему последние силы, от такого обмана становилось легче и начинало казаться, что идет он в общем-то не так уж и медленно.
«Это плохо, что сразу попалась дорога, – подумал он с опаской, – значит, тут ездят и ходят и могут быстро найти место падения». Но когда он пригляделся получше, увидел на поросшей травой поверхности дороги лишь один заскорузлый от засохшей грязи след деревенской подводы, которому могло быть и два и четыре дня. Тяжело дыша и делая частые остановки, он уже перешел проезжую часть дороги, желая поскорее углубиться в чащу. Оставалось перешагнуть небольшую ложбинку. Почувствовав усталость, Виктор остановился перед ней и, запрокинув голову, посмотрел вверх. Уже близок рассвет, и верхушки елей, как нарисованные, стыли на фоне неба. Ветер утомленно сник, вверху пояснело, и звездная россыпь предвещала солнечный день. Его ладоням, опирающимся на плохо обструганную палку, стало почему-то очень больно. Лес снова зашумел так громко, что у Виктора заболели уши. В ту же минуту корабельные сосны, строгие и высокие, вдруг колыхнулись, зашатались до ряби в глазах и повалились на него вместе с осенним сентябрьским небом этого чужого края.
Виктор лежал на спине с полузакрытыми глазами и бредил. Палка валялась у его ног.
– Штурман, где разрывы… Гейдаров, ты почему молчишь, почему не докладываешь о разрывах… Володя, крепись, мы дотянем… Я не рыжий, дотянем…
Потом в обволакивающем сознание тумане увидел оп дядю Лешу. Тот улыбался всем своим красным лицом, поправлял на голове буденовку с отпоротой звездочкой и тянулся похлопать его по плечу:
– Что, паря, заждался? Вот я и приехал за тобой. Обещал забрать на Магнитку и заберу.
– Так я же теперь большой, дядя Леша, я уже не детдомовец.
– Ерунда, паря. Ты мне родной, будешь у меня за сына.
– Но ведь я уже летчик и вожу тяжелый бомбардировщик.
– Кому он нужен, паря? Войны больше не будет. Я на Магнитке сделаю из тебя хорошего горнового.
– Но у меня же Аллочка и Сережка.
– Ты их заберешь с собой. Ты больше не будешь сиротой, паря.
Потом явилась Аллочка. Поправляя белые локоны, она что-то горячо возражала и ни за что не соглашалась ехать на Магнитку.
И снова красный туман, и отчаянный звон в ушах, и боль во всем теле. Аллочка нагибается над ним, ласково спрашивает:
– Тебе что-нибудь надо, Витя?
– Пи-ии-ть, – отчаянно просит он.
– Пи-ии-ть, – хрипло разносится по лесу.
Сколько времени он пролежал, Виктор не смог бы определить. Но когда временами открывал глаза, понимал, что бредит, и от этого становилось уныло и горько. Однажды, с трудом разомкнув веки, увидел он обогретые солнцем красные стволы сосен и между ними белые тела берез. В теплом воздухе пахло диким медом, прелой листвой и хвоей. Легкий шепоток листвы спадал на землю с верхушек. Большаков локтями уперся в покрытую высохшими листьями землю, еще мокрую и холодную от росы, и, приподнявшись, тупо покачал головой. Розовый туман плыл перед ним, голова гудела, и тело не хотело повиноваться.
Среди этого розового тумана он вдруг отчетливо увидел ровный пенек на месте спиленной сосны и фигуру незнакомой женщины. Женщина сидела на этом пеньке, упираясь локтями в острые коленки, приоткрытые короткой юбкой, и ладонями поддерживала подбородок. Голова у нее была непокрытая, и все, что успел запомнить Большаков, – пышные волосы, коротко, по-городскому подстриженные. Под теплым ветром, как ему показалось, они полыхали еще ярче сосновых стволов. Будто крылья, вырастали они за плечами у женщины. Виктор упал, обессиленный и пораженный. «Что за чушь, – подумал он недоуменно, – и чего только не представится во время бреда. Нужно себя перебороть».
Он опять приподнялся, открыл глаза. Женщина сидела на том же месте, хотя розового тумана как не бывало. Виктор испуганно отодвинулся. Было тяжело удерживать равновесие, но, собрав силы, он не упал на спину, остался сидеть, правой рукой опираясь о землю. Желтый пенек стоял метрах в четырех от того места, где он упал, и женщина сидела на нем все в той же позе глубоко задумавшегося и очень усталого человека. Теперь он разглядел ее отчетливо и понял, что это происходит наяву. На ней была короткая замшевая курточка с косо прорезанными карманами, поверх накинут дождевик, на ногах коричневые с высокими каблуками туфли, уместные где угодно, но только не здесь, в глухом и далеком от больших городов лесу. Бледное продолговатое лицо и большие синие глаза под темными бровями. Снизу он увидел на не тронутой загаром шее родинку. Растопыренные пальцы подпирали подбородок, и на одном поблескивало тонкое колечко с белым камнем. «Подосланная, – подумал Виктор, – не будь я рыжий, подосланная».
Почуяв опасность, он выхватил из кармана пистолет, не взводя курка, направил на нее:
– Руки вверх, слышишь!
Она не пошевелилась и продолжала смотреть в упор.
– Кому говорю! – злобно крикнул Большаков. – Или не понимаешь, ну!
Женщина медленно отвела ладони от лица, выработанным движением попыталась натянуть короткую юбку на колени. Движение оказалось бесполезным – колени не закрывались.
Синие глаза ее расширились, но не от испуга – от удивления. И в голосе, тихом и отчетливом, прозвучало то жеудивление человека, не собиравшегося пугаться:
– Мам поднесць ренце до гуры? На цо пану мое ренце?
Виктор медленно опустил пистолет. Ему уже было неловко, что прицелился в эту неизвестно как очутившуюся здесь женщину.
В тот год война согнала с насиженных мест тысячи людей. В поисках пищи и крова бродили они по омертвелым полям, полуразрушенным городам и селам. Крестьяне несли в город последний кусок хлеба и сала, чтобы обменять на потрепанные чеботы или поношенную одежду. Горожане с рюкзаками, набитыми последней одеждой, отправлялись в деревни и на хутора в надежде добыть пропитание. Стараясь избежать встречи с гитлеровцами в этих своих горемычных скитаниях, выбирали они темное время, шли, избегая больших дорог, забредая в глухие овраги и перелески. И не было ничего удивительного в том, что эта женщина, подстегнутая какой-то своей нуждой, очутилась в этом лесу, вблизи от места падения «голубой девятки».
Но обостренное сознание Большакова не хотело принимать этой простой версии. Как и всякий человек, оказавшийся в беде на оккупированной территории, он готов был видеть врага в каждом шевелившемся кустике и тем более в каждом повстречавшемся человеке.
– Вы полька? – спросил летчик.
– Так есть, проше пана.
Они помолчали. Жажда мучила Виктора, и он учащенно дышал, не сводя глаз с незнакомки. На вид ей было около тридцати.
– А вы совецкий летник? – спросила она тем же, то ли грустным, то ли усталым голосом.
– А зачем вам это знать? – насторожился капитан.
– Так вы же разговариваете по-русски, – улыбнулась она.
– Ах, да, – пробормотал он, – а вы разве понимаете по-нашему?
Женщина утвердительно кивнула головой.
– И даже очень хорошо. До войны я изучала в Варшаве русский.
– Как вы тут оказались?
– О! Это долго надо рассказывать. У пана совецкого летника катастрофа, я знаю. И у меня тоже катастрофа. Недавно я похоронила своего Янека. Ему было только три года. Только три… – Она закрыла лицо ладонями и помолчала. Потом, подавив глубокий вздох, добавила: – Вчера утром я вышла из Познани, и мне надо было попасть в веску Бронкув. Я шла по той стежке и наткнулась на ваш разбитый самолет. Там ваши мертвые товарищи и спадохрон.
– Что такое спадохрон? – спросил машинально Виктор.
– Как это объяснить? – она подняла вверх обе руки, и белый дождевик зашуршал: – Это есть то, на чем прыгают с самолета.
– Парашют, – подсказал капитан.
– Так есть, парашют, да, да, – закивала она быстро головой, и снова огненным облаком всколыхнулись ее волосы, освещенные утренним солнцем. – Я подошла к спадохрону и увидела, что от него отрезан кусок материи, а на футляре капли крови, и тогда я все поняла. Я сразу подумала, что не все летники погибли и что кто-то из них жив и пошел в густой лес. И я пошла по следу. Потом я наткнулась на вас. Вы лежали вот здесь, такой сильный, такой большой и совсем беспомощный. И мне стало пана очень, очень жалко. Я перевязала вас. Вы не ушли далеко от своего самолета, пан летник. И я искала вас очень быстро, искала предупредить. Здесь вам нельзя оставаться. Здесь бардзо опасно. Вы должны уходить.
Виктор покачал тяжелой головой и посмотрел на свою вытянутую на земле раненую ногу, на посох, валявшийся рядом. Присутствие незнакомой польки внесло какую-то разрядку в его настроение: тревога, вызванная ее появлением, стала постепенно проходить.
– Ох, пани, добрая пани. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вы же видите, – промолвил он с усмешкой и указал взглядом на костыль. – Мне бы хоть денек отлежаться, может, полегчает.
Женщина жалостливо посмотрела на него. Ее рот болезненно покривился.
– Вам здесь оставаться нельзя, – проговорила она. – Это очень опасно. Вас схватят.
– Здесь рядом немцы? – встревожился Виктор.
– Рядом нет. Но близко есть комендатура, и еще в Бронкуве войсковой госпиталь.
– Меня там лечить не будут, если обнаружат, – усмехнулся он.
– Послушайте, – неожиданно предложила полька, – а вы можете идти, опираясь на меня? Я пану помогу. Добже?
Она старалась говорить по-русски, но, когда волновалась или торопилась, ей не хватало русских слов, и она заменяла их польскими. Виктор многие из них знал, потому что полк Саврасова уже три месяца стоял на польской территории, и он, как и все другие летчики, часто встречался с местными жителями. Он критически оглядел ее худенькую фигуру:
– Прошу прощения, пани, но во мне почти девяносто кило.
– О, это совсем неважно, – сказала женщина, поднимаясь с пенька, – только надо спешить. Здесь поблизости должны быть старые блиндажи.
– Немецкие? – удивился Виктор, недоумевая, зачем фашистам копать здесь блиндажи, если они удерживают фронт на Висле.
– Польские, – уточнила женщина. – Они здесь с тех пор, как Гитлер напал на нашу родину. В этом лесу сражалась наша кавалерийская дивизия. Я не знаю номера. Но поляки сражались храбро, и не их вина, что у них не было танков в самолетов, а были одни тупые начальники, вроде президента Мосьцицкого и маршала Рыдз-Смиглы. Вставайте, пан летчик, нам нельзя медлить.
Виктор нашарил костыль и стал подниматься, чувствуя на себе напряженный взгляд женщины. Он очень боялся, что сразу повалится, так и не встав на ноги, потому что сильно кружилась голова и правая, раненая нога отдавала болью даже в плечо. Возникали тревожные мысли. Кто она, эта полька? Куда хочет его повести? Почему так хорошо говорит по-русски? Может, она попросту хочет привести его поближе к немцам, чтобы потом передать в их руки. Разве не могут лгать ее синие глаза? Но тогда у него хватит сил, чтобы наказать ее за коварство.
Поджав правую ногу, он стоял во весь рост. Солнце уже светило высоко над осенним лесом. В тугом настое воздуха млела дремотная тишина, и ему на мгновение показалось, будто ничего этого нет: ни бесформенной груды металла, оставшейся от «голубой девятки», ни трупов Алехина и стрелков, ни вчерашнего вылета и черного неба над Познанью, клокотавшего зенитным огнем.
– Надо идти, – произнесла в эту минуту женщина, разрушая иллюзию.
Виктор громко вздохнул и сделал несколько шагов. Земля под ним была мягкая, пряная. Кое-где торчали из травы рыжие шляпки грибов, на кустах капельками крови пламенела калина. После первых двадцати – сорока шагов ему показалось, что сил прибавилось и он теперь уйдет далеко. Женщина шла рядом неслышной походкой, и, остановившись передохнуть, он встретился с ее тревожным взглядом. Казалось, она все время хочет что-то сказать, но сдерживается. Когда под ее ногою выстрелила сухая ветка, полька испуганно втянула голову в плечи и сердито прошептала:
– О, пся крев!
– Где вы так научились ругаться, пани?
– На войне.
– А разве пани воюет?
– О, пан летник, – покачала она головой печально. – Родина моя воюет, то верно, а я уже свою войну проиграла.
Он почувствовал – больше расспрашивать не нужно, и замолчал.
Лес местами был густой, и приходилось продираться сквозь сплетения ветвей. Большакову идти было легче, потому что он мог придерживаться руками за ветки. Он напряженно их ловил, пригибал к себе и шел вперед, а потом отпускал, и они за его спиной разгибались со свистом. Они уже прошли около километра, когда Виктор почувствовал неприятную солоноватость во рту и дальние ряды деревьев стали снова подергиваться розовым туманом. Предательская слабость охватывала его, но сказать об этом шагавшей рядом женщине он постеснялся. Нужно было перейти небольшую канаву. Он неосторожно ступил на раненую ногу и, как подрубленный, повалился.
Вероятно, на этот раз он находился в забытьи недолго. Он пришел в себя от приятной свежести и открыл глаза. Женщина плескала ему в лицо холодной водой из ржавой консервной банки.
– Откуда вы взяли воду?
– Рядом лужа.
– Зачерпните еще.
– Вода бардзо недобра.
– Все равно зачерпните.
Она исчезла. Он не услышал ее шагов, их поглотила мягкая лесная земля. Через минуту она возвратилась и поднесла к его губам жесткий край ржавой консервная банки. Виктор попытался сделать глоток, но полька с неожиданной поспешностью отняла банку.








