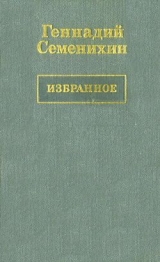
Текст книги "Пани Ирена"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Геннадий Семенихин
Пани Ирена
В древнем польском городе, раскинувшемся вдоль и вширь на многие километры, наполовину сожженном войной и теперь постепенно встающем из пепла, в городе островерхих кирх, длинных трамвайных маршрутов и старых мостов над светлыми водами Одры, на самой его окраине, у развилки дорог, есть скромное солдатское кладбище.
Лет двадцать назад, когда город носил немецкое название, этого кладбища по было. Оно появилось после войны как печальный памятник советским солдатам и офицерам, не дожившим до солнечного Дня Победы, сраженным в последних боях или умершим в полевых госпиталях от неизлечимых ран уже после этого дня. Сначала это кладбище было скоплением одиноких разрозненных могил, наспех вырытых, иногда увенчанных деревянным столбиком с красной пятиконечной звездочкой и дощечкой, где написано, кто здесь похоронен, когда родился, до какого воинского звания дослужился в боях и походах и когда, в какой день победного сорок пятого года, настигла его смерть. С годами ласковые руки людей, получивших жизнь и свободу от тех, кто уже никогда не встанет из могил, превратили это маленькое солдатское кладбище в цветущий парк. Обнесенное серым решетчатым забором, оно теперь увенчано со всех четырех сторон высокими серобетонными башнями. На постаментах стоят тапки и пушки с длинными стволами. Нет, это не декоративные украшения. Потрогайте их, и вы убедитесь, что эти пушки, так же как и танки, из самого настоящего твердого сплава. Металл почернел от времени, но остался таким же прочным, каким и был в последних, нелегких боях. И стоят теперь эти орудия и танки как символы величия и бесстрашия русского солдата.
Большая арка украшает главный вход. Если войти в нее, увидишь в конце кладбища под пышными кленами одинокую голубую скамейку. Тот, кто сядет на эту скамейку, может хорошо обозревать ровные аккуратные ряды могил, симметрично разделенные асфальтовыми дорожками, прямоугольные плиты с врезанными в камень фамилиями погибших. Почти все плиты серые. Но местами темнеют на кладбище надгробия из черного мрамора, и по ним узнаешь могилы генералов и Героев Советского Союза, честно принявших в этих краях обидную солдатскую смерть за несколько дней, а то, может быть, и за несколько часов до окончания войны.
В майский полдень над кладбищем царит безмолвие. Легкие струйки пара поднимаются от влажной земли. Между могилами не колыхнется от ветерка пестрое поле цветов. В будние дни редко кто заходит сюда в полдень. И от этого безмолвия особенно величественной кажется каменная фигура солдата, высящаяся над кладбищем. Может быть, не все совершенно в этом памятнике, не все подчинено строгим закопам искусства. Есть и излишняя грубоватость в очертаниях лица, и сразу бросающаяся в глаза громоздкость в позе солдата, но разве обращает на это внимание тот, кто приходит на кладбище, кого уже и так щемящей болью взяла за сердце тоскливая тишина могил, затененных подстриженными кустами? Этот молчаливый, высеченный из камня воин, одиноко возвышающийся над ними, лишь усиливает впечатление. И нет ничего удивительного в том, что советский полковник, появившийся в будничный полдень на этом кладбище, начал его осматривать именно с этой фигуры. Полковник подъехал к кладбищенским воротам на запыленном вездеходе ГАЗ-69, на котором долго носился по окраинам города, прежде чем нашел нужную развилку дорог. Его водитель, совсем молоденький курносый солдат-первогодок, несколько раз останавливал машину и, коверкая польскую речь, спрашивал прохожих, как проехать к кладбищу. Он и полковник, прислушивавшийся к ответам, понимали далеко не все, но переспрашивать считали неловким и поэтому, выслушав ответ и поблагодарив прохожего коротким польским «дзенькую», поворачивали совсем не па тех городских перекрестках, где им советовали. Наконец рабочий, ковырявшийся с киркой па обочине шоссе, более седой от пыли, нежели от прожитых лет, указал рукой вперед:
– Теперь просто, пане пулковнику, совсем просто.
И они вскоре увидели кладбищенские ворота. ГАЗ-69 остановился, не доехав до них. Полковник грузно вылез из неудобной машины, водитель следом за ним соскочил на мягкую травку.
– Куда, Сидоров? – окликнул офицер.
– С вами, товарищ полковник.
– Не надо.
Солдат-первогодок обидчиво поджал пухлые губы и сердито поправил непокорную прядку. Сквозь мелкие веснушки на щеках пробился румянец смущения. И полковник, заметивший, что подчиненный обижен невольной резкостью его слов, сказал мягче, пряча в зеленоватых глазах усмешку:
– Не сердись, Олег. Так надо. Я один здесь побуду. А ты погуляй или почитай, что еще лучше…
И пошел к арке. Когда она осталась за его спиной, он остановился и огляделся. Каменный солдат смотрел на него из-под каски строго бесстрастным взглядом, словно говорил: «Иди дальше, иди».
И полковник пошел. Ровные ряды надгробий были перед его глазами. Полковник обходил их медленно, внимательно вглядываясь в надписи. Сойдя с центральной, разогретой солнцем асфальтовой дорожки, шел он замысловатыми петлями меж каменных плит так, чтобы не миновать ни одну из могил. Один раз он наклонился, чтобы получше рассмотреть какую-то стертую надпись. Светлые, уже порядком поредевшие волосы небрежными прядями упали на прорезанный морщинами лоб. Это несколько оживило лицо полковника, на котором своей обособленной жизнью жили зеленоватые глаза. Что-то переменчивое светилось в этих глазах: то притаенная усмешка, то твердость и сухость, когда зрачки замирали, устремившись в одну точку, то удивленность, почти детская, когда расширялись они, заставляя нервно взлетать вверх брови. На темных полевых его погонах блестели авиационные «птички», одна из которых была прикреплена неверно, крылышками в обратную сторону, а на груди, над тремя рядами планок, нетускнеющим блеском золота сияла маленькая звездочка.
Возле одной из могил полковник остановился, слабая полуденная тень легла на клумбу, но тотчас же метнулась назад, потому что полковник резко выпрямился. Пальцы в черных волосках, сжимавшие козырек фуражки, стиснули его еще сильнее. Не то гравий захрустел под подошвами сапог, не то вздоха, тяжелого, шумного, не смог полковник подавить вовремя и, словно рассердившись на то, что этот вздох вырвался, плотно сжал губы. Зеленые глаза под выгоревшими от солнца ресницами стали горькими, и морщины пробежали по одутловатому лицу.
– Здесь, – самому себе сказал полковник и прочел на такой же, как и десятки других каменных плит: – «Гвардии капитан Виктор Федорович Большаков.
Июль 1920 – май 1945 год».
Прочел сначала про себя, а потом вслух тем же странным осипшим голосом, таким неуместным в устоявшейся кладбищенской тишине. Потом помолчал и совсем неожиданно, совсем уже не осипшим, а торжествующим голосом выкрикнул:
– Виктор Большаков, Виктор!
Над обнаженной головой полковника плыло ослепительно ясное майское небо. Рядом шумели клены, трелями захлебывались жаворонки, то припадая к земле, то мячиками отскакивая от нее. Со стороны города доносились приглушенные гудки паровозов, шум фабрик, звон трамваев. Прикованный к короткой надписи на мотальной плите, полковник не обратил внимания на голубенькую скамейку, затерянную меж подстриженных кустов, не заметил, как отделилась от нее одинокая женская фигура. Гравий почти не скрипнул под легкими торопливыми шагами. Женщина шла напрямик к нему, минуя памятники и клумбы. Не шаги, а ее возбужденное дыхание услыхал он за своей спиной и стремительно обернулся, недовольный тем, что кто-то посягнул на его одиночество. Женщина явно была не русской. Об этом говорило и длинное белое, не по-вашему скроенное платье, и темный платок, простенький, с нерусскими орнаментами, и широкий черный пояс, плотно перехватывающий талию. В темных, коротко подстриженных волосах виднелись редкие нити седины. Худенькое бледное лицо с узким подбородком было суровым.
Вероятно, она ожидала увидеть кого угодно, по отнюдь не советского полковника: суровое выражение на ее лице сменилось беспокойной растеряностыо.
– Пане пулковнику, – заговорила она недовольно, – так бардзо не добже. Здесь кладбище. Здесь не говорят громко.
Тонкие губы женщины оскорбленно подобрались. О «сначала смутился, но, овладев собою, беспечно возразил:
– А почему бы мне и не говорить громко, пани? Что я, рыжий, что ли?
– Рыжий, – повторила за ним женщина растерянно. – Пан полковник произнес слово «рыжий»… Товарищ полковник, товарищ полковник, вы… – Она еще раз взглянула в его зеленоватые глаза, щурившиеся от солнца, – Виктор!
Полковник вздрогнул, все уже поняв.
– Ирена…
– Неужели это ты! – тихо проговорила женщина. – Неужели ты стоишь рядом… живой?
– А что же я, рыжий, что ли, чтобы помирать! – взяв себя в руки, засмеялся полковник.
– Да, да, – глухо проговорила она. – Но как же это? – Женщина посмотрела растерянно на серое надгробие, у которого они стояли. Полковник тоже посмотрел на обелиск, еще раз прочитал все, что значилось на могильной плите:
«Гвардии капитан Виктор Федорович Большаков. Июль 1920 – май 1945 год»…
* * *
Среди военных летчиков много зеленоглазых. Кто знает, почему. Может быть, оттого, что зеленый цвет глаз часто присущ людям порывистым и смелым, закалившим в себе волю. Или оттого, что глаза у летчиков, как ничьи другие, преломляют в себе самые различные небесные оттенки. Словом, среди тех, кто сделал своей профессией полеты в небо, много людей с зелеными глазами.
В человеческом обиходе употребляется выражение: прочитать в глазах. Им довольно часто пользуются и в устной и в письменной речи. И действительно, во многих случаях по глазам сравнительно точно угадывается состояние людей: в горести они или в радости, в тоске или в тревоге. Но у летчиков, обладающих зелеными глазами, сделать это значительно труднее. При всей несовместимой разнообразности оттенков такие глаза часто имеют одну особенность. В нужную минуту они становятся непроницаемыми, словно покрываются заледенелой пленкой, и тогда невозможно узнать, что у человека на душе. Он может бороться с растерянностью, или же тосковать, или раздумывать над принятием важного решения, или быть совершенно спокойным, прогнав от себя робость и неуверенность, – об этом нельзя догадаться по глазам. Чуть насмешливый холодный зеленый блеск их ничего не выдаст тому, кто в эти глаза заглянул.
Попробуйте подойти к срубу и посмотреться в глубокий колодец. За темно-зеленоватой поверхностью вы никогда не увидите дна.
Именно такие глаза были у двадцатичетырехлетнего Виктора Большакова, гвардии капитана, командира корабля из полка тяжелых бомбардировщиков. Любые раздумья и переживания умел он прятать за внешней бесшабашностью и холодной насмешливостью зеленых глаз. Совершив сто тринадцать полетов на бомбометание по дальним объектам, попадал он в самые различные переделки. Не однажды отбивался со своим экипажем от истребителей противника и приводил на аэродром тяжело поврежденную машину. С большим трудом, вопреки всем правилам техники пилотирования, приземлив эту машину, он с удовольствием, прибегая, как и все летчики, к жестикуляции, рассказывал об этик переделках, но никогда его глаза при этом не изменяли спокойно-насмешливого выражения. А если ему было трудно или попросту не хотелось о чем-нибудь распространяться, он, как древний рыцарь за щит, прятался за одну и ту же фразу, которую повторял до надоедливости часто с нарочито дурашливой ухмылкой:
– Да что я, рыжий, что ли? – И умолкал.
Однажды беседовавший с ним по какому-то важному вопросу замполит полка, пожилой и всегда степенный подполковник Латышев, не выдержал и вспылил:
– Послушайте, капитан, мы разговариваем с вами какие-нибудь десять минут, а вы этого рыжего уже пять раз произнести удосужились. – Замполит снял очки в роговой оправе и рассерженно положил их на стол. – Просто не понимаю. Смотрел на днях ваше личное дело, там черным по белому написано, что до авиационной школы вы в индустриальном институте учились. Ну должна же у вас быть какая-то элементарная интеллектуальность.
Но опять промолчали зеленоватые глаза летчика, лишь уголки рта не то насмешливо, не то обиженно покосились.
– Что касается интеллектуальности, об этом вы со мной после войны приходите рассуждать, – спокойно возразил он, – а сейчас штурвал, триммер, противозенитный маневр… да и вообще, рыжий я, что ли, чтобы об этой интеллектуальности распространяться.
Виктору вспомнилось детство, тесная, на пятнадцать человек, детдомовская комната и его сосед по койке – рыжеголовый слабосильный Валька, у которого петлюровцы заживо сожгли в хате отца и мать. Среди этих пятнадцати нечесаных и не всегда сытых ребят был несносный задира Славка-гусь, безжалостно помыкавший всеми. Только новенького – Виктора – он не трогал, остерегаясь его насмешливых зеленых глаз и жестких кулаков. Однажды Славка-гусь отобрал у рыжего Вальки плитку макухи и, бесстыдно болтая ногами, стал есть ее на глазах у потерпевшего. Было это вечером, перед сном. Виктор вошел в комнату, когда рыжий Валька, всхлипывая от обиды, клянчил:
– Отдай, Гусь… исты хочу… отдай!
Трудно сказать, что разжалобило сразу Виктора, – то ли сморщенное заплаканное личико мальчика, то ли наглая уверенность обидчика, – но только он шагнул к сидевшему на табуретке Славке и потребовал:
– Отдай сейчас же, Гусь… слышишь!
– Подумаешь, командир нашелся, – презрительно протянул Славка, с хрустом грызя макуху: – Вот надаю по шее, будешь знать.
Договорить он не успел. Ударом в подбородок Виктор сбил его с табуретки и навис над ним всей своей плотной фигурой. Плитка макухи полетела в сторону, и обрадованный Валька тотчас же ее схватил, Славка-гусь, сопя, поднялся и замахнулся было на Виктора, но на него посыпались новые удары. Под левым глазом у Гуся вспух красный рубец.
– Пусти, что ли… – запросил он пощады.
– То-то же, – переводя дыхание, смилостивился Виктор. – И запомни, что я тебе не рыжий.
И понес он с тех пор по жизни это грубоватое изречение. Словно куст крапивы в чистый огород, проникло оно в его речь да так и прижилось. Но не объяснять же все это замполиту. И Большаков ответил на его слова усмешкой, которую замполит истолковал совсем по-другому.
Таким же холодно-спокойным был Виктор и в те минуты, когда получал новое задание. Полковник Саврасов, командовавший гвардейской частью дальних стратегических бомбардировщиков, был хорошо известен на всех фронтах. Это он в жестоком сорок первом году, когда немцы были у Химкинского водохранилища и, как казалось почти всему миру, должны были захватить Москву, совершил со своим экипажем неслыханной дерзости налет на Берлин, чем и вошел в историю войны. Саврасову было на год больше, чем гвардии капитану Большакову, и был он для всех летчиков непререкаемым авторитетом, потому что летал наравне с ними и никогда не прятался за чужие спины, если выпадали трудные боевые задания. Появившись у командира полка в кабинете, Виктор небрежно откозырял и вместо уставного «гвардии капитан Большаков явился по вашему вызову» коротко спросил:
– Звали, товарищ полковник?
Саврасов вместе с начальником штаба сидел над картой фронта и дальних тылов противника, разостланной на добротном письменном столе с резными массивными ножками, но такой большой, что она падала со всех сторон на паркетный, давно не вощенный пол.
Штаб полка размещался в старинном фольварке с белыми ажурными колоннами, принадлежавшем Казимиру Пеньковскому, предусмотрительно сбежавшему с отступающими фашистами. В большом зале на стенах висели портреты. Саврасов, выбиравший помещение под штаб, войдя в парадный зал, решительным жестом указал ординарцу на стены:
– Этих убрать в сарай.
Через минуту вбежал запыхавшийся замполит Латышев и сердито воскликнул:
– Ну не ожидал я от тебя, Александр Иванович! Ты же Шопена и Сенкевича выбросил. Да еще Огинского в придачу.
– А, черт, – выругался Саврасов, – они же без подписи были! Тогда всех назад, ординарец.
– Постой, командир, – засмеялся замполит, – всех назад тоже не надо. Там же Пилсудский и Мосьцицкий вместе с ними.
И остались в зале портреты всему миру известных поляков, о которых вчерашний молотобоец Сашка Саврасов, добродушно улыбаясь, сказал: «Вот черт, теперь я эти лица до самой смерти не спутаю».
…Услыхав спокойный, чуть глуховатый голос Большакова, Саврасов поднял голову. На кителе у него звякнули две золотые звездочки.
– Садись, Виктор, в ногах правды нет.
Большаков сел в большое мягкое кресло. Резные подлокотники щерились на него львиными зевами. Он положил планшетку ребром па колени, придавил ее тяжелыми ладонями.
– Ты как отдохнул? – поинтересовался Саврасов.
– Вполне удовлетворительно.
– Вот и хорошо. Пойдешь ночью на большой радиус. Очень сложное и опасное задание, не скрываю…
– Чего ж скрывать, – пожал плечами Большаков, – мы не в прятки играем, воюем. А я уже пережил свой сто тринадцатый вылет. Раз па сто тринадцатом не сбили, дальше жить будет легче.
– Вот и пойдешь в сто четырнадцатый, – подытожил полковник. – Смотри. – И оп ткнул красным карандашом в карту. Между Брестом и Бяла Подляской маленьким кружком затерялся аэродром Малашевичи, что приютил дальние бомбардировщики полка. Острый карандаш провел от этого аэродрома длинную, в несколъко изломов линию. – Пойдешь вот так, – озабочено продолжал полковник Саврасов, – от Малашевичей до Минска-Мазовецкого на полторы тысячи метров. Дальше впереди линия фронта и Варшава. Варшава нам, конечно, ни к чему. Ее надо обойти. От Минска-Мазовецкого скользнешь на север и Вислу пересечешь южнее Вышкува. На этом отрезке наберешь пять тысяч метров. Зенитки тебя, разумеется, обнаружат и обстреляют. Уйдешь за облака и потом с курсом двести восемьдесят пять выйдешь за городом Коло. Отсюда, над этими вот лесными массивами, пройдешь до южной окраины Познани. Здесь их центральный аэродром. Он послужит тебе ориентиром. Видишь, как все сложно с маршрутом.
Большаков недоверчиво усмехнулся:
– В сорок первом из-под Орла на Констанцу и па Плоешти посложнее были маршруты.
– Подожди, не суйся поперед батьки в пекло, – сдержанно осадил его полковник, – самого главного не успел еще тебе сказать. Дело не только в маршруте. Очень трудна и опасна цель. Здесь, в районе познанского аэродромного узла, твой экипаж должен снизиться до четырехсот метров. Сам знаешь, что это такое, когда ПВО будет работать на полную катушку.
– А цель? – нетерпеливо перебил Большаков.
– Цель точечная, – медленно произнес Саврасов, и его смуглое лицо южанина стало еще более серьезным.
– Мост?
– Нет.
– Вокзал?
– Тоже нет. Казино. Казино, под которое они приспособили бывший кинотеатр. Сегодня там большое совещание фашистского командования. Будет весь цвет Варшавского фронта: и старшие офицеры, и генералы.
– А откуда вы с такими подробностями, – осклабился Большаков, – они вам что, пригласительный билет разве прислали?
Саврасов погасил улыбку в коротких густых усах.
– Вроде как да. Только не они, а наши разведчики. Теперь ты понимаешь, какое это облегчение для всего фронта, если ты накроешь всю эту сволочь серией бомб.
– По-ни-маю, – врастяжку ответил Виктор.
– Ну и отлично, – не глядя ему в глаза, продолжал командир. – На высоте четыреста метров подвесим пад юго-восточной окраиной Познани САБ. [1]1
САБ – светящаяся авиабомба.
[Закрыть]Бомбить будешь по данным нашей разведки. Наши разведчики дважды подадут сигнал: две зеленые и одну красную ракеты. Кинотеатр рядом с двумя костелами. Их постарайся пощадить. Нам сейчас с папой римским ссориться нечего. Вот, кажется, и все. Можешь идти и прокладывать со своим штурманом маршрут.
Но Большаков не уходил.
– Понятно, – медленно протянул он, – значит, будем бомбить, как «илы», почти с бреющего. Хорошенькая работа! Не каждый день бомберам такую задают.
– Если не уверен, что попадешь, откажись, – сухо предложил полковник, снова наклоняясь к карте и всем своим видом показывая, что разговор исчерпан.
– Зачем же, – усмехнулся Большаков, – что я, рыжий, что ли, чтобы не попасть, да еще с таким штурманом, как Алехин.
– Тогда прокладывайте маршрут. Вылет в двадцать один ноль-ноль.
Когда осенние сумерки плотно легли на землю, открытый, много раз чиненный «виллис» заехал за Виктором Большаковым. На заднем сиденье сидели штурман Алехин и два воздушных стрелка, неестественно громоздкие в мягких меховых комбинезонах. Летный состав носил их и в теплое время, потому что в дальних полетах приходилось подниматься на большие высоты. Эти трое плотно жались друг к другу, стараясь оставить для капитана побольше места. Рядом с водителем сидел полковник Саврасов, в шлемофоне, коричневой кожаной курточке и франтоватых хромовых сапогах, таких тесных, что было удивительно, как это он еще ухитрился засунуть в голенище ракетницу.
– Готов, что ли, Виктор?
– Готов.
– Ну, полезай, дружище. Назвался груздем – полезай в кузов.
– Я груздем не назывался, – с холодной усмешкой откликнулся гвардии капитан, – это вы меня в грузди определили…
– А что, уже не нравится? – подзадоривающе спросил Саврасов. – Могу Яровикову или Нечаеву поручить это задание, а тебе другое. К примеру, скажем, два отработанных мотора в Куйбышев на Безымянку переправить. До Волги лети себе полегоньку: ни тебе «мессеров», пи зениток, даже прожектора ни одного. Курорт!
– Висла – это тоже ничего, – огрызнулся лениво Большаков, – она при зенитках и прожекторах совсем как в карнавальную ночь. А па Волге затемнение от устья и до истоков. Обойдемся и без Яровикова с Нечаевым как-нибудь.
«Виллис», скрипя изношенными рессорами, подпрыгивал по кочкам и уже несся наискосок по летному полю к одной из самых дальних стоянок, где находилась «голубая девятка» гвардии капитана Большакова.
У полковника Саврасова была одна отличительная черта. Он становился особенно заботливым и внимательным, когда речь шла об очень ответственном, сопряженном с огромным риском полете. В таких случаях он всегда до самой стоянки провожал экипаж и в зависимости от того, что за человек был командир экипажа, либо говорил ему дерзкие, подзадоривающие слова, как сто он делал сейчас с Виктором Большаковым, которого втайне сильно любил, либо до надоедливости был ласковым и предупредительным, если имел дело с летчиком, по его мнению, немного колеблющимся, которого надо было подбодрить и упрочить в нем уверенность в успешном возвращении.
На этот раз боевое задание было не только весьма трудным и опасным. По мнению начальника штаба полка, экипаж, сумевший накрыть бомбами кинотеатр, где происходило совещание нацистов, должен был впоследствии попасть под губительный огонь зенитных батарей и быть неминуемо сбит. Саврасов этого мнения не разделял. Он даже прикрикнул на подчиненного, когда тот не совсем уверенно сформулировал эту свою точку зрения, по про себя подумал, неприязненно поглядев на седую голову пятидесятилетнего начальника штаба: «А ведь прав старый штабной волк». И у него самого, у бывшего кузнеца Сашки Саврасова, руководившего первым налетом на Берлин, горько и обидчиво застучало сердце оттого, что не Мог он беспощадно опровергнуть эти такие неуместные слова о живом.
Вот почему, провожая гвардии капитана Виктора Большакова в полет, интуицией опытного летчика, побывавшего во всяких переплетах, понял он, что не может с безупречной точностью ожидать назад этот самолет и его приземление, которое было указано в таблице боевого расчета под цифрами «23.57». И от этой жестокой реальности тоской наполнилось сердце командира. Так они и ехали в одной машине к самолетной дальней капонирной стоянке: дважды Герой Советского Союза, молодой, дерзкий полковник, которого знала вся страна, и никому за пределами своей части не известный рядовой командир экипажа гвардии капитан Виктор Большаков. Они всю войну провели вместе, в одном полку, и были незримые нити, которые их прочно связывали, временами превращая отношения начальника и подчиненного в отношения ровесников.
Над аэродромом набухали плотные сентябрьские сумерки. Пожелтелые листья грустно шевелились на деревьях. Их глухой и невнятный шелест наполнял тоской. Сквозь просветы между деревьями с опушки виднелось широкое, потонувшее в сумерках поле аэродрома. Ночью казалось, что нет ему ни конца, ни края. Высокие кили дальних бомбардировщиков сейчас почти не проглядывались даже на близком расстоянии. «Виллис», чихая мотором, домчал их до притаившейся под маскировочной сетью «голубой девятки». Приняв от техника рапорт о готовности материальной части, Виктор стал па земле надевать на себя парашют, затягивая на толстых ногах лямки. Один за другим защелкнулись замки. Фантастически толстый в вечернем мраке, Большаков похлопал себя по коленкам кожаными крагами, глуховато продекламировал:
Были сборы не долги,
От Кубани до Волги…
В потемках не различишь его глаз, но о самочувствии его гораздо точнее можно было судить по голосу: он явно подсмеивался над полковником, остающимся на земле, над его виноватой заботливостью. Саврасов подошел к капитану ближе, положив на плечо ему руку:
– Ты только не дури, Виктор. Риск, разумеется, риском, но не дури. Осторожность, она никогда не вредна. Я уважаю тебя, дружище, и ты это знаешь, – тепло признался полковник, – и если бы не мне, а тебе пришлось бомбить Берлин, ты бы это задание не хуже выполнил.
– Ну это вы уже зря, Александр Иванович, – перебил гвардии капитан.
Но полковник в знак возражения поднял правую руку, сжав ее в кулак, толкнул по-дружески капитана в спину.
– Ладно, ладно, старик, давай возвращайся благополучно.
А потом захлопнулись люки, и аэродром огласился гулом запущенных моторов.
* * *
Рев моторов сплетался в тугую басовитую струю.
Уже несколько минут «голубая девятка» находилась в воздухе. Оба двигателя равномерно пожирали высокооктановое горючее. Правая рука Большакова очень легко лежала на штурвальной баранке, а ноги в тяжелых унтах время от времени утопляли то одну, то другую педаль. В кабине было выключено освещение, но приборная панель не стала от этого темней. Фосфоресцирующие стрелки матово отсвечивали. Свет этот напоминал мертвенное мерцание северного снега под стылой луной, но на Виктора удручающего впечатления не производил. Наоборот, он ему больше напоминал ровный, успокаивающий глаза кабинетный свет, при котором хорошо читать умные, интересные книги или готовиться к занятиям. Немного замкнутый по натуре, Виктор любил ночные полеты. Время в них тянулось медленнее, чем в дневных, опасности возникали только над линией фронта, большими городами и целью, а на остальных этапах маршрута, когда большая машина, растворившаяся в бескрайнем ночном мраке, становилась настоящей невидимкой, летчиком овладевало подкупающее спокойствие. Под ровный шум моторов, поставленных на большой шаг винтов, хотелось думать и думать.
И еще любил Виктор этот двухмоторный бомбардировщик за его приспособленность к дальним полетам, проходившим очень часто в облаках или за облаками, когда и земля-то не видна, да за уютность обжитой кабины. Раньше летал он и на Пе-2 и на СБ, но там приборная доска почему-то казалась ему сложнее и само расположение тумблеров, рычагов и кнопок не таким удобным, как здесь.
По глубокому убеждению Виктора Большакова, все летчики делились на три категории: на случайных, неприспособленных и прирожденных. Первая категория пояснений не требовала. Входили в нее люди, попавшие в авиацию по недоразумению. Чаще всего в пилотскую кабину их приводил юношеский порыв, а потом они уясняли, что авиация вовсе уж не такое романтическое занятие, каким казалось. Одни из этих случайных быстро выбывали: кто погибал в авиационных катастрофах, кто пользовался первым удобным случаем, чтобы списаться и как можно дальше оказаться от сложной, неподвластной ему машины, именуемой самолетом. Те же из них, кому не пришлось ни погибнуть, ни списаться, оставались в авиации тяжким грузом и составляли категорию неприспособленных, про которых инструкторы и командиры давным-давно сложили ходкую поговорку о том, что медведя и того научить летать можно. И наконец, третья, наиболее многочисленная категория – к ней, несомненно, принадлежал и сам Виктор Большаков – состояла из летчиков по призванию, влюбленных в авиацию и преданных ей «от дна до покрышки», как об этом говорил тот же полковник Саврасов.
Возможно, поэтому, немногословный и замкнутый на земле, Виктор Большаков словно оттаивал в воздухе. Черты его лица становились мягче, нижняя челюсть не казалась тяжелой, а зеленые глаза излучали добрый и нежный свет, и не было в них обычного ледка. Голос его тоже был добрым и мягким, когда окликал он по переговорному устройству членов своего экипажа или подбадривал их в минуты опасности. В полете ему приходили самые неожиданные мысли, и он любил им предаваться в ночной тишине и одиночестве, когда затерянной песчинкой в синем от звезд пространстве шел бомбардировщик к цели, ровно, без толчков и побалтывания, отчего скорость почти не ощущалась.
Сейчас Виктор испытывал легкое давление на уши. Самолет шел с набором высоты. Под широкими плоскостями «голубой девятки» уже промелькнули темными, едва различимыми контурами и маленький зеленый городок Бяла Подляска, и железнодорожный узел Седлец, и, наконец, приблизился, наплывая на огромный остекленный нос бомбардировщика, беленький, провинциально уютный Минск-Мазовецкий. «Кто же это мне говорил, – усмехаясь, вспомнил Виктор, – будто, когда у Пилсудского сдохла любимая собака, он велел поставить ей в этом городе на собачьей могиле обелиск. Интересно, правда это или брехня?»
– Гейдаров! – окликнул он стрелка-радиста.
И мгновенно с легким кавказским акцентом отозвался из хвостовой рубки сержант:
– Слушаю, командир.
– Передай, что прошли Минск-Мазовецкий и меняем курс.
– Есть, командир.
– Штурман, меняем курс, как настроение?
– Гвардейское, командир, – засмеялся в наушниках Алехин.
От прибавленных оборотов оба мотора с натугой завыли, и носовая часть самолета приподнялась. Земля теперь удалялась от них, поглощенная сумерками фронтовой ночи. «А все-таки она тихая, – подумал Виктор, – вот что значит летать не в сорок первом, а в сорок четвертом». И ему вспомнилось, как, бывало, с этим же самым экипажем ходил он на боевые задания суровой зимой сорок первого. Он тогда взлетал с Раменского аэродрома, а дальними объектами считались цели под Киевом, Полтавой и Львовом. И пока шли до фронта, даже в самую темную ночь, напоминала о себе земля пожарами, густыми струями пламени, с высоты казавшимися каплями крови на теле родной земли. «А теперь уже мы вырвались из плена, – подумал он, – сами наступаем».
Капитан вспомнил об экипаже. Он к нему очень привязался. И к застенчивому белявому штурману старшему лейтенанту Алехину, и к стрелку-радисту, всегда шумному, жгуче-черному азербайджанцу Али Гейдарову. Вот Пашков, нижний люковой стрелок, у него сегодня новый, с этим он не летал. Но в воздухе с пим будет поддерживать связь только Гейдаров, а у самого командира корабля лишь два радиокорреспондепта: штурман и стрелок-радист. Он их знал еще по сорок первому и доверял им беспредельно. Алехин увлекся математикой, а Гейдаров возил за собой с аэродрома на аэродром подаренную ему, как он говорил, еще дедом, зуриу и на досуге пел то длинные, как ночь, то стремительные, как ветер, родные азербайджанский песни. Его поддразнивали, часто спрашивая, хорош ли город Баку, и Гейдаров, скаля. от удовольствия большие белые зубы, хлопая себя по ляжкам, восклицал:








