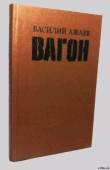Текст книги "Газета День Литературы # 116 (2006 4)"
Автор книги: Газета День Литературы
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Еще раз прошу извинить меня за грубость и слишком длинное письмо. Из-за сложности темы объяснить более кратко я просто не в состоянии.
Каверин пробежал глазами по тексту – вроде бы понятно. Сложил листки в конверт, подписал: «Коротенко Галине». Затих в задумчивой нерешительности: «Да, Павел Матвеевич, письмо написано твоей рукой, а мысли-то в нём не только твои, но и твоего ведомого, Лёшки Блаженова. Вот и утверждай после этого, что подчинённый не может быть умнее своего командира…»
Владимир Бондаренко ДОРОГОЙ ЛИРНИКА. о песенной поэзии Александра Боброва
Песни Александра Боброва я воспринимаю давно как часть своей жизни. Кому-то нужен Окуджава, кому-то Галич, а я из всей славной плеяды истинных творцов песенной поэзии выделил Александра Боброва. Может быть, сказалось сходство судьбы, сходство душ. То, о чем пел Александр Бобров под негромкую и незатейливую гитару свою, было близко и мне.
Это какой-то загадочный,
русский наш дар —
Петь, если даже судьба
нам наносит удары.
Всех, кто не сдался
и сердцем не сделался стар,
Время добьет,
но по-свойски зачислит в гусары.
Вот этот его природный песенный оптимизм при достаточно нелегкой судьбе сдружил нас еще в семидесятые годы, когда мы вместе работали в «Литературной России». Мы еще вращались в разных компаниях, еще не знали как следует друг друга, но была уже заложена сигнальная система: «свой» – «свой». Достаточно было услышать друг друга, ввязаться в спор на недельной итоговой планёрке, чтобы понять, на него можно положиться. И в этом знаковом, объединяющем нас сигнале не было, как ошибочно могли думать иные, ни обозначения нашей национальной принадлежности (слава Богу, русских литераторов и в «Литературной России», и в московских литературных кругах вполне хватало, куда более решительно настроенных, чем мы с Александром), ни знакомого по армии обозначения единого землячества (землячество сблизило нас с Валентином Устиновым, Бобров же – певец Замоскворечья – от нашего русского Севера был достаточно далёк), ни общих литературных кумиров (скорее, иные из моих литературных кумиров того времени были далеки и даже чужды Боброву). В нашей взаимной приязни, видимо, было и первое, и второе, и третье. И общие литературные любимцы нашлись (тот же Аполлон Григорьев, к примеру), и русскую старину московскую ли, северную ли мы одинаково любили, и от русскости своей не отказывались, хотя и не кичились ею.
Может быть, одинаковая любовь и преданность литературе? Не чиновный и не журналистский подход к простым смертным? Я давно заметил, среди моих театральных и литературных друзей, как правило, люди, лишенные избранничества, использующие свой творческий дар – каковой у них имеется, легко и непринужденно, в простом со-товариществе с другими. Как сказал еще одному моему другу Николаю Пенькову соратник на баррикаде в октябре 1993 года: надо же, где приходится с народными артистами знакомиться. А ведь и на баррикадах, и под огнем – были такие, кто всегда под охраной, в почтенном отдалении от простонародья. Мы с Бобровым всегда, на всех своих постах и при всех регалиях – были простыми баррикадниками, простыми окопниками, простыми солдатами русской словесности.
Значит, мы выпьем за то,
чтоб на нашем веку
Не поддаваться указу и женскому сглазу.
Мы – у Дениса Давыдова
в сводном полку.
Нам отступать —
вестовой не доставил приказа!
Так и песни его – несомненно, авторские, но схожие и мелодикой, и песенным ладом с народными, вплоть до старорусских баллад и походных маршей. Не случайно в армии Александр Бобров был ротным запевалой, кстати, так же, как и его старший друг и учитель Николай Старшинов. Может быть, пройдет время, и в частях будут на марше шагать под песни Александра Боброва, даже не подозревая, кто же их автор. Да и мы сами, давно уже, когда добирались однажды до легендарного Поля Куликова на славный юбилей русской победы, снимали с себя усталость с помощью «Ратной песни» нашего друга.
Я стреноженных вижу коней.
Всё покоем и вольностью дышит.
Сколько сложено песен о ней.
А Непрядва течет и не слышит.
Пал туман, как пожарища дым.
Кони русские ржут за Сулою.
И походным кострам боевым
Всё никак не покрыться золою.
Когда он пел эту песню под гитару, то в какой бы походной обстановке ни исполнялась песня, становился одновременно и артистичен, и по-строевому подтянут.
А потом и мы уже подтягивали, настраивались на тот же ратный лад, на который настраивались и сами русские воины со времен Поля Куликова до ратников сегодняшних чеченских баталий.
Ни чудищу, ни идолу,
Ни коршуну, ни ворону
Не отдадим в обиду мы
Свою родную сторону.
Не отдадим высокую,
Пресветлую и ясную
Ни ворону, ни соколу,
Ни кречету, ни ястребу.
Поразительно, как легко в наших писательских былых поездках в бобровские песни втягивались боевые офицеры, усталые походники, и как настороженно к его ратным песням относились генеральские чинуши, что в советское, что в антисоветское время. Что их отпугивало в светлой боевой напевности Боброва? Да то же, что отпугивало чиновное и штабное генеральство от боевых и походных романов «соловья генштаба» Александра Проханова. Не случайно же их всегда тянуло друг к другу – двух Александров, и как красиво выводили вместе они ротные песни на наших товарищеских посиделках. Они и бражничали весело и задорно, как любимые ими гусары. Они и в жизни никогда не проходили мимо опасностей. А где опасности, там и дружба, настоящая мужская дружба.
И старый друг без лишних слов подсел
И мне подпел. Но это слишком мало.
………………………………………
Куда поедешь и куда пойдешь? —
Мы лучшей доли сами не просили.
И вот опять по всей России дождь,
Раз над тобой, то да – по всей России.
Эти уходящие мотивы верного романтического товарищества, надежности, окопного мужества уходили что в военной прозе Проханова, что в ратных песнях Боброва в историю родной страны, в историю их славных родов, отдавших немало воинов земле русской. Впрочем, это и меня сближало в пору нашей молодости с моими друзьями. И вспоминалось: «Тому роду не быть переводу, где брат за брата идут в огонь и воду». Погиб отец у Проханова, погиб старший брат у Боброва, и сколько их было – погибших за Россию?.. Помню, еще в советское время гусарским вызовом звучало на концертах Александра Боброва:
Мой Петербург, мой Петроград,
мой Ленинград,
Я так ценю твои державные объятья!
За этот город пал мой старший брат.
И потому мне ленинградцы – братья.
Мой Лениград, мой Петроград,
мой Петербург,
Ты красотою все контрасты пересилил.
В тебе царят шедевры Росси, а вокруг
Царят снега просёлочной России.
Вот это тоже объединяло нас с Бобровым: восторг перед красотой и державностью шедевров Росси и Фиорованти, тяга к познанию всего мира и одновременно слияние с древней проселочной Россией. Может быть, эта соединённость несоединимого, это слияние тоски по мировой культуре, восторгов перед Данте и Боттичелли с неизъяснимой душой простого русского народа, с пониманием лада деревенской избы и создает столь объемную и столь всечеловечную русскую национальную культуру?
А тем временем Саша Бобров всё поет и поёт свои простые и незатейливые, лирические народные песни. Даже строгий и суровый ценитель слова и стиха Юрий Кузнецов, нередко упрекая Боброва в тех или иных поэтических промахах, ценил прежде всего его простой и энергичный песенный лад.
Не шайка богохульников,
Не община святых —
Мы вышли из ушкуйников
По гребням волн крутых.
По Каме ли, по Волге ли
Плывут из года в год
Ушкуйники-повольники.
Отчаянный народ.
В общей полемике, которая сегодня идет вокруг песенного ХХ века и московской авторской песни, в которую подбрасывают свои полемические поленья и Лев Аннинский, и Олег Митяев, и Новелла Матвеева, и тот же Александр Бобров, я принимать участия не хочу. Конечно же, песенная поэзия существует, но в лучших своих проявлениях она и становится просто поэзией, несмотря на все характерные признаки песенности. Но при желании можно переложить на песенный лад самую сложную поэзию Иосифа ли Бродского, Юрия ли Кузнецова, но станут ли они от этого песенниками? Поет Татьяна Петрова песню на стихи Юрия Кузнецова, вошли в «Антологию бардовской песни» «Пилигримы» Иосифа Бродского. О чём спорим? И распевал все свои стихи поневоле, из-за своего заикания Николай Тряпкин. Не называем же мы его бардом. Сама собой отсеивается вся бардовская самодеятельность, и на разных поэтических и политических флангах звучат в высоком поэтическом ладу песня Новеллы Матвеевой и Виктора Верстакова, Юлия Кима и Александра Боброва. Пусть бардовские теоретики раскладывают всех по полочкам, я же пробую их слово на свой критический зубок и смиренно принимаю его, звучащее, в свой поэтический мир. Уверен, песни Боброва еще долго будут жить – в авторском ли, или ещё в каком исполнении. Так, думаю, звучали на товарищеских пирушках и стихи-песни Аполлона Григорьева, не последнего поэта и критика России. Нашего общего с Бобровым любимца в обширном классическом ряду. И потому я люблю слушать, как Александр Бобров поет одну из своих лучших песен «Аполлон Григорьев». Горжусь тем, что мой друг посвятил эту песню мне.
Литератор, не знающий страха
Ни в трактирах, ни даже в стихах,
Вы сидите в красивой рубахе.
С неизменной гитарой в руках.
Аполлон Алексаныч Григорьев,
Перестаньте, пожалуйста, пить!
Неужели в России так горько
И писать, и Россию любить?
Мещанин, коренной москвитянин,
Породнившийся с целой страной,
Мы по следу по вашему тянем
Ту же лямку упряжки двойной…
Разве не хочется быть таким же, как Григорьев, породниться в слове своем с ним, продолжить его поэзию и его критическую концепцию? Кто у нас сегодня такой же, как Аполлон Григорьев – поэт и бражник, лихой рубака, отчаянный почвенник и блестящий литературный критик? Сравнивать никого не будем, но Бобров по-гусарски преклоняет колено перед ним, и это по-настоящему красиво. Ему присущ природный артистизм, помню, как одно время они концертировали вместе – Александр Бобров и Александр Михайлов, оба статные, рослые, мужественные, удивительно похожие друг на друга, как братья-близнецы, оба – истинные ценители русской народной культуры. Но, когда каждый брал в руки гитару, – здесь и проявлялась разница. Актерское исполнение совсем иное, чем авторское. Предпочитаю поэтов слушать живьем или в записи, но никак не в актерском исполнении. Может быть, поэтому со временем два Александра и разошлись, одному ближе концертное исполнение, другому важнее донести смысл им написанного. В его несомненном артистизме всегда прячется своя авторская интонация. Каждый звук его гитары сопряжен с текстом, подстраивается под текст.
Не лириком хочу быть – просто лирником.
Дорогой утолять свою печаль.
И душу изливать цветными ливнями.
И струнами негромкими бренчать.
Мне обидно, что песни Александра Боброва так и не вышли на всероссийский простор, в ряд диссидентствующих бардов он никак не помещался при всей явной независимости его песен. Армейские верхи отказали ему и его песням, традиции Дениса Давыдова ведомству тупых политработников были явно чужды, да и государство особо не стремилось использовать бобровские державные интонации. Но в нашем литературном кругу он, несомненно, был первым песенным поэтом нашего поколения, потом уже появились афганские песни Верстакова и Кирсанова, Михайлова и Морозова. Бобров же свой путь проходил в одиночку, общаясь с близкими ему по духу поэтами и прозаиками, но никак не с поэтическим бардовским сообществом. Он и себя считал тем самым славянским лирником, исполнителем народных дум и сказаний, только переложенных на свой бобровский поэтический лад.
Ну сколько можно? – все вокруг да около,
Уйти бы вглубь, допеть бы, чуть дыша.
А после пусть плывет по небу облако —
До капельки излитая душа.
Его песни похожи на баллады, он всегда дает зримый и очерченный образ своего героя, будь то Аполлон Григорьев или лихой казак, возвращающийся с похода, новгородский ушкуйник из далеких времен новгородской вольницы или последний еврей, покидающий Россию. Александр Бобров по-русски приемлет всех и жалеет всех.
А Россию покинул последний еврей.
Над собором кричит ошалелая галка.
Я, конечно, иных – средне-русских кровей,
Но уехал еврей.
Мне действительно – жалко…
…………………………………………
На рассвете уехал последний еврей.
Я желаю ему пониманья и счастья.
Но сегодня стою у закрытых дверей:
Вот уехал еврей… И к кому постучаться?
И ведь верно же. Просто и верно выразил суть проблемы. И спорить будем, и решать вековые вопросы, но разъехались, и «к кому постучаться?» Вот и Станислав Куняев писал: «И нас без вас, и вас без нас убудет…» Так же, как убудет и без украинских, берущих за душу песен, и без восточного яркого цветения грузинских или армянских лириков. Не желает душа лирника Александра Боброва расставаться с близкими ему напевами соседних народов. Эта культурная, словесная имперскость, уверен, ещё столетиями будет жить в нашей культуре, отнюдь не задевая и не ущемляя ничьи национальные чувства.
Пламя предков горит поныне.
Наша память остра
От Подола и до Волыни,
От Днепра до Днестра.
Дети вольной славянской крови
Мы прошли сквозь века.
По тiй мовi та будьмо здоровi!
Будем, наверняка!
Но, конечно же, для многих Александр Бобров прежде всего певец старой Москвы, её затаенных, скрытых, чудом сохранившихся уголков. У него даже голос меняется, когда он говорит и поет о своем Замоскворечье. Он с ужасом видит, как на глазах исчезает его Москва, как становится чужим, враждебным ему городом интернациональных безвкусных застроек. Его артистизм и врожденное чувство красоты не могут смириться с уничтожением и уже неизбежным исчезновением с лица земли в своем первозданном виде одного из чудеснейших городов мира. И он искренне завидует и Петербургу, и Риму, которые остались в своей вековой красоте удивлять всех своим ликом. А наш лирник лишь может вывести нас на потаенную экскурсию по уцелевшим островкам старой Москвы.
В старой Москве,
по соседству с Ордынкой,
В дымке тоски, на родных Кадашах,
С каждой небрежно мелькнувшей
косынкой,
С каждой неспешно летящей снежинкой
Я замедляю задумчивый шаг.
Но он уже и сам давно стал частью московского пейзажа, частью старой московской культуры, певцом Замоскворечья. Краеведы со временем, несомненно, будут собирать его московские песни, сохранившие еще вековую московскую ауру. Только такой, как Александр Бобров, был способен собрать воедино и издать все свидетельства о старой Москве, огромную томину воспоминаний и документов под простым заголовком «Московия». Так же когда-то собирал свой четырехтомник «Сорок сороков» еще один мой уже ушедший друг, еще один певец Москвы – Петр Паламарчук. Это уже их следы на карте Москвы.
И нельзя себе представить.
Как в Москве свой след оставить:
На земле асфальта – семь слоёв,
Но быть может, чья-то память
Вдруг спохватится: ну да ведь,
Здесь когда-то жил А.А.Бобров!
Москву назвали третьим Римом —
Какие лестные слова!
Но ты вовек неповторима,
Первопрестольная Москва.
Его песни иногда непримирим
ы, готовы к борьбе до конца. Но даже в безнадежности он ищет свой выход. Может, этой своей безнадежной и неистребимой верой в свой народ, в своих друзей, в свою любовь он и отличается от заполонившей все экраны попсы. Пусть и безнадежные, прямо по Сирано де Бержераку, мечтания ему во сто крат дороже сытого довольства новых русских и их лжепоэтических подголосков, перечеркивающих роль истинной поэзии в обществе. Он не только в песнях, но и в жизни всегда идет напролом, выбирая привычный тяжелый русский путь.
Если направо —
Деньги и слава.
Если налево —
Конь пропадет.
Если упрямо
Двинешься прямо —
Сам ты погибнешь.
Значит, вперёд!
Вспомним да грянем.
Петь не устанем
Тех, кто не сдался,
Тех, кто не сник!
Выпьем да грянем.
Песней прославим
Тех, кто упрямо
Шел напрямик!
Вот и я стараюсь прославить критическим словом своим неутомимого лирника, ратника словесных поединков, путешественника и летописца Александра Боброва. Как и все русские таланты, он в своей деятельности многолик: и журналист, и телеведущий, и краевед, и умелый организатор, издатель. Но – всё побоку. У каждого человека всегда есть главное, сокровенное. У Александра Боброва – это его ратная и боевая песня. Пусть и не ко времени, иным покажется, и рать уже притомилась, а то и полегла. Но пока есть хоть один в поле воин, для него будет призывно звучать бобровская песня. Он идет своей дорогой лирника до самого конца.
А всё же мы верим,
А, значит, живем.
И плакать умеем,
И песни поём.
Пусть сорвана глотка,
Хрипим – ерунда!
Когда остановка?
Когда? – никогда!
Владимир Личутин ДУША НЕИЗЪЯСНИМАЯ
Был прежде Дорошенко кудреват, вальяжен, речист, смотрелся орлом, но перед переворотом девяносто первого поверстался с журналистикой, яро воюя за русские интересы, чем изрядно насолил московским писателям либерального (еврейского) толка. Для честолюбия, тщеславия этого шума ему хватало, визг и вой только подбивали в крыла, давали решимости, вокруг его имени постоянно ломались копья, демократы упорно хотели дорошенковской кровички, ему, может быть, светила участь несчастного Осташвили, повешенного в тюремной камере перед самым выходом на волю… Дорошенко поседател, посерел лицом, шевелюра посеклась, глаза ввалились, в них теперь часто просверкивала угрюмость и тоска. На меня он теперь взглядывал искоса, с пристрастием, слова цедил сквозь губу, напрочь откинув прежнюю дружбу, словно бы это я заступил ему дорогу.
Лет пятнадцать он не писал прозы, как бы выпал из литературы, и на Дорошенке поставили крест. Дескать, да, был у парня талантишко, но без притужания, ежедневного труждания над белой бумагою, потиху свернулся в свиток и окончательно засох, изветрился, истолокся в пыль, как опавший осиновый лист, так и не проявив себя. Мало ли способных людей в миру, порою сознательно усыпивших в себе Божий дар; де, кому нужны нынче наши писания, когда нужда заела… А из-под креста, коли закопал себя сам, трудно вылезть на белый свет; случаи подобные бывали, но крайне редко…
И все же газету «Московский литератор» Дорошенко выпестовал, она стала неким красным вымпелом на русских баррикадах.
Однажды Дорошенко подошел ко мне пьяненький, подсел к столу и вдруг сказал грубо, с какой-то желчью на сердце: «Знаешь, Личутин, если бы я работал как ты, каждый день, то, уверяю тебя, я бы писал нисколько не хуже тебя».
«Эх, если бы да кабы, так росли б во рту грибы…» – подумал я.
Как я понимаю, не из зависти выплеснулось, но из отчаяния, из протеста всем, кто «похоронил» писателя.
«Ну конечно, Коля, не хуже, – я попытался успокоить Дорошенко, зажав в себе невольное раздражение. – Может и лучше, что тут такого. Но годы-то идут… Успевать надо». – «Годы идут, – буркнул Дорошенко, мрачно заглядывая мне в глаза. – Ты мне лучше рюмку водки возьми». Что-то тяготило приятеля. Он выпил и, сразу смягчившись, поделился грустной заботой: «Знаешь, а меня сейчас будут из редакторов выгонять». – «Ты шутишь?.. Кто тебя может выгнать? – не поверил я. – Ты же эту газету сделал знаменитой…» – «Гусев со товарищи… Значит время пришло выгонять». – «Ну хочешь, Коля, я пойду и выступлю в твою защиту?» – «Не надо». – «Ну тогда я напишу письмо, как член правления, чтобы тебя оставили редактором, – настаивал я. – Может прислушаются к моему голосу». – «Не надо…» – отрезал Дорошенко и ушел.
…И вот извернулся же мужик из кулька да в рогожку, пройдя сквозь молчание, показал кузькину мать, вынырнув из забвения и, надо сказать, удивление в литературном кругу было всеобщим… Жив курилка-то, жив!
В литературе, как и в ином деле, увы, нельзя остывать, нельзя дожидаться вдохновения, надо все время находиться в разогреве, из последнего желания принуждать себя к работе…
И вот у Дорошенко вышла повесть «Прохожий». Тощенькая на вид; ждали будто бы слона, а родилась мышь. Если перевести на годы молчания, – какой-то довесок к спрятанной буханке. Но только на первый взгляд. И от того, что вещица объявилась народу тонюсенькая, невзрачная по объему, времени на чтение много не убьешь, вот многие, не мешкая, напустились на нее со всякими, конечно, чувствами. Взялись читать, конечно, под разным интересом и под разным углом… И я прочел… И с грустью подумал тогда: как жаль, что талантливый человек столько времени разбазарил попусту, а ведь сколько изящества в его письме, тонких образов и афористичных мыслей. Собственно, по жанру и не повесть, и не рассказ, но притча, мистический этюд к большому полотну о странном человеке, появившемся ниоткуда, выточившемся из полдневного марева и потиху удаляющемся в никуда. Если искренне, то каждый из живущих случайно явился на землю в этом образе «прохожего» и однажды навсегда уйдет из мира… А может, то был сам Иисус, неслышно ступающий по курским пажитям, и издали его потрепанный балахон приняли бабехи за цивильную одежду? Но ведь то, что его увидели хуторяне, проводили взглядом, не плюнули вослед, не науськали по пятам собак, – добрый знак, значит, еще не окончательно заскорузли душою. Это были участливые люди еще из прежней России, канувшей во мглу. Но ведь и не окликнули, не поскочили следом, чтобы ухватить за полы и пасть ничком, выпросить спасения на самом краю… Вот и не привернул… Кто-то однажды грустно заметил, впадая в опасное неверие в русский народ: «Самое печальное, что когда Христос появится средь нас, уже никто не узнает его…»
Узнают, если будет жива деревня.
И вот новая повесть «Запретный художник» (или маленький роман?). Уже с закрученным сюжетом. О том, как общество лишается опаски за духовное содержание. Одни жиреют, вырвав изо рта чужой кус, и, при внешней нарочитой богопоклончивости, отгораживаются от слабых и немощных высокими оградами; другие выживают, покорно склоня долу натертую холку; третьи, мучаясь от внезапного сиротства и одиночества, пытаются перебить обстоятельства, перетереть отчаяние, не впасть в искусительную бездну добровольного ухода, но прислоняются к церкви, к прошлому, к близким, рожают детей, греются друг от дружки, только бы спасти душу свою. И вдруг открываются очи сердечные, и весь мир принимает новый образ, неведомый при прошлом благополучии, и этой-то жизни, вернее остатков ее, особенно и не хочется терять, избывать абы как… Это исповедальная повесть о «внутреннем» Дорошенко, не столько о его быте, и житейских страстях, сколько об одиночестве художника, которого деградирующая прослойка, схватившая власть, неведомо почему, но злобно отвергает от себя. Сильный обнищил, обокрал слабого, да еще и хулит его прилюдно за то, что тот беден и гол… Богатый не боится своей черствости, нет, он даже и не стыдится, и ни капли не жалеет художника, ибо тот не вписывается в его «интерьер», но лишь от присутствия на земле совестного художника сладкая жизнь странно горчит и не приносит того удовольствия, которое бывает лишь при полном душевном покое. Вот как бы в бочку меда льнули ложку дегтя. Эти совестные художники отымают покой, заставляют мучиться, копаться в себе, латать душевные прорехи, они напоминают блаженных, которых сначала пинают, глумясь, побивают каменьем, а после упрашивают принять благодеяние… Вроде бы незаметные при свете, эти «блаженные» умудряются напомнить в самый неурочный час картиной ли, книгой ли, стихом иль музыкой, что жизнь бренна, удивительно быстротечна, короток и век наслаждений, а что дальше-то, что-о?.. Ведь живой водицы источник еще не отыскан, молодильные яблоки не вырощены…
Эта повесть не только о русских художниках, но и о всех нас, православных людях, в ком еще крепко живет чутье на праведное и совестное, кому трудно солгать даже в малом, и от стыда даже за крохотный совершенный грех подушка ночами под головой вертится. Утрата стыда для русского, в ком еще живет предание, – это утрата Божьего лица. А стоит лишь разорить запруду, порушить ее однажды неправедным делом, и весь поток «идеального состава» разом хлынет из души и оставит ее впусте, и значит без призору, входи в нее каждый, кто хошь. Утрата стыда – это путь к душевной погибели. Не случайно прежде наставляли старые малых деток своих: «В ком стыд, в том и совесть; в ком совесть, в том и Бог». Герой повести, запретный художник Шадрин, ежедневно сыскивая на кусок хлеба семье, не может поклониться бессовестным, утратить единственное, что дороже всяких богатств, – стыд; только стыд и совесть отличают человека от звериного образа. В ком живет стыд, в том и честь крепка. Кто честь блюдет, в том и достоинство несокрушимо, и у того человека никогда не закрыт путь к добродетелям, к деланию добра, хотя бы и шатнулся он, поддавшись соблазнам… Вот заповеданный тесный путь православного, завещанный исстари, из тьмы веков.