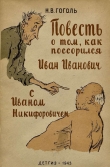Текст книги "Газета День Литературы # 133 (2007 9)"
Автор книги: Газета День Литературы
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Марина Струкова НА ТОМ БЕРЕГУ
Бернард Вербер родился в 1961 году, во Франции. В университете изучал право, специализировался в области криминалистики. Романы самого читаемого у себя на родине автора переведены на 30 языков мира.
Многие из нас читали «Божественную комедию» Данте. Гомера с его описанием Аида, вход в который якобы находился на земле сегодняшней Украины (поэт Максимилиан Волошин даже показывал своим коктебельским гостям врата в иной мир – одну из пещер над морем). Кто-то знаком с буддийской или индийской «Книгой смерти»...
Нам жизнь дана, чтоб смерть постичь – таков глубинный смысл лучшего, по моему мнению, романа Вербера «Танатонавты». Внушительный труд, включающий в себя множество сведений о эзотерических и философских представлениях разных народов, и описание приключений его героев-учёных.
Танатонавтами в книге Вербера называют исследователей, дерзающих искусственно вводить себя в кому, чтобы, заглянув в царство Танатоса – бога смерти, вынырнуть из небытия с помощью специальных медицинских препаратов. Они заходят всё дальше и дальше в глубины неизведанного, порой гибнут, но не отступают, пытаясь разрушить пугающую неизвестность, которую внушает человеку смерть. «Место, „откуда еще никто не возвращался“... кроме, разве что, нескольких жалких призраков? Информация устарела! Изобретение танатонавтики – способа свободного путешествия по миру Смерти – изменило всё. Танатонавты уже признаны пионерами „послесмертных географических открытий“. Представители разных конфессий уже передрались за сферы влияния. Начинается колонизация загробного мира!» – гласит аннотация к «Танатонавтам». Очень богатый по содержанию роман затягивает, интригует, каждая глава обещает читателю больше, чем предыдущая. По-моему, полноценное литературное произведение должно сочетать в себе драйв экстрима и оригинальную философию авторского познания мира. «Империя ангелов» – своеобразное продолжение «Танатонавтов», там о приключениях главных героев после смерти.
«На пороге континента мёртвых я вижу других существ. Рядом со мной парят другие мёртвые, и все, как ночные бабочки, летят на свет. Жертвы автомобильных катастроф. Приговорённые к смертной казни. Замученные пленники... Некоторые прямо-таки искали проблем. Пилоты-любители полетать в тумане, не пользуясь навигационными приборами. Горнолыжники, не заметившие пропасть. Мотоциклисты, думавшие, что успеют обогнать грузовик.»
«Смерть – естественное и необратимое прекращение жизнедеятельности биологической системы», как определяет медицинская энциклопедия, или «Смерть – это великая возможность», как утверждает «Бордо Тодол»? После создания танатодромов, центров, откуда можно навестить владения Смерти, начинаются войны бестелесных армий на континенте мёртвых, его освоение, подобное освоению чужой земли. Причём души воинственных мусульман развязывают настоящий загробный джихад против представителей остальных конфессий. Ведь для них «рай – под сенью сабель». Продолжение «Танатонавтов» – «Империя ангелов» – продолжает освещать судьбы главных персонажей – теперь они умерли и, освоившись в загробном мире, стали светлыми духами и хотят оберегать живущих. Что-то в книге звучит забавно, но автор вторгся в область непознанного и можно относиться снисходительно к мелким нелепостям.
"Он крепко хлопает меня по плечу, но я ничего не чувствую.
– Очень рад, ангел Мишель.
Мне странно слышать слово «ангел» перед моим именем, звучит как учёная степень.
– А вы кем были... э-э... на гражданке? – спрашиваю я".
Хакер портала Некрополь, топограф Аида Вербер ведёт едва ли не математические вычисления, пытаясь представить, как жизнь человека определяет посмертную судьбу души и последующие рождения, если они состоятся. «Вначале человеческая душа определяется тремя факторами – наследственность, карма, свободный выбор. Как правило, сперва они представлены в следующей пропорции: 25% наследственность; 25% карма; 50% свободный выбор... С 50% свободного выбора человек может впоследствии изменить этот рецепт.»
Один из героев «Империи ангелов» – русский солдат Игорь, воюющий в Чечне. Автор прослеживает трагическую судьбу героя и убийцы. Что обусловило его мужество и жестокость? Мы наблюдаем путь души – от зачатия до гибели: нежеланный ребёнок, детдомовец, солдат, раковый больной в клинике, где Игорь находит свою любовь – врача Татьяну. Смерть и посмертная война на стороне сил Добра....
Как видите, кроме приключений мы можем наблюдать и развитие личных отношений между героями и героинями произведений – каковы они, высокие чувства, в условиях постоянной близости к миру мёртвых? Вот один из молодых учёных пытается вернуть из владений Танатоса свою жену. Его душа странствует в космической бездне среди ирреальных картин мучений и наслаждений, напоминая нам об Орфее, пытающемся спасти Эвридику. Ирония и пафос, романтика и формулы – всё в тексте Вербера служит одной цели – взломать код доступа в Потустороннее. Но за каждым уровнем познания оказывается новый, сулящий новые откровения, опасности и надежды. Короче: «Смерть, и дальше со всеми остановками»...
Вербер любит писать книги с продолжением. Его трёхтомный анималистический труд «Муравьи» нравится многим, но я с трудом заставила себя дочитать, всё-таки мир людей мне более интересен, проведи хоть тысячу параллелей между нами и муравьями...
Древние утверждали, что в мир смерти могут войти и вернутся только герои и
поэты, Вербер добавил к этому списку учёных-естествоиспытателей, рвущихся к постижению новых знаний, даже рискуя собственной жизнью.
«Никогда не забывай, важна не доброта, а эволюция сознания. Наш враг – не зло. Наш враг – невежество.»
«ИЗБЕГАЙТЕ ВЫСОКИХ СЛОВ...» (Письма Валентина РАСПУТИНА и Александра ВАМПИЛОВА начинающим литераторам (публикуютсЯ впервые))
В России писатели всегда пестовали молодых авторов. Считалось долгом опытного литератора – выслушать молодого собрата, прочитать его рукопись, дать профессиональный совет, творческую консультацию. Так с помощью мастеров мужали все таланты.
Этому доброму правилу придерживались и писатели Иркутска. Стоит заглянуть в архивные папки областного отделения творческого союза – и вы найдёте там доброжелательные письма Алексея Зверева, Иннокентия Луговского, Елены Жилкиной, Марка Сергеева. Все они искренно, тепло, но и строго, и требовательно разбирали первые рукописи начинающих литераторов.
В год юбилея двух наших земляков – корифеев русской литературы Валентина Распутина и Александра Вампилова – мы поинтересовались их письмами, хранящимися в област– ном архиве. В шестидесятых– начале семидесятых годов оба активно участвовали в той работе писателей, о которой упоминалось.
Правда, писем Александра Вампилова сохранилось только два. Одно из них, автору пьесы К.Неизвестных из Заларинского района, было напечатано в сборнике «Александр Вампилов в воспоминаниях и фотографиях» (Иркутск, 1999), второе публикуется впервые. А вот многочисленных отзывов Валентина Распутина о сочинениях начинающих прозаиков пока не касалась рука исследователя. Между тем в них – этих письмах тогда ещё совсем молодого писателя к своим собратьям по творчеству – уже видны и понимание сложности жизни, человеческой души, и необходимость точного, выверенного и согревающего слова, и ответственность за него. А ещё в этих письмах – забота о каждом пробивающемся таланте, дружеское участие в его судьбе, задушевность каждого разговора. То есть всё то, что отличает Валентина Распутина, выдающегося мастера слова и человека.
Валентин РАСПУТИН: «ЛУЧШЕ ВСЕГО У ВАС НАПИСАНА ПОВЕСТЬ...»
"Уважаемая тов. Уланова! Отвечаю на присланный Вами рассказ «Недописанная страница». Рассказ, я считаю, недостаточно продуман с самого начала, отсюда и идут его беды. Он нечёток, расплывчат, расплывчаты его герои, расплывчата в нём авторская позиция. Давайте разберёмся в этом подробнее.
В общем-то нетрудно понять, о чём Вы хотели написать рассказ. По-видимому, он о нашей жизни вообще и о семейной жизни – на примере одной семьи – в частности, о человеческом счастье. Тридцатилетняя женщина отправила письмо в домовой комитет, в котором на что-то жалуется. На что, понять трудно; даже общественник домового комитета, от лица которого ведётся повествование, не разобрал. По-видимому, на мужа, поскольку при встрече речь идёт и о нём, на своё прозябание в семье – об этом тоже кое-что говорится, даже не говорится, а только упоминается. Именно упоминается, потому что сказать что-либо внятное о своём положении женщина не может. Она говорит настолько неопределённо и отвлечённо, что это раздражает и общественника домового комитета, и меня как читателя. Право же, плохо верится в женщину, написавшую жалобу в домовой комитет, которая затем, при проверке этой жалобы, читает стишки и вздыхает следующим образом:
«Запахи талого снега и утренней росы... Птичье щебетанье в голубом рассвете... Берёзка в белом инее... А ещё: музыка, театр, грустный восторг Левитана... Можно жить без этого?» Неужели, чтобы сказать это, необходимо было приглашать постороннего, чужого человека? И ладно бы, когда эти вздохи происходили от скуки, от нечего делать – нет, женщина работает, у неё ребёнок, т.е. она занята с утра до вечера. Откуда тогда они? Едва ли можно подозревать в героине неудовлетворённые эстетические запросы, поскольку, во-первых, её неопределённых томлений для этого явно маловато, а, во-вторых, для удовлетворения столь высоких желаний не пишут письма в домовой комитет.
Можно бы предположить, конечно, что в рассказе как раз и выводится такая вот пустая мечтательница, невесть о чём томящаяся и невесть чего хотящая. Поначалу такое впечатление складывается, но нет – затем автор решительно становится на её сторону, находит в ней нераскрытые глубины, которые надо только раскрыть, чтобы женщина ожила и расцвела на благо всех нас.
В старину говорили: не то счастье, о чём во сне бредишь, а то, на чём сидишь да едешь. Эта поговорка как нельзя лучше подходит, по-моему, к героине Вашего рассказа. Повторяю, рассказ нечёток, он не сделан даже в авторском замысле. А писать Вы, конечно, можете, язык у Вас чистый. Только избегайте красивостей и высоких, не в меру высоких слов для изображения нашей грешной жизни. Это всё равно что на работу выходить со знамёнами.
С искренним уважением, В.Распутин"
"Уважаемый тов. Грешное! Рассказ – я имею в виду «Сибирские звёзды» – написан, в основном, чисто, те небольшие шероховатости в языке, которые я подчёркивал, в общем-то, легко исправимы. Жаль только, что Вы, поддавшись газетной моде, поездку в Сибирь двух молодых людей на постоянное местожительство расцениваете как проявление романтики, жажду экзотики. Ох, уж эти романтика да экзотика! Сколько вреда принесли они Сибири и всей нашей стране, когда тысячи людей едут в дальние суровые края в поисках чего-то необыкновенного, душещипательного, и, не найдя его, бросаются обратно. У Вас подобная, ситуация повторилась, хотя я не думаю, что рассказ Вы писали именно об этом.
Сложнее тут другое. Взяв за основу рассказа классический «треугольник», Вы почему-то прибегли к самому облегченному пути его решения – легче, пожалуй, и не бывает. Тамара не знает, что Володя любит Аню, Володя не знает, что Тамара пишет письма отцу и просится обратно в Ленинград, собираясь оставить мужа в Сибири, в школе никто ничего не знает о тайнах Володи и Тамары. И только секретарь райкома партии совершенно необъяснимыми путями узнаёт о связи учителя и фельдшерицы из дальнего села и вызывает Володю для разговора (почему, кстати, это должен делать секретарь райкома?) – в это время Тамара, воспользовавшись отсутствием мужа, сбегает в Ленинград. Простите, но получилась некая странная для рассказа игра в прятки вместо сложного и открытого (хотя бы для автора) решения той извечной и всегда важной проблемы, которая встала перед героями рассказа.
Вопросы только поставлены, да и то очень робко, а ответов на них нет совсем – впечатление такое, что Вы их сознательно избегали, но от этого работа Ваша стала просто пересказом одной случайной и довольно мелкой истории.
С уважением, В.Распутин"
"Уважаемый Анатолий Макарович! Ваши «Три дня на постоялом дворе» решено дать в третьем номере альманаха «Ангара» (май-июнь). К сожалению, мы так и не дождались от Вас хотя бы маленькой справки о Хайларе и Маньчжурии теперешних (помните, я просил Вас?). Пришлось делать небольшое вступление к «Трём дням...» самим. Оно очень небольшое, и ошибок в нём произойти не может. А очерк пока идёт в полном виде, если, конечно, не считать редакторской правки.
Что касается последних рукописей – их, как видите, приходится возвращать обратно. У рассказа «До финиша близко» явное несоответствие между первой половиной и второй – он начат широко, эпически, подробно, фундамент подготовлен для большого здания, а закончен быстро и поспешно, психологическая достоверность материала нарушается, появляются сомнения именно в этом повороте темы, именно в этом исходе. Вы и сами признаётесь, что начинали писать роман, затем решили перевести его в рассказ, и это, конечно, не могло не сказаться.
«Чудная поездка» могла бы пойти среди других, подобных же материалов, где она стояла бы вполне на месте, лучше всего в книжке о Трёхречье (хорошая и нужная, кстати, была бы книжка). ...Мне показалось, что лучше всего у Вас написана повесть «Кровная месть». Может быть, иногда слишком подробно и обстоятельно, что делает отдельные места чуть скучноватыми (особенно в сценах, когда русские охотники выбираются из тайги), но в общем всё равно добротно. Но это всё, так или иначе, наш, сибирский материал, или очень близкий нашему, подобные вещи у нас уже были. Вот почему повесть не произвела на членов редколлегии особого впечатления.
И последнее. Было бы очень хорошо, Анатолий Макарович, если бы Вы сделали для нас большой очерк о русском Трёхречье – не этнографический, нет, а скорее, социальный – о жизни русских в стороне от России, об их отношении к ней, о связях между собой, о внутреннем управлении, об отношении к японцам, китайцам, к своим старым авторитетам (к Семёнову, например). Хорошо, если будут фамилии, конкретные люди. Насколько возможно, будьте откровенней и свободней в нём – я думаю, что мы сумеем напечатать весь Ваш материал.
С искренним уважением к Вам, В.Распутин"
"Уважаемый Михаил Яковлевич! Всё присланное Вами в альманах носит, на мой взгляд, случайный характер. Две юморески – «Мудрый заяц» и «Охотничьи были» – принадлежат к тем анекдотическим устным рассказам, которые давно уже кочуют от одного охотничьего костра к другому. В более или менее похожем виде слышал их и я. В Вашем изложении, перенесённом на бумагу, они потеряли непосредственность, тот слегка грубоватый и всё же милый юмор, который дополняется мимикой, голосом, жестами, и не вызывают теперь ни смеха, ни улыбки. Особенно «Охотничьи были».
Попытка на серьёзную, уже далёкую от анекдотов прозу сделана в рассказе «Тысяча извинений». К сожалению, эта попытка так и осталась попыткой. Рассказ, мне кажется, не состоялся. Нельзя на нескольких страничках раскрыть всю глубину той темы, за которую Вы взялись, и нельзя так легко, с ходу, в двух-трёх фразах показать нравственное убожество одного человека и нравственное богатство другого. Слишком это серьёзно. Каждый поступок и каждый характер в литературе нуждаются в доказательстве, и в не меньшем, чем какое-либо положение в математике или физике – только здесь в художественном доказательстве. Посмотрите, как встречает у Вас Раечка своего дядю, человека, который заменил ей в жизни родителей и на деньги которого она существует, который души в ней не чает и мечтает о встрече с ней, как о самом большом и радостном событии:
" – А, дядюшка, здравствуйте! – поприветствовала она. – Что же вы не предупредили, даже телеграммы не подали? – В голосе её теперь ясно слышались нотки досады.
– Да хотел экспромтом, как снег на голову.
– Вот уж действительно, как снег на голову..." И сразу же выпроваживает его:
« – Ах, дорогой дядюшка, мне, право, неудобно. Тысяча извинений! Но приходите к нам как-нибудь в другой раз. Сейчас мы вас принять не можем. Ещё раз тысячу извинений!»
Даже самый чёрствый и неблагодарный человек, обязанный в гораздо меньшей степени другому человеку, чем Ваша Рая, скроет, замаскирует свою неблагодарность и не станет выказывать её в столь категорической, прямо-таки враждебной форме. Тут у Вас большой психологический провал. Сказка «Танкага-Басутук» выдержана в тоне северных сказок – на первый взгляд, наивных, но по-своему мудрых. ...Из четырёх Ваших вещей она, пожалуй, интересней всего остального. Если у Вас есть ещё что-нибудь похожее, пожалуйста, присылайте.
С уважением, В.Распутин"
"Уважаемый Илья Иванович! С искренним сожалением возвращаем Вам рукопись «Истории одной любви». Пожалуй, она всё-таки несколько конспективна – я говорю о той поспешности, с какой следуют в ней друг за другом описываемые события без их психологического и художественного обоснования. Отсюда и сомнения в некоторых фактах: как Петрикина, например, достаточно хорошо скрывшая своё прошлое, а в замужестве с профессором старающаяся скрыть его ещё более, чтобы быть совсем спокойной, могла решиться на столь жестокое и выдающее её с головой преступление? Уж очень неосторожно, грубо она действует. И как профессор без любви столько времени поддерживал эту связь, для чего? Я не утверждаю, что этого не могло быть в жизни, как раз жизненная достоверность подобных страстей не вызывает сомнений, но в литературе это обязательно нужно доказывать очень подробно, описывать человеческие чувства, а не только предполагать их. Случай действительно жестокий, страшный и поучительный, но подан он схематично, голо и оттого читается без интереса. Не обижайтесь, пожалуйста, на эти откровенные замечания и присылайте нам что-нибудь новенькое.
С искренним уважением, В.Распутин"
"Уважаемый тов. Шинкарёв! Ваша рукопись «О чем говорят могилы» вызвала во мне двойственные чувства. С одной стороны – банальная история, которые бывают часто и о которых уже знаешь-перезнаешь и слышал-переслышал; с другой стороны – эта банальная история рассказана интересно, вдумчиво и волнующе, хотя и с некоторыми претензиями на детективные сверхинтерес и сверхволнение, особенно в начале рукописи.
С одной стороны (я продолжаю говорить о двойственности своих чувств) – хорошие, порой даже прекрасные картины Байкала и природы; с другой – неправдашние, какие-то театральные отношения между героями и конечная сентиментальность всей вещи в целом. Автор – поэт и мудрец, когда он остаётся один, он зорок, наблюдателен, психологичен, умеет понять движения человеческой души. Но как только ему приходится остаться со своими героями с глазу на глаз, то есть когда идут непосредственные их отношения друг с другом, связанные прямой речью, это совсем иной человек, который кажется неопытным и наивным, знакомым с жизнью только по книжкам. Я понимаю, что не прав в последнем своём предположении, и всё-таки впечатление такое остаётся – впечатление, что эту вещь писали два разных человека.
Вы пишете, что эта история, когда Вы её рассказываете в аудиториях, производит на слушателей большое впечатление. В этом не приходится сомневаться, как не приходится сомневаться в её подлинности. Девушка – славная, умная, добрая – любит парня, он тоже относится к ней далеко не равнодушно, даже ревнует к другому парню, и всё-таки не хочет, не может (и Вы на этом настаиваете – не может!) связать с ней свою судьбу, потому что по-прежнему и чуть ли не навеки любит другую – уже умершую. История как будто знакомая, но она всякий раз должна быть новой, поскольку случается с новыми людьми, у которых свои чувства и своё отношение к жизни, и поскольку передаёт её новый человек. Все мы часто повторяем, что двух одинаковых людей, как впрочем, и двух одинаковых любовей и двух одинаковых страданий не бывает.
В Вашем изложении эта история получилась, на мой взгляд, волнующей и... старой или почти старой. Почему? Да потому, что упор в ней Вы сделали на самой истории, на самой трагедии, а не на людях. Прежде всего – она, потом – они. Они приложены к ней, а не она к ним. Вы рассказываете её с надрывом, стараетесь разжалобить слушателя и читателя её трагедийностью, и это Вам, надо признать, удаётся. И всё-таки это недолгое волнение, это не боль, потому что мы не узнали и не полюбили людей, с которыми она происходит. Они просто люди, взятые наугад из тысяч и тысяч других, а не характеры. Вот почему я говорю, что герои у Вас неправдашние, неживые – при всей подлинности истории, в которую веришь от начала и до конца.
Ясно, что литературные способности у Вас есть. И, мне кажется, не стоит считать неудачей эту работу, хоть напечатать в таком виде её мы и не сможем. Будем ждать от Вас новых работ.
С уважением, В.Распутин"
Александр ВАМПИЛОВ: «У ВАС ЕСТЬ ЧУВСТВО СЦЕНЫ...»
"Уважаемый Михаил Абрамович! Прочёл Вашу пьесу «Человек-легенда». Считаю, что в настоящем виде она едва ли может быть опубликована или поставлена. Вы обратились к важной и очень серьёзной теме революционного прошлого, к тому, о чём в советской литературе создано уже множество повестей, романов и пьес. Новые произведения на эту тему, на мой взгляд, должны быть глубокими, яркими и оригинальными. К сожалению, Ваша пьеса весьма подражательна, при её чтении на ум приходят эпизоды, характеры и мысли из многих литературных образцов («Чапаев» Фурманова, «Разгром» Фадеева, «Любовь Яровая» Тренёва). Две-три удавшиеся Вам сцены (ребята в разведке, сцена в тюрьме) дела не меняют. Кроме того, Вам не удалось выстроить пьесу, эпизоды связаны между собой слабо и в итоге не складываются в одну ясную картину. В отдельных сценах очень много риторики и связанной с ней неестественности поведения действующих лиц. Словом, пьесы у Вас, увы, не получилось.
С уважением, А.Вампилов"
"Уважаемый товарищ Неизвестных! Прежде всего извините за запоздалый ответ. Далее о Вашей пьесе, которую я прочёл с большим интересом. Вы, несомненно, способный автор, у Вас есть наблюдательность, и природный юмор, и даже чувство сцены. Вместе с тем Вашу рукопись вряд ли можно назвать пьесой в двух действиях. Скорее всего, у Вас получилась одноактная пьеса, а ещё точнее – скетч, забавная и хлёсткая сценка, часть эстрадного представления.
Очень Вам советую побывать с этой рукописью в районном отделе культуры и Заларинском ДК. Если там заинтересуются Вашим произведением, то при совместной с Вами доработке эту пьесу, как я считаю, можно с успехом показывать зрителям. Для этого необходимо убрать из Вашего произведения длинноты, а также не в меру грубые выражения и две-три сомнительные ситуации. Полагаю, что эту помощь Вам смогут оказать и в отделе культуры, и в ДК.
С уважением и наилучшими пожеланиями, А.Вампилов"
Публикация Андрея РУМЯНЦЕВА