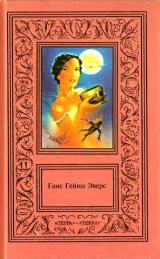
Текст книги "Сочинения в двух томах. Том первый"
Автор книги: Ганс Гейнц Эверс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Он громко расхохотался. Добавил еще, что если Альрауне умрет, не оставив наследников, состояние должно перейти к университету. Таким образом, племянник в любом случае ничего не получит.
Он подписал завещание и аккуратно сложил. Потом опять взял кожаную книгу. Тщательно записал историю и добавил все, что произошло за последнее время. И за -
кончил небольшим обращением к племяннику, – обращением, полным сарказма: «Испытай свое счастье. Жаль, что меня уже не будет, когда придет твой черед, – мне бы так хотелось на тебя посмотреть!»
Он тщательно промокнул написанное, захлопнул книгу и положил обратно в письменный стол вместе с другими воспоминаниями: колье княгини, деревянным человечком Гонтрамов, стаканом для костей, белой простреленной карточкой, которую он вынул из жилетного кармана графа Герольдингена. На ней около трилистника была надпись: «Маскотта». И вокруг много спекшейся черной крови…
Он подошел к драпировке и отвязал шелковый шнурок. Отрезал ножницами небольшой кусок и положил тоже в письменный стол.
– Маскотта! – засмеялся он.
Он посмотрел вокруг, влез на стул, сделал из шнура петлю, зацепил за большой гвоздь на стене, потянул за шнур, убедился, что тот достаточно крепок, – и снова влез на стул…
* * *
Рано утром жандармы нашли его. Стул был опрокинут, – но мертвец одной ногой все еще касался его. Казалось, будто он раскаялся в поступке и в последний момент старался спастись. Правый глаз был широко раскрыт и устремлен на дверь. А синий распухший язык высунулся над отвисшей губой…
Он был очень уродлив и безобразен.
Intermezzo
И быть может, белокурая сестренка моя, из серебристых колокольчиков твоих тихих дней льются мягкие звуки спящих грехов.
Золотой дождь струит свою ядовитую желчь там, где прежде лежал белый снег тихих акаций, – горячие кровавники обнажают свою темную синь – там, где невинные колокольчики глициний возвещают мир и покой. Сладостна легкая игра бурных страстей, но слаще, по-моему, страшная борьба их в темную ночь. Однако слаще всего спящий грех в жаркий летний полдень.
Она дремлет, нежная подруга моя, – нельзя будить ее. Ибо никогда не прекрасна она так, как во сне. Сладкий мой грех покоится в зеркале – близко, – покоится в тонкой шелковой сорочке, на белой простыне. Твоя рука, сестренка, свешивается с края постели, – тонкие пальцы с моими золотыми кольцами слегка извиваются. Прозрачны, точно первые проблески дня, твои розовые ногти. За ними ухаживает Фанни, черная камеристка, она творит чудеса. И я целую в зеркале чудеса твоих розовых ногтей.
Только в зеркале – только в зеркале. Только ласкающим взглядом и сладким дыханием губ. Ибо они растут, растут, когда просыпается грех, – и становятся острыми когтями тигра.
Разрывают мое тело…
На кружевных подушках покоится головка твоя, – и вокруг спадают твои белокурые локоны. Спадают легко, точно языки золотого пламени, точно легкое дуновение первого ветра при пробуждении дня. А маленькие зубы смеются меж тонких губ, точно молочные опалы в сверкающем запястье богини Луны. И я целую золотые волосы, целую белоснежные зубы.
В зеркале только-только в зеркале. Легким дыханием губ и ласкающим взглядом. Ибо я знаю: когда просыпается жаркий грех, маленькие опалы становятся страшными мечами, а золотистые локоны – ядовитыми змеями. Тогда когти тигрицы разорвут мое тело, острые зубы нанесут глубокие раны. Ядовитые змеи обовьются вокруг моей шеи, заползут в уши, напоят мозг своим ядом…
Видишь, сестренка, как я целую ее – тут позади, в зеркале. У феи не могло быть более легкого дыхания. Я знаю прекрасно: когда проснется он, вечный грех, – в глазах твоих засверкают синие молнии и поразят мое бедное сердце. Моя кровь забурлит, а тело мое загорится могучим огнем, – проснется безумие и развернется во всю свою ширь…
Страшный зверь, разорвав свои цепи, вырвется на свободу. Бросится на тебя, сестренка моя, – вонзится в твою прелестную грудь, которая станет вдруг могучей грудью вечной проститутки. Порвет оковы, раскроет страшную пасть, и тело оросится кровавым пороком.
Но взгляд мой спокоен, словно шаги монахинь. И тише, все тише дыхание губ моих…
Ибо ничто, дорогая подруга моя, не кажется мне таким сладостным, как целомудренный грех в его легком сне…
Глава двенадцатая,
которая рассказывает, как Франк Браун появляется на пути Альрауне
Франк Браун вернулся в дом своей матери. Вернулся из очередного путешествия – из Кашмира или Боливии. Или, может быть, из Вест-Индии, где он играл в революцию. Или из Юного Ледовитого океана, где слушал поэтичные сказки стройных дочерей гибнущих рас
Он медленно прошел по дому. Поднялся по белой лестнице наверх, где по стенам висели бесчисленные рамы, старинные гравюры и новые картины. Прошел по большим комнатам матери, которые весеннее солнце заливало яркими лучами через желтые занавеси. Тут висели портреты его предков, тен-Бринкенов, – умные, храбрые люди, они знали, как можно прожить свою жизнь. Прадед и прабабка – времен Империи.
И прекрасная бабушка – шестнадцатилетняя, в платье начала правления королевы Виктории. Портреты отца и матери и его собственные портреты. Вот он ребенком с большим мячом в руках, с длинными белокурыми локонами, спадавшими на плечи. Мальчик в черном бархатном костюмчике пажа с толстой старой книгой, раскрытой на коленях.
Потом в соседней комнате – копии. Отовсюду – из Дрезденской галереи, из Кассельской и из Брауншвейгской. И из палаццо Питти, из Прадо и из музея Рийка. Много голландцев: Рембрандт, Франц Хальс; Мурильо, Тициан, Веласкес и Веронезе. Все чуть потемнели и красным багрянцем сверкали на солнце, проникавшем через гардины.
И дальше комната, где висели работы современников. Много хороших картин и много посредственных, – но ни одной плохой, ни одной слащавой и приторной. А вокруг старая мебель, много красного дерева – в стиле «ампир», «директории» и «Бидермейер». Ни одной банальной вещицы. Правда, в беспорядке, так, как постепенно накоплялось. Но какая-то странная гармония: вещи между собою точно связаны родственными узами.
Он поднялся наверх, в свои комнаты. Тут все было в том виде, как он оставил, когда в последний раз отправился путешествовать – два года назад. Все на своем месте: даже пресс-папье на бумагах, даже стул перед столом. Мать смотрела за тем, чтобы прислуга была осторожна. Здесь еще больше, чем где бы то ни было, царил дикий хаос бесчисленных странных вещей – на полу и на стенах: пять частей света прислали сюда то, что в них было странного, редкого, причудливого. Огромные маски, безобразные деревянные идолы с архипелага Бисмарка, китайские и анамитские флаги, много оружия. Охотничьи трофеи, чучела животных, шкуры ягуаров и тигров, огромные черепахи, змеи и крокодилы. Пестрые барабаны из Люцона, продолговатые копья из Радж-Путана, наивные албанские гусли. На одной из стен огромная рыбачья сеть до самого потолка, а в ней исполинская морская звезда и еж, рыба-пила, серебристая чешуя тарпона. Огромные пауки, странные рыбы, раковины и улитки. Старинные гобелены, индийские шелковые одеяния, испанские мантильи и одеяния мандаринов с огромными золотыми драконами. Много богов, кумиров, серебряных и золотых Будд всех величин и размеров. Индийские барельефы Шивы, Кришны и Ганеши. И нелепые циничные каменные идолы племени чана. А между ними, где только свободное место на стенах, картины и гравюры. Смелый Ропс, неистовый Гойя и маленькие наброски Жака Калло. Потом Круиксганк, Хогарт и много пестрых жестоких картин из Камбоджи и Мизора. Немало и современных, с автографами художников и посвящениями. Мебель всевозможных стилей и всевозможных культур, густо уставленная бронзой, фарфором и бесчисленными безделушками.
И всюду, везде и во всем был Франк Браун. Его пуля уложила белую медведицу, на шкуру которой ступала теперь его нога; он сам поймал исполинскую рыбу, огромная челюсть которой с тремя рядами зубов красуется там на стене. Он отнял у дикарей эти отравленные стрелы и копья; манчжурский жрец подарил ему этого глупого идола и высокие серебряные греческие чаши. Собственноручно украл он черный камень из лесного храма в Гуддон-Бадагре; собственными губами пил он из этой бомбиты на брудершафт с главарем индейского племени тоба на болотистых берегах Пилькамайо. За этот кривой меч он отдал свое лучшее оружие малайскому вождю в северном Борнео; а за эти длинные мечи – свои карманные шахматы вице-королю Шантунга. Роскошные индийские ковры подарил магараджа в Вигапуре, которому он спас жизнь на слоновой охоте, а страшное восьмирукое орудие, окропленное кровью зверей и людей, получил он от верховного жреца страшного Кали…
Его жизнь была в этих комнатах – каждая раковина, каждый пестрый лоскут рождали длинные цепи воспоминаний. Вот трубки для опиума, вот большая табакерка, сколоченная из серебряных мексиканских долларов, а рядом с нею плотно закрытая коробочка со страшными ядами. И золотой браслет с двумя дивными кошачьими глазами. Его подарила ему прекрасная, вечно смеющаяся девушка в Бирме. Многими поцелуями должен был он заплатить за это…
Вокруг на полу в беспорядке стояли и лежали ящики и сундуки – всего двадцать один. Там его новые сокровища: их еще не успели распаковать. «Куда их девать?» – засмеялся он.
Перед большим итальянским окном висело длинное персидское копье; на нем качался большой белоснежный какаду с ярко-красным клювом.
– Здравствуй, Петер, – поздоровался Франк Браун.
«Атья, Тувань», – ответила птица. Она сошла величественно по копью, перепрыгнула оттуда на стул, потом на пол. Подошла к нему кривыми шагами и поднялась на плечо. Раскрыла свой гордый клюв, широко распростерла крылья, словно прусский орел на гербе. «Атья, Тувань! Атья, Тувань!»– закричала она.
Он пощекотал шею, которую подставила белая птица. «Как дела, Петерхен? Ты рад, что я опять здесь?»
Он спустился по лестнице и вышел на большой крытый балкон, где мать пила чай. Внизу в саду сверкал цветущий огромный каштан, а дальше в огромном монастырском парке расстилалось целое море цветов. Под деревьями разгуливали францисканцы в коричневых сутанах.
– Это патер Барнабас, – воскликнул он.
Мать надела очки и посмотрела. «Нет, – ответила она, – это патер Киприан…»
На железных перилах балкона сидел зеленый попугай. Когда он посадил туда же какаду, маленький дерзкий попугай поспешил к нему.
– All right, – закричал он. – All right! Lorita real di Espana e di Portugal! Anna Mari-i-i-i-a.-Он бросился к большой птице, раскрывавшей свой клюв, и произнес тихо: – Ка-ка-ду.
– Ты все еще такой же нахал, Филакс? – спросил Франк Браун.
«Он с каждым днем все нахальнее, – засмеялась мать. – Он ничего не жалеет. Если дать ему свободу, он изгрызет весь дом». Она обмакнула кусочек сахара в чай и подала попугаю. «А Петер чему-нибудь выучился?» – спросил Франк Браун. «Нет, ничему, – ответила мать, – произносит только свое имя и еще несколько слов по-малайски».
– А их ты, к сожалению, не понимаешь, – засмеялся он.
Мать заметила: «Нет. Но зато я понимаю прекрасно своего зеленого Филакса. Он говорит целыми днями, на всех языках мира – и всегда что-нибудь новое. Я запираю его иногда в шкаф, чтобы хоть на полчаса от него отдохнуть». Она взяла Филакса, прогуливавшегося по чайному столу и уже атаковавшего масло, и посадила его обратно на перила.
Подбежала маленькая собачка, стала на задние лапки и прижалась мордочкой к ее коленям.
– Ах, и ты здесь, – сказала мать. – Тебе хочется чаю? Она налила в маленькое красное блюдце чаю с молоком, накрошила туда белого хлеба и положила кусочек сахара.
Франк Браун смотрел на огромный сад.
На лужайке играли два круглых ежа. Они совсем уже старые: он сам когда-то принес их из леса с какой-то школьной экскурсии. Он назвал их Вотаном и Тобиасом Майером.
Но, быть может, это их внуки уже или правнуки. Возле белоснежного куста магнолии он заметил небольшое возвышение: тут он похоронил когда-то своего черного пуделя. Тут росли две больших юкки: летом на них вырастут большие цвета с белыми, звонкими колокольчиками. Теперь же, весною, мать посадила еще много пестрых примул. По всем стенам дома взбирался плющ и дикий виноград, доходивший до самой крыши. В нем шумели и щебетали воробьи.
– Там у дрозда гнездо, видишь, вон там? – сказала мать.
Она указала на деревянные ворота, ведшие со двора в сад. Полускрытое густым плющом, виднелось маленькое гнездышко.
Он должен был долго искать его глазами, пока наконец нашел. «Там уже три маленьких яичка», – сказал он.
– Нет, четыре, – поправила мать, – сегодня утром она положила четвертое.
– Да, четыре, – согласился он. – Теперь я их вижу все. Как хорошо у тебя, мама.
Она вздохнула и положила морщинистую руку ему на плечо.
– Да, мальчик мой, тут хорошо. Если бы только я не была постоянно одна.
– Одна? – спросил он. – Разве у тебя теперь меньше бывает народу, чем прежде?
Она ответила:
– Нет, каждый день кто-нибудь приходит. Старуху не забывают. Приходят к чаю, к ужину: все ведь знают, как я рада, когда меня навещают. Но видишь ли, мальчик мой, эта ведь чужие. Все-таки тебя со мною нет.
– Но зато теперь я приехал, – сказал он. Он поспешил переменить тему разговора и стал рассказывать о вещах, которые привез с собою. Спросил, не хочет ли она помочь ему распаковывать.
Пришла горничная и принесла почту. Он вскрыл несколько писем и просмотрел их.
Раскрыв одно письмо, он углубился в чтение. Это было письмо от советника юстиции Гонтрама, который коротко сообщал о происшедшем в доме его дяди. К письму была приложена копия завещания. Гонтрам просил его возможно скорее приехать и привести в порядок дела. Он, советник юстиции, назначен судом временным душеприказчиком. Теперь, услышав, что Франк Браун вернулся в Европу, он просит его вступить в исполнение обязанностей.
Мать зорко наблюдала за сыном. Она знала малейший его жест, малейшую черту на гладком загорелом лице. По легкому дрожанию губ она поняла, что он прочел нечто важное.
– Что это? – спросила она. Голос ее задрожал.
– Ничего серьезного, – ответил он, – ты ведь знаешь, что дядюшка Якоб умер.
– Знаю, – сказала она. – И довольно печально.
– Да, – заметил он. – Советник юстиции Гонтрам прислал мне завещание. Я назначен душеприказчиком и опекуном дядюшкиной дочери. Мне придется поехать в Лендених.
– Когда же ты хочешь ехать? – быстро спросила она.
– Ехать? – переспросил он. – Да, думаю, сегодня же вечером.
– Не уезжай, – попросила она, – не уезжай. Ты всего три дня у меня и опять хочешь уехать.
– Но, мама, – возразил он, – ведь только на несколько дней. Нужно же привести в порядок дела.
Она сказала:
– Ты всегда так говоришь: на пару дней. А потом тебя нет по нескольку месяцев и даже лет.
– Ты должна понять, милая мама, – настаивал он. – Вот завещание: дядюшка оставил тебе довольно приличную сумму и мне тоже, – этого я, по правде, от него не ожидал.
Она покачала головой.
– Что мне деньги, когда тебя нет со мною?
Он встал и поцеловал ее седые волосы.
– Милая мама, в конце недели я буду опять у тебя. Ведь мне ехать всего несколько часов по железной дороге.
Она глубоко вздохнула и погладила его руку: «Несколько часов или несколько дней, какая разница? Тебя нет – так или иначе».
– Прощай, милая мама, – сказал он.
Пошел наверх, уложил маленький ручной саквояж и вышел опять на балкон. «Вот видишь, я собрался лишь на несколько дней, – до свиданья».
– До свиданья, мой мальчик, – тихо сказала она. Она слышала, как он сошел вниз по лестнице, слышала, как внизу захлопнулась дверь. Положила руку на умную морду собачки, смотревшей на нее своими верными глазами.
– Милый зверек, – сказала она, – мы снова одни. Он приезжает, чтобы тотчас же снова уехать, – когда мы его увидим опять?
Тяжелые слезы показались на ее добрых глазах, потекли по морщинам щек и упали вниз на длинные уши собачки. Она их слизнула красным языком.
Вдруг внизу раздался звонок: она услыхала голоса и шаги по лестнице. Быстро смахнула слезы и поправила черную наколку на голове. Встала, перегнулась через перила, крикнула кухарке, чтобы та подала свежий чай для гостей.
– О, как хорошо, что столько народу. Дамы и мужчины, сегодня и постоянно. С ними можно болтать, им можно рассказывать о своем мальчике.
* * *
Советник юстиции Гонтрам, которому Франк Браун телеграфировал о приезде, встретил его на вокзале. Он повел Франка Брауна в сад и посвятил там в положение вещей. Попросил его сегодня же отправиться в Лендених, чтобы переговорить с Альрауне, и завтра же приехать в контору. Он не мог пожаловаться на то, чтобы Альрауне чинила ему какие-либо трудности, но он питает к ней какое-то странное недружелюбное чувство. Ему неприятно с ней объясняться. И курьезно – он видел ведь стольких преступников: убийц, грабителей, разбойников – и всегда находил, что, в сущности, они очень славные, хорошие люди – вне своей деятельности. К Альрауне же, которую решительно ни в чем он не мог упрекнуть, он постоянно испытывает чувство, какое испытывают другие к преступникам. Но в этом, вероятно, он сам виноват…
Франк Браун попросил позвонить по телефону Альрауне и сказать, что он скоро будет. Потом простился и пешком направился по дороге в Лендених. Прошел через старую деревню, мимо святого Непомука, и поздоровался с ним. Остановился перед железными воротами, позвонил и посмотрел на двор.
У въезда, где прежде горела жалкая лампочка, сверкали теперь три огромных газовых фонаря. Это было единственное новшество, которое он заметил.
Из окошка выглянула Альрауне и оглядела пришельца. Она видела, как Алоиз ускорил шаги, быстрее, чем обыкновенно, отворил ворота,
– Добрый вечер, молодой барин, – сказал слуга.
Франк Браун подал ему руку и назвал по имени, точно вернулся к себе домой после небольшого путешествия.
– Как дела, Алоиз?
По двору пробежал старый кучер, так быстро, как только могли нести его старые ноги.
– Молодой барин, – вскричал он, – молодой барин! Добро пожаловать!
Франк Браун ответил:
– Фройтсгейм, вы еще живы? Как я рад вас видеть. – Он с чувством пожал ему обе руки.
Показались кухарка, толстая экономка и камердинер Павел. Людская вмиг опустела – две старых служанки протискались через толпу, чтобы пожать ему руку, предварительно вытерев свои о передник.
– Молодой барин, – воскликнула седая кухарка и взяла у носильщика, шедшего следом за ним, маленький саквояж. Все окружили его, хотели поздороваться, пожать руку, услышать слово привета. А молодые, не знавшие его, стояли вокруг и, широко раскрыв глаза, со смущенной улыбкой смотрели. Немного поодаль стоял шофер и курил трубку: даже на его равнодушном лице показалась дружеская улыбка.
Альрауне тен-Бринкен пожала плечами.
– Мой уважаемый опекун, по-видимому, пользуется здесь популярностью, – вполголоса сказала она и крикнула вниз: – Отнесите вещи барина к нему в комнату. А ты, Алоиз, проведи их наверх.
Точно холодная роса упала на теплую радость людей. Они понурили головы и разом замолкли. Только Фройтсгейм пожал ему еще раз руку и проводил до крыльца:
– Хорошо, что вы приехали, молодой барин.
Франк Браун пошел к себе в комнату, вымылся, переоделся и последовал за камердинером, который доложил, что стол накрыт. Вошел в столовую. Несколько минут он пробыл один. Оглянулся по сторонам.
Там все еще стоял гигантский буфет, и на нем красовались тяжелые золотые тарелки с гербом тен-Бринкенов. Но на тарелках не было фруктов. «Еще слишком рано, – пробормотал он. – Да и, может быть, кузина ими не интересуется».
В дверях показалась Альрауне. В черном шелковом платье с дорогими кружевами, в короткой юбке. На мгновение она остановилась на пороге, потом подошла ближе и поздоровалась:
– Добрый вечер, кузен.
– Добрый вечер, – ответил он и подал руку. Она протянула только два пальца, но он сделал вид, что не заметил. Взял всю ее руку и крепко пожал.
Жестом попросила она его к столу и сама села напротив.
– Мы должны, наверное, говорить друг другу «ты»? – сказала она.
– Конечно, – подтвердил он, – у тен-Бринкенов это всегда было принято. – Он поднял бокал: – За твое здоровье, маленькая кузина.
«Маленькая кузина, – подумала она, – он называет меня маленькой кузиной. Он смотрит на меня, как на ребенка». Но не стала противоречить: «За твое здоровье, большой кузен».
Она опорожнила бокал и подала знак лакею налить снова.
И выпила еще раз: «За твое здоровье, господин опекун».
Он невольно засмеялся.
«Опекун, опекун-это звучит очень гордо. Разве я действительно так уж стар?» – подумал он и ответил:
– И за твое, маленькая воспитанница,
Она рассердилась. «Маленькая воспитанница», опять – маленькая?» О, она ему скоро покажет, какая она маленькая.
– Как здоровье твоей матери? – спросила она.
– Мерси, – ответил он. – Кажется, хорошо. Ты ведь ее совершенно не знаешь? А могла бы когда-нибудь ее навестить.
– Да ведь и она у нас никогда не была, – ответила Альрауне. Потом, увидев его улыбку, быстро добавила: – Признаться, я об этом не думала.
– Конечно, конечно, – сухо сказал он.
– Папа о ней почти не говорил, а о тебе я вообще никогда не слыхала. – Она говорила немного поспешно, как будто торопилась. – Меня, знаешь ли, удивило, что он выбрал именно тебя…
– Меня тоже, – перебил он. – Конечно, это сделано не случайно.
– Не случайно? – спросила она. – Почему не случайно?
Он пожал плечами: «Пока я и сам еще не знаю, но, вероятно, скоро пойму».
Разговор не смолкал, как мяч, – туда-сюда летали короткие фразы. Они придерживались вежливого, любезного и предупредительного тона, но наблюдали друг за другом, были все время настороже. После ужина она повела его в музыкальную комнату. «Хочешь чаю?»-спросила она. Но он попросил себе виски с содовой.
Они сели и продолжали разговаривать. Вдруг она встала и подошла к роялю: «Спеть тебе что-нибудь?»
– Пожалуйста, – попросил он вежливым тоном.
Она села и подняла крышку. Потом повернулась с вопросом: «Ты, может быть, хочешь что-нибудь определенное?»
– Нет, – ответил он, – я не знаю твоего репертуара, маленькая кузина.
Она слегка сжала губы. «Надо его от этого отучить», – подумала она. Взяла несколько аккордов, спела несколько слов.
Потом прервала и начала новый романс. Снова прервала, спела несколько тактов из «Прекрасной Елены», потом несколько слов из григовской песни.
– Ты, по-видимому, не в настроении, – спокойно заметил он.
Она сложила руки на коленях, помолчала немного и начала нервно барабанить пальцами. Потом подняла руки, опустила быстро на клавиши и начала:
Il etait bergere,
et ron et ron, petit patapon,
il etait une bergere,
qui gsrdait ses moutons.
Она повернулась, сделала гримаску. Да, маленькое личико, обрамленное короткими локонами, действительно могло принадлежать грациозной пастушке…
Elle fit un fromage,
et ron et ron, petit patapon,
elle fit un fromage
du lait de ses moutons.
«Прелестная пастушка, – подумал он. – Но, бедные овечки»,
Она покачала головой, вытянула левую ножку и стала отбивать по полу такт изящной туфелькой.
Le chat qui la regarde,
et ron et ron, petit patapon,
le chat qui la regarde,
d' un petit air patapon.
Si tu mets la patte,
et ron et ron, petit patapon,
Si tu y mets la patte,
tu auras du baton!
Она улыбнулась ему – блеснул ряд белых зубов. «Она, кажется, думает, что я должен играть роль ее кошки», – подумал он.
Лицо ее стало немного серьезнее, и в голосе слегка зазвучала ироническая угроза.
Il n' y pas la patte,
et ron et ron, petit patapon,
il n' y mis pas la patte,
il y mit le metron.
La bergere en colere,
et ron et ron, petit patapon,
la bergere en colere,
tua son petit chaton.
– Прелестно, – сказал он, – откуда, откуда у тебя эта песенка?
– Из монастыря, – ответила она, – ее пели там сестры.
Он засмеялся:
– Вот как, из монастыря! Удивительно. Спой же до конца, маленькая кузина.
Она вскочила со стула:
– Я кончила. Кошечка умерла – вот и вся песня.
– Не совсем, – ответил он. – Твои благочестивые сестры боялись наказания: у них прелестная пастушка безнаказанно совершает свой грех. Сыграй-ка еще раз: я тебе расскажу, что сталось с ней впоследствии.
Она села опять за рояль и заиграла ту же мелодию. Он запел:
Elle fut a confesse,
et ron et ron, petit pstapon,
elle fut a confesse
pour obtenir pardon.
Mon, pere je m'accusse,
et ron et ron, petit patapon,
mon pere je m'accusse,
d' avour tue mon chaton!
Ma fille, pour penitance,
et ron et ron, petit patapon,
ma fille pour penitance,
nous nous embrasserots!
La penitance est douce,
et ron et ron, petit patapon,
la penitance est douce —
nous recommencerons!
– Все? – спросила она.
– О да, все, – засмеялся он. – Ну, как тебе понравилась мораль, Альрауне?
Он первый раз назвал ее по имени – это бросилось ей в глаза, и она не обратила внимания на сам вопрос.
– Великолепно, – равнодушно ответила она.
– Правда? – воскликнул он. – Превосходная мораль: маленькая девушка не может безнаказанно убивать свою кошечку.
Он стал вплотную перед нею. Он был выше по крайней мере на две головы, и ей приходилось поднимать глаза, чтобы уловить его взгляд. Она думала о том, как все-таки много значат – эти глупые тридцать сантиметров. Ей захотелось быть в мужском костюме: уже одна ее юбка дает ему преимущество, – и в то же время у нее вдруг мелькнула мысль, что ни перед кем другим она не испытывала такого чувства. Но она выпрямилась и слегка тряхнула кудрями.
– Не все пастушки приносят такое покаяние, – сказала она.
Он отпарировал:
– Но и не все духовники отпускают так легко прегрешения.
Она хотела что-то возразить, однако не нашлась. Это ее злило. Она хотела отразить меткий удар, но его манера говорить была для нее так нова, – она, правда, понимала его язык, но сама не умела на нем говорить.
– Спокойной ночи, господин опекун, – поспешно сказала она. – Я иду спать.
– Спокойной ночи, маленькая кузина, – улыбнулся он, – приятных сновидений.
Она поднялась по лестнице. Не побежала, как всегда, а шла медленно и задумчиво. Он не понравился ей, этот кузен, – нет.
Но он злил, возбуждал в ней дух противоречия. «Как-нибудь справимся с ним», – подумала она.
И сказала, когда горничная сняла с нее корсет и подала длинную кружевную сорочку: «Хорошо все-таки, Кате, что он приехал. Все-таки разнообразие». Ее почти радовало, что она проиграла эту аванпостную стычку.
* * *
Франк Браун подолгу совещался с советником юстиции Гонтрамом и адвокатом Манассе. Совещался с председателем опекунского совета и сиротского суда. Много ездил по городу и старался возможно скорее урегулировать дела покойного профессора. Со смертью последнего уголовное преследование, разумеется, прекратилось, но зато градом посыпались всевозможные гражданские иски. Все мелкие торгаши, дрожавшие прежде от одного взгляда его превосходительства, объявились теперь и предъявили свои бесчисленные требования – иногда довольно сомнительного свойства.
– Прокуратуре мы теперь не надоедаем, – заметил старый советник юстиции, – и уголовному департаменту нечего делать. Но зато мы арендовали на долгое время ландсгерихт. Две гражданских камеры на целых полгода стали кабинетом покойного тайного советника.
– Это доставит удовольствие покойному, если только он сможет на нас взглянуть из адова пекла, – сказал адвокат. Такие процессы он очень любил – особенно оптом.
Он засмеялся, когда Франк Браун вручил ему акции Бурбергских рудников, доставшихся по завещанию.
– Вот бы теперь здесь быть старику, – пробурчал он. – Он бы уж над вами посмеялся. Подождите – сейчас вы будете удивлены.
Он взял бумаги и сосчитал их. «Сто восемьдесят тысяч марок, – сказал он, – сто тысяч для вашей матушки, остальное для вас. Ну, так послушайте же». Он снял трубку телефона, позвонил в банк и попросил вызвать одного из директоров.
«Алло, – залаял он. – Это вы, Фридберг? Видите ли, у меня есть несколько бурбергских акций, – за сколько их можно продать?» Из слуховой трубки послышался раскатистый хохот, на который таким же смехом ответил Манассе.
– Я так и думал, – заметил он, – так, значит, ничего, а?! И никаких видов на будущее?! Лучше всего, значит, раздарить весь этот хлам, – но кому? Мошенническое предприятие, которое в скором времени рухнет?! Благодарю вас, господин директор. Простите, что побеспокоил.
Он повесил трубку и с насмешливой улыбкой повернулся к Франку Брауну: «Ну, теперь вы знаете? А сейчас состройте глупую гримасу, на которую рассчитывал ваш гуманный дядюшка, но бумаги оставьте все-таки мне. Может быть, какое-нибудь конкурирующее предприятие возьмет их и заплатит вам несколько сотен марок: мы по крайней мере разопьем тогда бутылку шампанского».
* * *
Наиболее тягостными для Франка Брауна были ежедневные совещания с большим мюльгеймским кредитным обществом. Изо дня в день банк влачил свое жалкое существование, постоянно питая надежду получить от наследников тайного советника хотя бы часть торжественно обещанной субсидии. С героическими усилиями директорам, членам правления и ревизионной комиссии удавалось оттягивать день за днем окончательный крах. Его превосходительство при помощи банка удачно провел чрезвычайно рискованные спекуляции – для него банк был поистине золотым дном. Но новые предприятия, возникшие по его настоянию, все потерпели фиаско, – правда, его
деньги не находились в опасности, но зато пропало все состояние княгини Волконской и многих других богатых людей. И вдобавок еще несчастные гроши множества мелких людей и людишек, зорко следивших за счастливой звездой профессора. Временные душеприказчики тайного советника обещали помощь, насколько это будет зависеть от них, но у советника юстиции Гонтрама закон связывал руки не менее, чем у председателя опекунского совета.
Правда, была единственная возможность – ее придумал Манассе. Объявить совершеннолетней фрейлейн тен-Бринкен. Тогда она может свободно располагать своим состоянием и исполнить моральный долг отца. В расчете на это трудились все заинтересованные лица, в надежде на это люди поддерживали банк последними грошами из собственных карманов. Две недели назад они страшными усилиями отбили нападение на кассы, вызванное паникой в городе, – но во второй раз сделать это было уже немыслимо.
Альрауне до сих пор лишь качала головкой. Она спокойно выслушала то, что рассказали представители банка, улыбнулась и ответила только: «Нет».
– Зачем мне быть совершеннолетней? – спросила она. – Мне и так хорошо. Да и зачем отдавать деньги для спасения банка, который меня ничуть не касается?
Председатель опекунского совета разразился длинной тирадой. Дело идет о чести ее покойного отца. Все знают, что он один был виновником затруднений банка, долг любящей дочери – спасти от позора его доброе имя.
Альрауне расхохоталась ему прямо в лицо:








