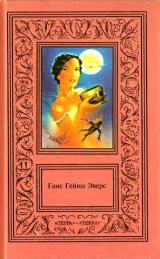
Текст книги "Сочинения в двух томах. Том первый"
Автор книги: Ганс Гейнц Эверс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
– Вы уезжаете из Берлина?
– Да, – отвечал он, – я еду в Уседом, к моей тетке. Это очень красивая местность, Уседом.
– Когда вы уезжаете?
– Я, собственно, уже должен был бы уезжать. Но послезавтра один мой старый друг празднует юбилей, и я должен был обещать прийти к нему. Я был бы очень рад, если бы вы доставили мне такое удовольствие и отправились вместе со мной.
– На юбилейное праздненство вашего друга?
– Да. Вы там увидите нечто совсем особенное. Совсем не то, что вы представляете себе. Впрочем, мы прожили вместе почти семь месяцев в полном мире, и я надеюсь, что вы не откажете мне в моей маленькой просьбе провести последний вечер вместе со мной.
– Упаси Боже! – ответил я.
Вечером, около восьми часов, Беккерс зашел за мной.
– Сию минуту! – промолвил я.
– Я пойду вперед, чтобы нанять извозчика. Я буду ждать вас внизу. Не могу ли я еще попросить вас надеть черные брюки, сюртук, цилиндр и захватить также черные перчатки? Вы видите, я одет точно так же.
«Вот еще, – проворчал я про себя, – хорошенький юбилей, нечего сказать».
Когда я вышел на улицу, Беккерс уже сидел на извозчике. Я уселся рядом с ним, и мы поехали через весь Берлин. Я не обращал внимания, по каким улицам мы едем. После долгой, почти часовой езды мы остановились. Беккерс расплатился с извозчиком и повел меня сквозь высокую арку ворот на длинный двор, окруженный высокою стеною. Он толкнул низенькую дверь в стене, и мы очутились около маленького домика, который прилегал вплотную к стене. Кругом расстилался великолепный сад.
– Смотрите, пожелуйста. Еще один большой частный сад в Берлине. Никогда не узнаешь всех секретов в этом городе…
Но я не имел времени на более подробный осмотр. Беккерс был уже на верху каменной лестницы, и я поспешил за ним. Дверь была открыта. Из темной передней мы прошли в маленькую, скромно убранную комнату. Посредине стоял накрытый белой скатертью стол, а на нем большой кувшин с крюшоном. Направо и налево от него горели свечи в двух высоких церковных светилтниках из тяжелого старинного серебра. Два таких же высоких пятисвечных светильника стояли на превращенном в буфет комоде и бросали свет на большое блюдо с сандвичами. На стенах висели две-три старых олеографии, на которых едва можно было различить краски, и смножество венков с прекрасными широкими шелковыми лентами. Юбиляр был, очевидно, оперный певец или актер. И какой замечательный! Такого количества венков я не видел ни у одной, хотя бы даже самой популярной, дивы. Они висели от пола до потолка – по большей части старые и выцветшие, но среди них были и совсем свежие, очевидно, только что поднесенные юбиляру по случаю его юбилея.
Беккерс представил меня:
– Я вам привел моего друга, – промолвил он, – господин Лауренц, его супруга и семейство.
– Отлично, отлично, господин Беккерс! – проговорил юбиляр и потряс мне руку. – Это высокая честь для нас!
Я видал немало редких типов, расцветавших и отцветавших на сцене, но такого, признаюсь, не видал… Вообразите себе: юбиляр был необычайно, исключительно мал и имел, по меньшей мере, семьдесят пять лет от роду. Его руки были так же мозолисты и жестки, как старая солдатская подошва. При этом несмотря на то, что он, по случаю юбилея, очевидно предпринял самую энергичную чистку их, они были темно-коричневого, землистого цвета. Его высохшее лицо походило на картофельную кожуру, которая два месяца лежала на солнце. Его длинные уши торчали, словно семафоры. Над его беззубым ртом свешивались растрепанные седые усы, топорщившиеся от нюхательного табака. Тонкие волоски неопределенного цвета были приклеены то здесь, то там на его бледном черепе.
Его жена, особа почти одних лет с ним, налила нам вина и поставила перед нами тарелку с сандвичами, колбасой и ветчиной. Сандвичи, впрочем, имели очень аппетитный вид, и это отчасти примирило меня с нею. На ней было черное шелковое платье, черная брошь и черные же браслеты. Остальные присутствующие – человек пять-шесть – были тоже в черном. Один из них был еще меньше ростом и еще старше, чем юбиляр, другие могли иметь лет сорок-пятьдесят.
– Ваши родственники? – спросил я господина Лауренца.
– Нет. Вот только тот – одноглазый – мой сын. Остальные – мои служащие.
Итак, это были его служащие! Таким образом, мое предположение, что господин Лауренц был звездою сцены, оказалось неверным. Но в таком случае откуда же он получил все эти великолепные венки? Я прочел посвящения на шелковых лентах. На одной – черно-бело-красной – ленте было напечатано: «нашему храброму начальнику. Верные гренадеры крепости С.-Себастьян» Стало быть, он был гарнизонный командир! На другой ленте я прочел: «Избиратели в рейхстаг от христианского центрального комитета». Значит, он играл роль в политике! «Величайшему Лоэнгрину всех времен…» Итак, он все-таки был оперный певец! «Незабвенному коллеге. Берлинский клуб печати.» К тому же еще и человек пера?… «светочу немеукой науки, украшению немецкого гражданства. Союз сободомыслящих.» Поистине, выдающийся человек этот господин лауренц! Мне сделалось стыдно, что я никогда не слыхал о нем. Красная, как кровь, лента имела надпись: «певцу свободы – люди труда». На другой – зеленой можно было прочесть: «Моему дорогому другу и соратнику. Штеккер, придворный проповедник».
Что это был за редкий человек, который знал и умел все и пользовался одинаковым почетом во всех сферах и областях? Посреди стены висела огромная лента с тремя вескими словами: «Величайшему сыну Германии…»
– Извините меня, господин Лауренц, – скромно начал я, – я глубоко несчастлив, что до сих пор ничего не слыхал о вас. Могу я предложить вам вопрос?
– Конечно! – промолвил весело лауренц.
– Какой, собственно, юбилей празднуете вы сегодня в таком восхитительно-тесном семейном кругу?
– Стотысячный! – ответил Лауренц.
– Стотысячный? Спросил я.
– Стотысячный! – повторил Лауренц и плюнул мне на сапог.
– Стотысячный!.. – задумчиво произнес одноглазый сын. Стотысячный!..
– Стотысячный!.. – повторила госпожа Лауренц. – Могу я налить вам еще стакан вина?
– Стотысячный! – сказал Лауренц еще раз. – Не правда ли, хорошенькое число?
– Очень хорошенькое! – сказал я.
– В самом деле, это очень хорошенькое число! – сказал Фриц беккерс. Он встал и поднял свой стакан. – Сто тысяч. Исключительно прекрасное число. Сто тысяч. Вы подумайте только.
– Чудесное число! – произнес тот гость, который был еще меньше и старше господина Лауренца. – Совершенно чудесное число. Сто тысяч.
– Я вижу, вы понимаете меня. Господа, – продолжал Фриц Беккерс, – и поэтому я считаю лишним распространяться по данному поводу. Я ограничусь только одним словом: сто тысяч. А вам, милый юбиляр, я желаю еще сто тысяч!
– Еще сто тысяч! – воскликнули жена господина Лауренца. И его сын, и его служащие, и все чокнулись с юбиляром.
Меня озарило: Лауренц накопил первые сто марок или талеров и поэтому угощал вином.
Я тоже взял стакан и чокнулся с ним:
– Позвольте и мне с искренним сердцем присоединиться к пожеланию, высказанному господином Беккерсом. Еще сто тысяч. Prosit! Non olet!
– Что он сказал? – обратился юбиляр к беккерсу.
– Non olet. – Не пахнет, – пояснил тот.
– Не пахнет? – Лауренц рассмеялся. – Знаете что, молодой человек, вы могли бы с полным основанием заткнуть себе нос. Почти все пахнут. Мне вы можете поверить…
Каким же, спрашивается, плутовским способом этот старый грешник мог приобретать свои капиталы, если он так цинично говорил об этом?..
Беккерс снова поднялся и взял пакет, который он перед тем положил на комод.
– Я позволю себе предложить вам, господин Лауренц, маленький знак нашей признательности, а вместе с тем воспоминание о нашей дружбе и о вашем прекрасном юбилее.
Он вынул из пакета большой белый череп, красиво оправленный в серебро. Верхняя часть черепа была отпилена и снова приклепелна на свое место посредством шарнира, так что могла двигаться подобно крышке пивной кружки.
– Дайте мне ложку! – воскликнул он. Затем он наполнил череп доверху вином, выпил и протянул юбиляру. Тот в свою очередь выпил и передал череп соседу. И таким образом череп сделал круг.
– Знаешь, старуха, – рассмеялся юбиляр, – он годится для моего утреннего пива.
Фриц Беккерс посмотрел на часы.
– Четверть одиннадцатого. Я должен поспешить: мой поезд скоро отходит.
– Дорогой друг и благодетель, – промолвил юбиляр, – еще немножко. Еще хоть четверть часика. Прошу вас, дорогой друг и благодетель.
Фриц Беккерс был благодетелем этого знаменитого человека. Это становилось все загадочнее.
– Нет, не могу, – энергично сказал благодетель и протянул мне руку. До свидания.
– Я иду с вами.
– Для вас это будет слишком большой крюк. Мне надо на Штеттинский вокзал. Я дойду до ближайшей стоянки извозчиков и пошлю извозчика также и для вас. Adieu! Я должен поспешить, иначе я прозеваю поезд.
Все вышли проводить его. Я остался один и пил вино. Старик вернулся, чтобы налить мне еще стакан.
– Знаете что? – обратился он ко мне. – если вам понадобится что-нибудь, пожалуйте ко мне. Я обслуживаю своих клиентов очень хорошо. Вы можете спросить об этом господина Беккерса. Только свежий товар…
Итак, это был купец. Наконец я выяснил это.
– Хорошо. Если будет нужно, я обращусь к вам. Но в данный момент у меня уже есть поставщик…
– Ка-а-ак? Кто же такой? – юбиляр почему-то очень испугался.
По правде сказать, я не имел ни малейшего представления о том, чем, собственно. Он торгует.
– Вертгейм, – сказал я. Это имя показалось мне наиболее надежным.
– О, эти универсальные торговли! – простонал он. – они разоряют маленьких людей. Но вас обслуживают, наверное, недостаточно хорошо? Попробуйте у меня. То, что вы получаете у вертгейма, верояно, очень неважно по качеству. Гнилые рыбы…
А, так он был рыботорговцем! Наконец! Я уже почти собрался сделать ему заказ, но мне вспомнилось, что теперь конец месяца.
– До первого числа я еще не нуждаюсь, но на следующий месяц можете прислать мне что-нибудь. Дайте мне ваш прейскурант.
Старик был очень смущен.
– Прейкурант? Разве у вертгейма есть прейскурант?
– Конечно, есть. Умеренные цены и хороший товар. Совершенно свежий. Живой.
Юбиляр в ужасе вскочил и почти без сознания упал в объятия к своей жене.
– Старуха! – простонал он. – В е р т г е й м п о с т а в л я е т ж и в ы х!
В этот момент я услышал, что к дому подъехали дрожки. Я воспользовался смятением, выбежал из комнаты, схватил пальто и шляпу и вскочил на извозчика.
– Кафе «Secession»! – сказал я ему.
Ошади тронулись. Я бросил назад беглый взгляд и увидел сбоку у двери маленькую белую вывеску. Я прищурил глаза, чтобы лучше видеть, и с некоторым трудом прочитал:
ЯКОБ ЛАУРЕНЦ.
Могильщик.
… Тысяча чертей! Юбиляр был могильщик.
Через несколько месяцев после отъезда Беккерса я тоже собрался съезжать из своей комнаты. Хозяйка помогала мне укладывать чемоданы и ящики. Я стал заколачивать гвоздями ящик с картинами, как вдруг рукоятка молотка сломалась.
– Ах черт! – воскликнул я.
– У меня есть еще другой молоток, – сказала хозяйка, которая в это время артистически укладывала мои костюмы. – Погодите, я принесу.
– Оставайтесь. Я сбегаю сам. Где он у вас лежит?
– В кухонном столе, в выдвижном ящике. Но только в самом низу.
Я отправился в кухню. Ящик кухонного стола был битком набит нужными и ненужными предметами. Всевозможные инструменты, иголки. Нитки, кнопки, дверные ручки, ключи… Вдруг мне бросилась в глаза голубая ленточка с маленьким золотым медальоном. Неужели это был медальон Анни? Я открыл его; там была выцветшая маленькая фотография – портрет ее матери. Она всегда носила это единственное воспоминание об умершей на своей груди как амулет.
– Я хочу взять его с собой в могилу, – сказала она мне однажды.
Я унес медальон с собой в комнату.
– Откуда вы его достали? – спросил я хозяйку.
– Это я нашла намедни, когда прибирала комнату господина Беккерса. Он лежал в маленькой комнатке, в темном углу. Я хотела сохранить его для господина Беккерса: может быть, он снова приедет сюда.
– Я возьму его себе, – сказал я.
Я положил медальон в мой бумажник, и он лежал там в течение нескольких лет. А позднее я пожертвовал его в Музей естествознания на улице Инвалидов. Это было совсем недавно – неделю тому назад.
Дело было так.
Я сидел в кафе «Монополь» и читал газеты. Вдруг в кафе влетел маленький Беерман из «Биржевого курьера».
– Кофе по-венски, сударь? – спросил его кельнер.
– Кофе по-венски!
Он уселся за маленький столик и стал протирать пенсне. Затем надел его и оглянулся.
– А, это вы? – воскликнул он, заметив меня. – Фриц, подайте кофе на тот столик.
Он уселся ко мне, и кельнер подал ему кофе.
– Вы, венцы, ужасные люди. Ну как можно пить такую бурду?
– Вы находите? – промолвил он. – Я очень рад, что встретился с вами. Вы должны оказать мне большую услугу.
– Гм… – промычал я. – Я не имею сегодня вечером абсолютно никакого времени.
– И все-таки вы должны помочь мне. Непременно. Кроме вас, здесь сейчас нет никого, а я должен сейчас снова уйти.
– А в чем дело?
– Мне нужно быть на первом представлении в «Немецком театре». А между тем я вспомнил, что мне предстоит еще одно дело сегодня вечером, о котором я совсем было позабыл.
– Что именно?
– Сегодня вечером профессор Келер делает в Музее естествознания доклад о новых египетских приобретениях этого музея. Очень интересная вещь. Весь Двор будет там сегодня.
– Чрезвычайно интересно.
– Не правда ли?
– Так сделайте мне такое одолжение, пойдите туда. Я буду вам очень благодарен.
– Мне надо подумать об этом… Впрочем, знаете что? Меня это вовсе не интересует.
– Пожалуйста! Это же самая последняя злоба дня. Все новые находки будут показаны публике. Я очень несчастен, что не могу попасть туда.
– Давайте устроимся так: вы пойдете в музей, а я – в театр?
– Невозможно. К сожалению, совершенно невозможно! Я обещал моей кузине взять ее сегодня в театр.
– Что же вы раньше не сказали?
– Ну пожалуйста. Сделайте мне такое одолжение. Вы не будет сожалеть. Вы выведете меня из очень затруднительного положения.
– Но…
Он вскочил и бросил на стол мелочь.
– Фриц, получите за кофе. Вот вам билеты. Два. Вы можете еще кому-нибудь другому доставить удовольствие.
– Приятное удовольствие, нечего сказать… Я…
– Да, еще вот что: не забудьте ваш отчет о докладе сунуть в почтовый ящик еще сегодня же, чтобы я нашел его в редакции с первой же почтой. Очень благодарен. Готов служить вам всегда…
И он исчез.
Билеты лежали передо мной. О небо! Я в самом деле должен был выполнить его просьбу: он сам часто оказывал мне одолжение. Ужасный человек.
Я даже не пытался передать билеты кому-нибудь другому. Я прекрасно знал, что это не удастся.
Разумеется, я отправился в музей только тогда, когда уже три четверти доклада были прочитаны. Я подсел к одному из корреспондентов и попросил у него его заметки. Я узнал из них, что музей, благодаря царственной щедрости господ коммерции советников Брокмюллера («Яволь») и Лилиенталя («Одоль»), получил счастливую возможность купить за огромную суму все великолепные находки, добытые в пирамидах Тогбао и Кума. Эти почти совершенно разрушенные пирамиды были открыты одним молодым исследователем в нескольких сотнях километров к югу от озера Чад, в стране Рабех, гле молодой немецкий ученый был в течение долгих лет пленником. 22 апреля 1900 года правитель этой страны был убит французами в битве при Лами, и голова его была доставлена индийским стрелком во французский лагерь. Сын убитого, фадель-Аллах, бежал в страну Борну и захватил с собой туда и немецкого ученого. Там. В стране Борну, правительница этой страны, сестра Фадель-Аллаха, воинственная амазонка Хана, взяла молодого немца себе в мужья. Когда затем 23 августа 1901 года англичане напали ночью под Дангевилем на туземный лагерь, где находились Фадель-Аллах и наш немец, и перебили сонных туземцев всех без остатка, молодой ученый наконец получил свободу. Он отправился к племени сенусси. Глава которого принял его, как немца, весьма любезно и оказал ему всевозможные услуги, так как эти фанатические мусульмане, заключившие союз с ненавистниками французов – туарегами – совершенно изменили теперь свою политику по отношению к Франции. С помощью этих людей немецкому ученому удалось сберечь найденные им сокровища и переправить их через Северный Камерун на африканское побережье, а оттуда в Германию.
К сожалению, сам ученый не присутствовал на докладе: несколько недель спустя после своего прибытия в Европу он снова уехал в Центральную Африку.
Зато, слава Богу, здесь присутствовали оба коммерции советника. Они оба сидели рядышком в первом ряду и так раздувались от славы и сознания, что они участвовали в отыскании следов древнеегипетской культуры на берегах озера Чад…
– Теперь я попрошу вас, – закончил свой доклад профессор Келер, подойти поближе и лично осмотреть наши бесценные приобретения.
И он отдернул занавес, за которым скрывалсиь все эти сокровища.
– Вероятно, вам небезызвестно, что в Древнем Египте кошки считались священными животными, так же, как крокодилы, ибисы, кобчики и все те млекопитающие, которые были посвящены Пта, то есть имели белое треугольное пятно на лбу. Вследствие этого все эти животные, подобно фараонам, верховным жрецам и знатным людям, подвергались после своей смерти бальзамированию. Почти во всех пирамидах встречаются мумии кошек. Наша находка в этом последнем отношении чрезвычайно богата – доказательство того, что египетские колонии в области озера Чад происходили из кошачьего города Бубастис. Мы насчитываем не менее как двести шестьдесят восемь экземпляров этих реликвий из седого прошлого.
И профессор гордо указал на длинные ряды маленьких мумий, которые имели вид высохших грудных младенцев в пеленках.
– Далее вы видите, – продолжал он, – тридцать четыре человеческих мумии – великолепнейшие экземпляры, которые отныне, несомненно, послужат предметом зависти для всякого друго музея. А именно: эти мумии ничуть не подходят на мемфисские – черные, высохшие и легко рассыпающиеся мумии. Но имеют сходство с фиванскими – желтыми. Отливающими матовым блеском. Можно, поистине, удивляться изумительному искусству древнеегипетских бальзамировщиков. А теперья перехожу к прекраснейшему перлу нашего богатого собрания, к лучшему украшению нашего музея: перед вами лежит настоящий тофар. Тофар-мумия или тофар-невеста…
Только три таких мумии знает современный свет: одна была пожерствована в 1834 году лордом Гэйтгорном в лондонский South-Kensington Museum. Другая, по-видимому, супруга фараона Меревра, из Шестой династии, жившего за две тысячи пятьсот лет да Рождества Христова, находится в обладании гарвардского университета, будучи подарена последнему известным миллиардером гуллем, который купил ее у хедива Тевфика за огромную сумму в восемьдесят тысяч долларов. Наконец, третий экземпляр имеется теперь в нашем музее, благодаря великодушной щедрости и высокому уважению и любви к науке господ коммерции советнико Брокмюллера и Лилиенталя.
«Яволь» и «Одоль» сияли своими жирными физиономиями.
– «Тофар-мумия», – продолжал профессор, – является памятником одного своеобразнейшего и вместе с тем ужаснейшего обычая, какие только знает мировая история. Подобно тому как в Древней Индии существовал обычай, согласно которому вдова следовала за своим мертвым супругом на могильный костер и сгорала заживо, так в Древнем Египте считалось знаком величайшей супружеской верности, если супруга скончавшегося следовала за ним в жилище вечного успокоения и обрекала себя на бальзамирование в ж и в о м в и д е… Я прошу вас принять во внимание то обстоятельство, что бальзамированию подвергались только трупы фараонов и знатнейших лиц; примите далее во внимание также то, что это неслыханное доказательство супружеской верности было добровольным и что таким образом лишь немногие женщины решались на это, – и вы поймете, как невероятно редки такие мумии. Я утверждаю, что во всей египетской истории церемония подобного жерствоприношения совершалась всего шесть раз. «Тофар-невеста», как ее называли египетские поэты, в сопровождении большой свиты спускалась в подземный город мертвых и там поручала свое тело ужасным бальзамировщикам. Эти последние проделывали с нею те же манипуляции, что и с трупами, но только с тем различием, что они совершали свою работу очень медленно – с тем расчетом, чтобы тело как можно дольше сохраняло свою жизнь. Способ и искусство бальзамирования египтян нам еще мало известны. Мы знаем об этом лишь кое-что, почерпнутое нами из весьма скудных заметок Геродота и Диодора. Одно можно считать совершенно установленным: «тофар-невеста» превращалась в мумию в живом виде и с величайшими страданиями. Правда, для нее существовало некоторое слабое утешение: ее мумия не подвергалась засыханию. Ее тело оставалось таким же, каким оно было прижизни, и не теряло ни единой своей живой краски. Вы можете убедиться в этом сами: можно подумать, что эта прекрасная женщина только что сейчас заснула.
С этими словами профессор отдернул шелковое покрывало.
– А!.. Ах! А-а! – разалось вокруг.
На мраморном столе лежала молодая женщина, завернутая по грудь в тонкие полосы полотна. Плечи, руки и голова были свободны, черные локонаы вились над ее любом. Тонкие ногти маленьких рук были выкрашены, а на левой руке, на третьем пальце, было надето кольцо с изображением священного жука. Глаза были закрыты, черные ресницы тщательно удлинены подрисовкой.
Я подошел к ней вместе с другими совсем близко, чтобы получше рассмотреть…
П р а в е д н ы й Б о ж е! Э т о б ы л а А н н и!..
Я громко вскрикнул, но мой крик потонул в шуме толпы. Я хотел говорить, ноя не мог пошевелить языком и в безмолвном ужасе смотрел на мертвую.
– Эта «тофар-невеста», – продолжал между тем профессор, – несомненно, никоим образом не феллахская девушка. Черты ее лица представляют собою явный тип индогерманской расы. Я подозреваю, что это – гречанка. И факт этот вдвойне интересен: он указывает нам на следы не только египетской, но и эллинской культуры на берегах озера Чад, в Центральной Африке.
Кровь застучала у меня в висках. Я схватился за спинку стула, чтобы не упасть. В этот момент на плечо мне легла чья-то рука.
Я повернулся и увидел перед собой гладковыбритую физиономию… О небо! Я все-таки сразу узнал его. Это был Фриц Беккерс.
Он взял меня за руку и вывел из толпы. Я последовал за ним почти безвольно.
– Я подам на вас жалобу прокурору, – прошипел я сквозь зубы.
– Вы не сделаете этого. Это было бы совершенно бесцельно, и вы только сами нажили бы себе неприяности. Я – никто. Абсолютно никто. Если вы всю землю просеете сквозь решето, вы и тогда не найдете Фрица Беккерса. Так назывался я только на Винтерфельдштрассе.
Он засмеялся, и его лицо приняло отвратительное выражение. Я не мог глядеть на него, отвернулся и стал глядеть на пол.
– А впрочем, – прошептал он мне на ухо, – разве не лучше так?… Ведь вы поэт… Неужели ваша маленькая подруга не милее для вас в таком виде, в сиянии вечной красоты, чем прожранная червями на берлинском кладбище?
– Сатана! – бросил я ему в упор. – Гнусный сатана!
Я услышал за собой легкие удаляющиеся шаги. Я взглянул и увидел, как Фриц Беккерс проскользнул в дверь и исчез.
Профессор кончил доклад. Разадались громкие рукоплескания. Его поздравляли, к нему тянулись для рукопожатия бесчисленные руки. Точно так же были чествуемы и господа коммерции советники. Толпа начала тесниться к выходу. Никем не замеченный, я подошел к мертвой. Я вынул из кармана медальон с портретом ее матери и тихонько положил его на молодую грудь, под холщовую пелену. Затем я наклонился над нею и тихо поцеловал ее между глаз.
– Прощай, милая маленькая подруга! – сказал я…
О. Капри. Июнь 1903








