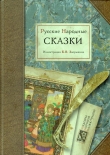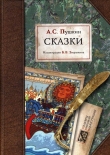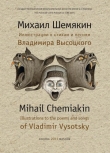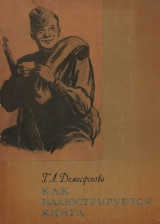
Текст книги "Как иллюстрируется книга"
Автор книги: Галина Демосфенова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
сказок. Советская иллюстрация 30-х годов дала читателю не виданное
до сих пор разнообразие художественных форм, глубоко
содержательное, основанное на впечатлениях действительности.
С середины 30-х годов начинается подлинный расцвет советского
иллюстративного искусства. Много лет прошло с тех пор.
Совершение

ствовалось искусство мастеров, появились новые имена. Были
созданы яркие образы литературных героев.
Вот перед нами Тарас Бульба Е. Кибрика (на фронтисписе).
Мощная фигура, гордый поворот головы, острый, проницательный и чуть с
юморком прищур глаз, умное волевое скуластое лицо с лихими
казацкими усами и неизменная люлька, зажатая в углу рта. Сила, ум,
благородство воплотились в образе, созданном Е. Кибриком.
А вот княжна Мэри и Грушницкий – герои лермонтовской пове -
сти, воплощенные в рисунке Д. Шмариновым (илл. 12). Яркие блики
южного солнца играют на светлом зонтике, платье и шляпке девушки,
делая ее фигурку легкой и воздушной. Она нагнулась, чтобы подать
стакан Грушницкому. Ее лицо в тени, контуры его чуть намечены,
выделяются только гладкие черные волосы и опущенные ресницы
«бархатных» глаз. Обаяние, изящество девушки подчеркиваются
контрастом с тяжелой, несколько неуклюжей фигурой растерянного
Грушницкого.
Мрачной и страшной в своей житейской правдивости предстает
перед читателем в иллюстрации Кукрыниксов смерть Акакия
Акакиевича, скромного героя гоголевской повести (илл. 13). В тесной
неуютной каморке со сводчатыми потолками, с облупившейся
штукатуркой на стене, горит оплывшая свеча. Освещая грубый топчан с
лежащей фигурой, она выхватывает из трепетного полумрака лица
старушки и доктора. Зловещие тени, вырастая снизу, бродят по стене.
Поза старушки выражает настороженный вопрос, а доктор спокоен
и даже несколько брезглив. Не сняв пальто, он стоит у постели, через
плечо глядя на умирающего. Глаз не видно за квадратными стеклами
очков, но в выражении его лица нет ни жалости, ни сочувствия:
«Что же? Умирает еще один бедняк, трагедия невелика».
Об искусстве советской иллюстрации и о творчестве отдельных
ее мастеров написаны десятки книг, издаются альбомы, помещаются
статьи в журналах. Эта очень обширная и сложная область
советского изобразительного искусства получила широкое признание и
у нас на Родине, и за ее рубежом.
Лучшие произведения иллюстративного искусства
систематически показываются на художественных выставках. В Англии, США,
Германии, Франции, Италии, Китае и других странах известны
имена и работы наших иллюстраторов.
28


По сравнению с 30-ми годами советская иллюстрация далеко утла
вперед. Она теперь способна воспроизводить тонкие психологические
оттенки литературного произведения. Художникам-иллюстраторам
удалось решить сложную задачу единого построения серии, точного
распределения в ней нужных акцентов. Многие современные
иллюстративные серии – это изобразительные сюиты на темы
литературного повествования.
Требования современного читателя к иллюстратору очень велики,
и сами художники проявляют все возрастающую требовательность
и критическое отношение к своему искусству. Давно уже в практику
многих советских иллюстраторов вошло возвращение к ранее
сделанным произведениям, просмотр своих прежних работ с
современных позиций. Несколько раз, например, С. Герасимов дополпял
серию иллюстраций к «Делу Артамоновых» М. Горького (цв. вклейка),
по-новому прочли Гоголя Кукръшиксы, неоднократно возвращался к
своим ранее сделанным работам Д. Шмаринов. Так было с сериями
его иллюстраций к произведениям Некрасова, Пушкина, Лермонтова,
30

Достоевского, Горького. Иногда художники йереребатывают или
делают заново некоторые рисунки, а иногда просто дополняют
серию недостающими, по их мнению, листами.
Иллюстраторы не останавливаются на достигнутом, онп ищут
наиболее точные и выразительные пластические средства
художественного обобщения. Об этом говорят почти все большие
иллюстративные серии, созданные в последнее время. Одним из примеров нового
решения иллюстративного сопровождения текста является серия
очень талантливого, безвременно умершего художника Д. Дубинского
к рассказу Куприна «Поединок» (илл. 14). Шаг за шагом следуя
за писателем, Дубинский в рисунках, полных трагического
предчувствия и щемящей тоски, раскрывает историю героя. В цветовом
и пластическом решении иллюстраций столько тонких оттенков,
гармонии, что они действуют, как музыка.
Если в коротком и беглом очерке мне удалось дать хотя бы весьма
общее представление о сложности развития искусства иллюстрации,
о высоте ее художественного уровня в наши дни и пробудить интерес
к работам современных советских художников-иллюстраторов, то,
естественно, читатель заинтересуется и самим процессом создания
иллюстраций, теми этапами, которые проходит творческая мысль
художника, прежде чем получает зримое воплощение.
Современный человек является обладателем огромного богатства,
которое представляет собой художественная литература прошлого
и настоящего времени, и не будет преувеличением сказать, что
советский народ является наиболее мудрым наследником этого богатства.
Разнообразие художественной литературы, тираж, качество
массовой советской книги очень высоки. Недаром Советский Союз
считается пионером в создании массовой народной книги, и по его
стопам идут сейчас Китай и страны народных демократий. Велик и
процент иллюстрированных книг, издаваемых в нашей стране.
Таким образом, выбор у художника-иллюстратора очень большой. С
этого-то выбора и начинается творчество художника.
У каждого иллюстратора есть свой круг любимых писателей,
творчество которых отвечает характеру его дарования, наиболее
привлекающая его эпоха или, наконец, наиболее близкий ему
круг образов. Творческие симпатии отнюдь не означают, что
художник иллюстрирует только того или иного писателя, отражает
32


в своих произведениях только ту или иную эпоху. Но эти симпатии —
проявление творческой индивидуальности художника, они во многом
определяют его искусство. Так, например, Е. Кибрику близки образы,
воплощающие в себе народную силу, мудрость, стремление к свободе.
Он иллюстрирует «Кола Брюньона» Ромен Роллана, «Тиля
Уленшпигеля» Шарля де Костера, «Тараса Бульбу» Гоголя, русские
народные былины. Д. Шмаринову ближе всего ясная лирика
классической русской прозы – Пушкина, Лермонтова, Аксакова и
произведения, развертывающие широкие исторические картины прошлого
России, такие, как «Петр I» А. Толстого или «Война и мир» Л.
Толстого. Художник А. Каневский – веселый юморист (илл. 15). В его
иллюстрациях к повестям Гоголя (илл. 16), сказкам Пушкина и
А. Толстого масса выдумки, остроумия, живости. Д. Дубинскйй —
тонкий лирик и знаток психологии детей. Одним из его любимых
писателей был А. Гайдар.
S3
Насколько сложны мотивы, решающие выбор художника,
можно представить себе из интересного высказывания Е. Кибрика:
«Для того чтобы родилось действительно содержательное
художественное произведение, мало желания художника или
понимания им важности темы. Нужно гармоническое сочетание очень
многих обстоятельств. Нужно и соответствующее мастерство, и
достаточный жизненный и художественный опыт, и, главное, выношен-
ность, зрелость замысла, когда он естественно выливается в форму
художественного образа» г.
Остановившись на каком-либо литературном произведении,
художник внимательно и не раз читает это произведение. Чтение это не
простое, в нем уже присутствует творчество. Именно во время чтения
возникают у художника первые зрительные представления о героях
и обстановке, в которой они действуют. У художника зарождаются
порой смутно и еще недостаточно отчетливо в деталях первые
представления о будущей книге в целом начиная от ее внешнего облика
и кончая техникой выполнения иллюстраций. Техника выполнения
иллюстраций как способ непосредственного выражения мысли
художника играет очень важную роль, и замысел рождается неотрывно
от того, как он будет воплощен в оригинале.
Прежде чем начать непосредственную работу над иллюстрациями,
художник продумывает их место в книге. Он намечает формат и
пропорции иллюстраций, композицию разворотов, решает, расположатся
ли рисунки в тексте, будут ли заставки и концовки, выбирает
технику их выполнения. Место иллюстраций в книге во многом
определяется характером издания, но основное, от чего исходит художник —
это содержание книги. Художественные средства, которые
использует художник в своих иллюстрациях, соответствуют его творческой
индивидуальности, но они зависят также и от характера
литературного произведения: один и тот же художник в каждой новой работе
решает по-разному вопрос о художественных средствах, о приемах
размещения иллюстраций в книге.
Вот как пишет об этом Д. Шмаринов: «Что характеризует,
например, язык Пушкина? Ясность, простота, чеканная пластичность формы,
завершенность. И рисунки как будто требуют этого. Иллюстратор
1 «Советские художники. Из творческого опыта». Вып. II, стр 9.
34

должен этого добиваться. Представьте себе персонажей Пушкина,
которые будут изображены рыхло, приблизительно и фрагментарно.
Пушкин показывает своих героев со всех сторон, они ясны и
конкретны. Такая же простота и пластическая ясность должны быть и в
иллюстрации.
После «Повестей Белкина» я иллюстрировал «Преступление и
наказание» Ф. Достоевского (илл. 17).
Если «Повести Белкина» были построены, в основном, на
страничных рисунках, то весь макет книги «Преступление и наказание»
был задуман по-иному. Герои – основные действующие лица книги-
были показаны на страничных рисунках. Все действие, вся
драматическая интрига раскрывалась в сорока рисунках в тексте. Тема
одиночества Раскольникова развивается на фоне страшных каменных
петербургских трущоб, показанных в шмуцтитулах. В этих шести
вертикальных иллюстрациях одинокая фигура отщепенца, не
нашедшего себе места в жизни, бродит в чужом холодном городе...
... Как видите, если сравнивать эти рисунки по построению и
композиции с рисунками к Пушкину, то и в композиции, и в цвете
решение здесь иное, хотя все сделано в черном цвете.
Работая над «Петром I» А. Толстого (илл. 18), я встал перед
необходимостью овладеть иным литературным материалом. В романе
отображены исторические события с участием больших народных
масс. Поэтому я взял для иллюстраций горизонтальный формат. Это
диктовалось масштабом событий; то, что свободно компоновалось
в горизонтальных рисунках, с громадным трудом, насильственно
вмещалось бы в обычный, вертикальный формат иллюстрации» *.
За первоначальной стадией работы – чтением литературного
произведения с целью представить себе общий облик будущих
иллюстраций – следует вторая стадия работы: художник тщательно
выбирает и выписывает себе из разных мест повествования все, что
относится к характеристике каждого персонажа – черты его
внешности, высказывания, определяющие характер, манеру держаться,
отношение к другим персонажам. Выписки бывают порой очень
подробны – Горький, например, до мелочей описывает своих
действующих лиц; а иногда, как, скажем, в произведениях Чехова,
1 «Советские художники. Из творческого опыта». Вып. II, стр. 133—134.

художнику даются только намеки на внешность и черты характера
героя. В том и другом случае от иллюстратора требуется большой
творческий опыт и чутье при окончательном создании портрета героя.
Художник, имеющий дело с таким литературным образом,
который характеризуется в тексте многими подробностями и деталями,
должен суметь их органически сочетать, обобщить, передать
неразрывную связь внешнего облика героя с его внутренним миром.
Насколько это трудно, можно представить себе хотя бы из такого
сравнения. Художник пишет портрет хорошо знакомого ему лица. Он
очень точно передает его черты, но портрет получается сухим,
невыразительным, непохожим. Почему он непохож? Оказывается, от
художника ускользнуло что-то трудно уловимое, тонкое в манере
держаться этого человека, в выражении его лица, что и раскрывает
характер. Поэтому и стандартный фотографический портрет, очень
точно передающий внешний облик человека, как правило, почти
ничего не рассказывает о нем.
Во втором случае, когда писатель мало говорит о внешности героя,
трудности иные. Надо эту внешность «сочинить», но сочинить в
точном соответствии с характером.
Вот как А. Лаптев рассказывает о том, как он «сочинял» портрет
Ноздрева:
«Решая портреты героев «Мертвых душ», я пытался, по мере
возможности, оторваться от глубоко запавших в сознание образов,
созданных Агиным и Боклевским. Мне хотелось, как я уже сказал ранее,
решить все по-новому...
Сам Гоголь, по сути дела, мало говорит о чертах лица Ноздрева.
Но не приходит ли на помощь художнику в данном случае сама
фамилия? Ведь Гоголь и в фамилию человека вкладывал образные черты.
Сама фамилия «Ноздрев» говорит о вздернутом носе и широко
открытых ноздрях полнокровного лица сангвиника, что, по-видимому,
заметили и вышеупомянутые художники. Представляется
убедительным, что и сам Гоголь воображал себе Ноздрева курносым, давая
ему эту фамилию и воплощая в его наружности уже изображавшийся
ранее во многих народных картинках тип балагура, ухаря-парня.
Таким образом, мои попытки дать какое-то отличное решение,
оторваться от этих заранее определенных черт, например, наделить
Ноздрева длинным, мясистым носом, не дали плодотворного результата.
38

Я все же решил обратиться для подкрепления своих размышлений
к действительности (илл. 19).
Случайность это или закономерность, но в большинстве случаев
те люди, которые чем-то по характеру напоминали Ноздрева, имели
и в чертах лица что-то общее, выражавшееся в округлости щек и
вздернутом носе. Пусть это простая случайность, но все же чисто
эмоционально я не мог игнорировать этого наблюдения, которое
и было закреплено мной в окончательном варианте портрета
Ноздрева» г.
Работа над созданием образов героев едва ли не самая трудоемкая
и ответственная (Кукрыниксы, например, к серии иллюстраций
романа М. Горького «Мать» сделали в общей сложности около 900
эскизов, этюдов и набросков. Из этого числа только на долю портрета
Ниловны приходится 90) (илл. 20). Художник собирает огромный
1 «Советские художники. Из творческого опыта». Вып. II, стр. 67—68.
39

материал, перед ним проходит калейдоскоп лиц. Он рассматривает
множество портретов или фотографий людей, живших в то же время,
о котором повествуется в литературном произведении, старается
отыскать и зафиксировать в памяти или на бумаге все, что
определяет манеру держаться, внешний облик людей, принадлежащих
к тому же кругу, классу, национальности, что и его герой.
Это помогает художнику создать образ, верный времени,
исторически точный. Но это не все, герой должен быть живым. И в этом
художнику может помочь лишь сама жизнь. Давно уже стало
обычным для художника-иллюстратора обращение к своим современникам
как к некоему образцу для образа героя. Человек, облик которого,
манеры, выражение лица служат художнику основой при создании
образа, называется прототипом. Творческий метод
художника-иллюстратора в данном случае близок к творческому методу писателя —
мы знаем, что многие любимые нами литературные образы имели
свой прототип. (Наташа Ростова, например, во многом списана
Л. Н. Толстым со своей родственницы Т. А. Берс.)
Реальное лицо подсказывает (не в буквальном, конечно, смысле)
писателю такие черточки и детали, которые выдумать невозможно,
эти-то качества и придают подлинную достоверность образу. То же
самое происходит и в работе художника. Художнику Н. Жукову,
например, в иллюстрациях к «Повести о настоящем
человеке» Б. Полевого жест Оли, отогревающей своим дыханием
пальцы, был подсказан случайным движением девушки, с которой
он ее рисовал (илл. 21). В иллюстрациях Д. Шмаринова к «Войне
и миру» Л. Толстого прототипами героев являются реально
существующие и здравствующие люди. Тарас Бульба Кибрика тоже
реальное лицо, которое художник долго искал и нашел с большим
трудом.
Вот что рассказывают о своей работе над иллюстрациями к
«Климу Самгину» М. Горького художники Кукрыниксы:
«Засели за работу. Рылись во всевозможных материалах, изучали
типы, костюмы, прически, бытовую обстановку. Трудились очень
много, работу проделали колоссальную, отнеслись к ней со всей
душой. Ведь в «Климе Самгине» более тысячи страниц, а описание того
или другого персонажа разбросано порой по всем трем томам.
Характеры также развиваются на протяжении всей эпопеи. Нужно было
41
до всего этого докапываться, собирать описания по кусочкам, делать
сводки. К тому же вообще в начале работы приходится мучиться,
чтобы найти стиль и общее композиционное решение иллюстраций.
Это трудно, и находишь это не сразу.
В «Климе Самгине», создавая образы персонажей, мы шли по
обычному для нас пути, стараясь подыскать похожих на них людей среди
знакомых, среди окружающих. Так, в основе образа самого Самгина
лежат впечатления от двух наших знакомых искусствоведов. Для
молодого Самгина позировал брат одного из нас» 1 (илл. 11).
Когда художник ищет нужный ему прототип героя, он достаточно
точно знает, что он хочет. Постоянно работает его творческая мысль,
где бы он ни был и чем бы он ни занимался. Он подсознательно
фиксирует те или иные черточки внешнего облика людей, точно
соответствующие характеру, выявляет общие, типические
закономерности в этом соотношении.
Без такой повседневной тренировки глаза и ума художник не в
силах отобрать из окружающего его разнообразия жизни, людей,
событий именно то, что нужно ему для данной работы. Собрав воедино все
«приметы» действующего лица, представив его себе в разные моменты
повествования, точно определив характер его отношений с другими
персонажами романа и найдя для него прототип, художник
приступает к созданию портрета героя. Если положить рядом эскизы и
наброски, отражающие последовательные стадии работы художника,
то вначале окажутся зарисовки разных лиц, увиденных им в жизни,
похожие между собой лишь какими-то общими чертами, затем от
наброска к наброску все яснее проступает будущее лицо героя. Оно
все больше приобретает свои, только ему присущие черты, и,
наконец, приходит ощущение, что перед вами портрет действительно
существовавшего человека. Художник по многу раз рисует героя в
различных ситуациях, ищет для каждой из них характерное выражение
лица, жест, позу. Художник следит за жизнью своего героя,
который уже существует в его фантазии как реальный человек, и изучает
его так, как если бы он изучал и зарисовывал вполне реального
человека в различные моменты его повседневной жизни.
1 Кукрыниксы. «Алексей Максимович Горький. Воспоминания
художников». «Искусство», 1941, № 3.
42


Но это тоже лишь одна из промежуточных стадий работы,
существо которой в уточнении, конкретизации образа, складывающегося
в воображении художника.
Окончательный вариант иллюстрации должен заключать в себе
только самое главное, только то, на что зритель должен обратить
особое внимание. Для уяснения этого главного художник и
стремится как можно полнее представить себе черты героя во всей их
совокупности.
В отборе того основного, что войдет в иллюстрацию, сказывается
индивидуальный личный подход художника к герою и эпохе, о
которых повествуется в литературном произведении. Эта работа
неразрывно связана с поисками композиции, светового и цветового решения
листа, характера линии, штриха и т. п., так как совокупность всех
44
этих элементов в конечном счете и создает окончательно
художественный образ, определяет то впечатление, которое производит
иллюстрация на читателя.
0 том, как порой трудно и болезненно проходит работа
художника над образом литературного героя, рассказывает Е. Кибрик:
«Этот процесс далеко не прост. Иногда настолько ясно начинаешь
себе представлять задуманный образ, что все выходящее из-под
карандаша кажется недостаточно живым, и трудно уже остановиться,
делая вариант за вариантом – все не то и не то!
Много лет назад, в 1935 году, я работал над иллюстрациями к
книге Ромена Роллана «Кола Брюньон».
Для образа Ласочки, прелестной и лукавой возлюбленной Кола,
я сделал наброски с нескольких красивых девушек и старался в
результате соединить улыбку одной, взгляд другой, волосы третьей
в одном лице, которое мерещилось мне по мере работы все яснее и
завлекательнее...
Я сделал таким образом около тридцати вариантов и под конец
ежедневно, с утра до вечера, как завороженный, рисовал одну за
другой головки девушки, закусившей две вишенки улыбающимся
ртом...
И чем больше я работал, тем хуже и дальше от моей мечты казался
мне результат. Я приносил очередные варианты в литографию и,
сняв один-два оттиска, отдавал шлифовать камень, начиная все
сначала.
Так однажды я принес три варианта, печатник перевел их на
камень, снял один оттиск на плохой бумаге, и я, сразу же решив, что
снова неудача, велел шлифовать камень. В тот же день я тяжело
заболел и, уже поправляясь, через месяц, попросил товарища поискать
в литографии тот единственный оттиск, который я там оставил,
расстроенный неудачей.
За этот месяц я успокоился, перестал напряженно представлять
себе Ласочку, позабыл о ней, и, когда товарищ принес мне отпечаток,
я ясно увидел, что «вышли» все три варианта, но камень был уже
уничтожен» г.
1 Е. А. К и б р и к. Искусство и художник. «Молодая гвардий», М., 1959,
стр. 9—10.
45


Интересно сравнение вариантов «Ласочки» (илл. 23 и 24). Ясно,
что это один и тот же человек. Черты лица, психологическое
состояние, улыбка, поворот головы, взгляд девушки почти одинаковы. Чего
же с таким упорством искал художник, давая лицо то крупнее, то
мельче, меняя прическу, освещение, характер штриха? Он стремился
к тому, чтобы форма исполнения рисунка наиболее точно передала
существо образа.
Воспоминание Кибрика охватывает несколько фаз работы —
создание образа на основе литературного произведения и жизненных
наблюдений, отбор основного, что должно войти в
иллюстрацию, процесс поисков композиционного решения и создание
оригинала.
Таким образом, мы несколько забежали вперед, но это и
естественно, так как наличие определенных этапов в работе художника не
предполагает какого-либо обязательного, строгого их порядка, который
очень индивидуален, и, излагая процесс создания иллюстрации в
какой-либо последовательности, невозможно избежать некоторого
упрощения.
Много времени уделяет художник изучению эпохи и обстановки,
в которой происходит действие литературного произведения. Через
его руки проходит много музейного и архивного материала, он делает
зарисовки мебели, бытовых предметов, выезжает, если это возможно,
туда, где происходили события, о которых рассказывается в романе.
Например, Д. Шмаринов, иллюстрируя «Войну и мир» (илл. 25),
побывал на месте описанных Толстым сражений, сделал большое
количество зарисовок в Ясной Поляне. Естественно, что работа над
иллюстрациями к таким крупным произведениям, как историческая
эпопея Л. Тостого, протекает медленно. Со времени, когда Д. Шмаринов
задумал свою серию, До момента ее окончания прошло около десяти
лет. Художник проделал огромный труд по изучению материалов,
связанных с жизнью Толстого в годы написания им романа, – писем
и дневников писателя, воспоминаний современников. Он не только
вчитывался в текст романа, но внимательно сравнивал его с
вариантами и черновыми набросками, знакомился с многочисленными
критическими работами, посвященными «Войне и миру». Труд,
проделанный художником, равноценен серьезному научному исследованию,
но это исследование для художника – не цель, а лишь подготови-
48

тельная работа, в процессе которой складывается художественный
образ будущих иллюстраций.
Изучение документального й исторического материалов
определяется впечатлением, которое произвела книга. Интересны
воспоминания Д. Шмаринова по этому поводу.
«Я обязательно выезжаю на места действия, которые описывает
автор. Должен сказать, что ощущение преемственности событий может
довести почти до галлюцинаций. «Преступление и наказание»
Достоевского я иллюстрировал в 1935—1936 годах, мне было лет 27—28,
и я не был еще опытным художником. Достоевский, который сам
жил в этих местах, очень конкретен в своих пейзажных описаниях.
Если он описывает дом Раскольникова, дом старухи, то можно
найти по этим описаниям. Я поехал в Ленинград, сделал более ста
рисунков. Приходил я на старую лестницу, останавливался перед
дверью, где когда-то жила процентщица. Вдруг из двери кто-то
49
высовывается и смотрит, что тут делает посторонний молодой человек,
и я убегаю наверх или вниз по лестнице в состоянии, близком к
состоянию персонажа Достоевского, который звонил у двери» г.
Работа над композицией всей серии иллюстраций – следующий
этап. Художник намечает, какие основные события повествования
будут отражены в рисунках, какой момент данного события наиболее
остро характеризует действующих лещ, стремится к тому, чтобы
каждый персонаж предстал в наиболее характерном своем
проявлении, чтобы от листа к листу не терялась ведущая линия писательского
рассказа, намечает «ударные» листы, соответствующие кульминациям
повествования. Разработав для себя такой «режиссерский» план,
художник приступает к композиционному решению отдельных
листов. Эта уже чисто художническая работа проходит (как и работа над
созданием портрета) у разных художников по-разному. Один
представляет себе основные элементы композиции листа сразу, затем
только уточняет, отшлифовывает ее детали на бумаге, другой
набрасывает несколько вариантов композиции, выбирая из них лучший.
На бумаге или в сознании художника фиксируются его поиски,
работа по отбору главного, существенного ведется не меньшая, чем и при
создании портрета.
Работа над композицией – первая фаза зрительного воплощения
образа. Композиция не только передает содержание через
определенный сюжет, но и воздействует на читателя через зрительные
ощущения, возникающие от расстановки фигур, ритма их движения,
светового и цветового решения листа, характера силуэта.
Композиция иллюстрации, то есть организация листа, зависит
от множества различных моментов. Прежде всего от облика всей
книги. Если художник решил сделать несколько полосных (то есть во
всю страницу) иллюстраций, то каждая из дих решается, как
замкнутое в себе целое. При этом художник не должен забывать о связи между
рисунком и текстовыми страницами. Иллюстрация должна быть
исполнена графически легко, не производить впечатления инородной
репродукции с станкового произведения на литературную тему.
Добиться органической связи полосных иллюстраций с
текстом—задача нелегкая. Установить эту связь значительно облегчают рисунки,
1 «Советские художники. Из творческого опыта». Вып. II, стр. 143.
50

предваряющие главы – заставки и оканчивающие их —
концовки. Еще более тесно связаны с организмом книги рисунки в тексте,
иллюстрирующие отдельные элементы повествования. Заставки,
концовки и рисунки в тексте часто представляют собой изображения,
ие ограниченные строгими рамками; они как бы нарисованы на
страничном листе, в композиционном построении этих иллюстраций
большое значение имеет их соотношение с расположением шрифта,
с размерами полей и т. п.
Композиционное решение каждой иллюстрации зависит от
смысловой и эмоциональной нагрузки, которую она несет. Желая
51
подчеркнуть обаяние и прелесть героини Ромен Роллана, Ласочки,
Е. Кибрик дает ее лицо крупным планом, подчеркивает сложной
игрой светотени его мягкость и лукавую изменчивость (илл. 23 и 24).
Стремясь создать ощущение трагизма и безысходности судьбы героя,
Кукрыниксы в листе «Смерть Акакия Акакиевича» заполняют убогую
каморку зловещими тенями и останавливают свое внимание на
холодном, бесстрастном лице врача {илл. 13). Тонкая игра светотени в
иллюстрации Д. Шмаринова «Княжна Мэри и Грушницкий»
выявляет изящный силуэт девушки и вместе с тем создает ощущение
легкости фигуры, подчеркивает мягкость ее облика {илл. 12).
Освещение, игра светотени – средства огромной силы в руках
художника. В световом решении иллюстрации заложено настроение,
так сказать, ведущая мелодия иллюстрации.
Расположение фигур на листе, их количество, размер, их
соотношение с пространством также зависят от содержания и общего
эмоционального строя иллюстрации. Маленькие фигурки Раскольникова
и Сони 1 {илл. 17), почти затерянные в огромном пространстве с
высоким небом, сразу же вызывают у нас совершенно иное ощущение,
чем, скажем, фигура Петра I {илл. 18) в иллюстрации того же
Шмаринова 2. Низкий горизонт, большая в резком повороте фигура Петра,
заполняющая собой весь лист, сложный силуэт, хорошо
выделяющийся на фоне предгрозового неба – все это дает яркую
характеристику русского царя, сильного, могучего, грозного и
деятельного.
Большое значение имеет умение художника отобрать детали, не
загромождая композицию ненужными подробностями, мешающими
восприятию главной мысли. Необходимая деталь, имеющая
смысловое и образное значение, должна органично войти в композицию
иллюстрации. В. Фаворский обычно очень скупо использует
житейские детали и подробности в своих иллюстрациях, но там, где это
нужно, например в гравюре к балладе Р. Бернса «Робин» {илл. 27),
изумительной по своей лаконичности и простоте, художник очень
точно передает характерную для крестьянского быта обстановку.
1 Иллюстрации Д. Шмаринова к роману Ф. Достоевского «Преступление
и наказание».
2 Иллюстрации к роману А. Толстого «Петр I.
 В композиционном решении
В композиционном решении
иллюстрации заложена основа ее
художественного воздействия на
зрителя, которое усиливается
характером исполнения оригинала.
Итак, закончена работа по созданию портретов, решены композиции листов, осталось последнее – выполнить оригиналы. Но еще одно отделяет художника от окончательного этапа. Это работа С натурой. Проверяя себя, художник тщательно рисует С позирующих Гравюра на дереве
ему натурщиков нужные ему сложные повороты фигуры, так называемые ракурсы, проверяет, как
образуются складки одежды, как падает свет и ложатся тени от того или иного освещения. Это необходимая профессиональная подготовка к созданию оригинала.
Работая над оригиналом, художник вносит в эскиз, созданный
на основе его творческого воображения, множество элементов и
деталей, найденных им в работе с натурой. Однако отношение к натуре
у художника всегда активно. Умело отбрасывая все ненужное,
второстепенное, он добивается сочетания жизненной правды натуры с
творческой фантазией. Это сочетание рождает особую убедительность
образа, его достоверность.
Исполнение оригинала – листа, с которого будЪт воспроизведена
иллюстрация, – индивидуальный творческий процесс, поэтому здесь