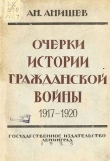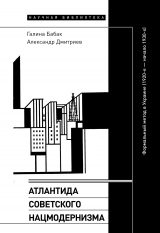
Текст книги "Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х)"
Автор книги: Галина Бабак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Наше дальнейшее рассмотрение процессов в украинской литературе и литературной теории, прежде всего анализ новых национальных поэтик 1920‐х годов, находится в пределах изучения способов культурного обмена и влияния.
Глава 2. Александр Белецкий и «Харьковский кружок формалистов»
В 1920‐е годы на значительной части территории Украины начался новый период становления и строительства модерной украинской культуры в совершенно других, нежели раньше, политических, идеологических, социально-экономических условиях. 10 марта 1919 года III Всеукраинский съезд советов провозгласил Украинскую Социалистическую Советскую Республику, хотя попытки установить в крупных центрах власть нового типа начались еще на рубеже 1917–1918 годов. Хотя первенство интернациональных лозунгов для большевиков (и левых социалистов вообще) сохранялось, и они – еще до начала курса на украинизацию – приняли важность не просто территориально-географического, но и культурного самоопределения нового советского государства (в частности, выбрав для названия республики именно Украину, а не Малороссию или другие прежние именования)[315]315
Однако и позже, на протяжении 1919–1920 годов, территория Украины оставалась ареной боевых действий между красными, белыми, украинскими националистами, анархистами и прочими политическими движениями, не говоря уже о польской армии. К концу 1920 года советская власть установилась в значительной части Украины в третий раз. О разных спектрах национальной революции, включая и красный, см. важные соображения Сергея Екельчика: Yekelchyk S. Searching for the Ukrainian Revolution // Slavic Review. 2019. Vol. 78. № 4. С. 942–948.
[Закрыть]. В начале 1920‐х культурная жизнь постепенно перемещается в Харьков, который в 1919–1934 годах был столицей УССР.
Несмотря на голод 1921–1923 годов и послевоенную разруху, в эти годы наблюдается оживление издательской деятельности, что не в последнюю очередь было связано с введением новой экономической политики. Если в 1921 году в новой республике было только пять частных издательств, то к 1923 году их количество выросло до 22 (18 из них украинские, четыре – русские)[316]316
Меженко Ю. Українська книжка часів Великої революції. К.: Київ-Друк, 1928. См. также: Таран Л. Динаміка розвитку книговидавничої галузі у культурному житті України 1917–1927 років // Культурологічна думка. 2013. № 6. С. 188–190.
[Закрыть]. В это время были основаны многие государственные издательства при различных правительственных, административных и научных учреждениях. Уже в 1921 году в Харькове работали издательства «Червоный шлях» при подразделении печати ЦК КП(б)У, «Пролетарий» – кооперативное издательство при Харьковском губернском комитете партии, в Киеве – кооперативные издательства «Слово», «Гольфштром», «Спилка». В 1921 году в столицу были перенесены кооперативные издательства «Рух» и «Книгоспилка», основанные еще в годы Гражданской войны. «Рух» специализировался на издании собраний сочинений украинских классиков; «Книгоспилка» издавала современных украинских авторов (в серии «Художественная словесность») и была ориентирована на сельскую аудиторию. В начале 1920‐х в Харькове на базе «Всевидава» (организованного в 1919 году в Киеве) было основано Государственное издательство Украины (Державне видавництво України)[317]317
Руда З. І. До історії Державного видавництва України (ДВУ) // Українська книга. К.; Х., 1965. С. 157–170; Бабюх В. А. Политическая цензура в советской Украине в 1920–1930‐е гг. Казань: Казанский нац. исслед. технологич. ун-т, 2012.
[Закрыть] с филиалами в других городах. В то же время происходит консолидация и укрепление цензурных органов (ограничения касаются деятельности библиотек, ввоза печатной продукции и так далее) – также и в Киеве[318]318
Меженко Ю. Указ. соч. С. 19–21; Костик Є. Діяльність кооперативно-приватних видавництв в умовах радянської цензури 1920‐х рр // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць. 2004. Вип. 11. С. 274–292; Стоян Т. Система політичної цензури в УРСР у 1920–1930 рр. К.: Академія праці і соціальних відносин, 2010.
[Закрыть].
В 1921 году в Харькове начал выходить первый в советской Украине литературно-критический периодический журнал «Шляхи мистецтва» (1921–1923)[319]319
С февраля 1921 года по февраль 1923 года вышло всего пять номеров. Главные редакторы – Василь Блакитный, Гордий Коцюба, позже – Владимир Коряк. Журнал издавался ДВУ, со второго номера – орган художественного сектора Главполитобразования УССР.
[Закрыть], издаваемый на украинском языке. Тогда журнал объединил писателей и поэтов, которые в скором времени будут выступать с разных идеологических и эстетических позиций (например, Михайля Семенко и Миколу Хвылевого). Значительное место в журнале уделялось критике, которую представляли Александр Белецкий, Юрий Меженко, Владимир Коряк, Иван Кулик. В 1923 году был основан «Червоный шлях»[320]320
Первым редактором журнала был государственный деятель Григорий Гринько (один из реформаторов системы просвещения), в середине 1923 года его сменил Александр Шумский, который в 1926 году был отстранен от обязанностей редактора и уволен с должности народного комиссара образования УССР. В 1926 году кратковременно редакторами были писатели Михайло Яловой и Микола Хвылевой, которые вскоре были отстранены за «националистические уклонения». В 1927‐м редакцию возглавил партийный деятель Владимир Затонский.
[Закрыть] – авторитетный республиканский общественно-политический и литературно-научный ежемесячный журнал, выходивший в Харькове до середины 1936 года. В 1920‐е годы он стал главной платформой литературно-критических и общественно-политических дискуссий. В 1923–1925 годах издается журнал «Книга» (с 1925 – «Нова книга») – печатный орган Украинской книжной палаты с подзаголовком «Ежемесячник литературы, критики и библиографии»; ответственным редактором его был писатель и критик Сергей Пилипенко. С журналом сотрудничали критики и литературоведы Владимир Коряк, Иеремия Айзеншток, Юрий Меженко, Микола Плевако и другие.
В 1920‐е годы перед украинской литературой, языком и литературоведением, по ретроспективному замечанию писателя и литературного критика Виктора Петрова – ему в книге посвящена последняя глава, – стояли схожие задачи: «Исторически 1920–1930‐е годы должны были закончить переход от этнографически-народнических позиций к национальным, утвердить отрицание первых и раскрытие вторых. Народ консолидировался в нацию. Этнографический провинциализм перетапливался в органическую целостность национальной акции. Преодоление провинциализма на всех участках культурной и общественной жизни – вот что было написано на флагах носителей идей нового времени»[321]321
Петров В. П. Проблема літературознавства за останнє 25-ліття (1920–1945) // Петров В. П. Розвідки: В 3 т. К.: Темпора, 2013. Т. 2 / Упор., передм. та прим. В. С. Брюховецького. С. 801.
[Закрыть].
Украинская словесность самими участниками литературного процесса пока воспринималась как «отсталая» и «неконкурентоспособная» по сравнению с русской и европейскими[322]322
Например, Хвылевой в своем памфлете «Культурный эпигонизм» (1925) пишет: «Мы, коммунары, несем на себе большую ответственность: от нас полностью зависит, какое искусство даст пролетариат в эпоху своей диктатуры. Но эта ответственность усложняется, если мы уясним себе, что это искусство должна создавать культурно отсталая нация». Хвильовий М. Твори: У 5 т. Торонто: Смолоскип, 1982. Т. 4 / Ред. Г. Костюк. С. 175. Об этом подробнее см. главу «Идеологические контуры литературной дискуссии 1925–1928 гг. Микола Хвылевой и концепция „азиатского ренессанса“».
[Закрыть]. Поэтому в 1920‐е годы наряду с переосмыслением ее роли в общественно-политическом строительстве происходит попытка «модернизировать» ее изнутри. Характерные для романтической концепции искусства категории «вдохновения», «писательской интуиции» и «откровения», с помощью которых было принято говорить о творческом процессе, заменяются категориями «техники» и «ремесла». Писатель становится мастером, который знает свое ремесло и обладает техникой производства и, главное, воспроизводства вещи. Писательская техника становится одной из главных составляющих процесса не просто профессионализации литературы, как было еще в российских модернистских кружках и академиях 1910‐х, но и шире – «модернизации» теперь уже советской культуры в целом. Принципиальную роль в этом сыграла русская формальная школа, которая в свой «героический период» настаивала на автономности и «технологичности» литературы.
Попытка создать по-настоящему современную литературу, которая отвечала бы идеологическим задачам строительства нового общественного и политического порядка, отразилась в появлении большого количества поэтик, учебных пособий и теоретико-методологических работ, затрагивающих разнообразные теоретические и исторические вопросы развития украинской литературы. Главная их задача состояла в том, чтобы научить начинающих авторов тому, как делается литература, как строится художественное произведение.
В этом вопросе пересекаются позиции критиков марксистского и немарксистского лагерей. И первые и вторые рассматривали «технику» как инструмент повышения уровня национальной литературы. К примеру, критик-марксист Владимир Коряк в своей заметке «Литература в провинции» (1923) пишет:
Тут, в столицах, гремят новые витии, ищут новые формы, усовершенствуют технику стихосложения, дискутируют, воспевают трамваи и электрику большого каменного города… А там (в провинции. – Г. Б., А. Д.) еще давятся старой жвачкой украинской литературы. Листаешь эти страницы и видишь знакомые фигуры: Борис Гринченко, Руданский, Капельгородский, Юрко Будяк и сам «батько Тарас»… Техника? Форма? Образность? Ха! Даже неловко об этом вспоминать[323]323
Коряк В. Література на провінції // Вісти ВУЦВК. 1923. 6 сентября (№ 198). С. 2.
[Закрыть].
Коряк заключает, что «нужно учиться овладевать техникой», и в качестве учебных пособий рекомендует читать вышедшие к тому времени книги Валериана Полищука «Как писать стихи», Майка Йогансена «Элементарные законы версификации» и Бориса Якубского «Наука стихосложения».
Интерес к изучению формального аспекта литературы в украинской культуре развивается синхронно с появлением теоретических работ ОПОЯЗа, который с 1916 года начинает издавать «Сборники по теории поэтического языка». Реконструируя историю развития формального метода в украинской литературе, Агапий Шамрай[324]324
О нем см. главу книги «Борис Эйхенбаум в Украине».
[Закрыть] отмечал: «Со времени выхода в свет книг „Общества изучения поэтического языка“, особенно после появления в 1919 году сборника „Поэтика“ ‹…› везде, даже по уютным и далеким от центра провинциальным закуткам, начали возникать кружки „формалистов“, начали обсуждаться и обговариваться модные вопросы про стиль, ритмику, метрику»[325]325
Шамрай А. «Формальний» метод у літературі // Червоний шлях. 1926. № 7/8. С. 233. Ср. со с. 570 наст. изд.
[Закрыть]. Агапий Шамрай, как и литературовед и критик-«формалист» Иеремия Айзеншток, были учениками упомянутого в первой главе нашей книги историка и теоретика литературы Александра Белецкого[326]326
Александр Белецкий (1884–1961) – историк и теоретик литературы, академик АН УССР (1939), АН СССР (1958). Родился в Казани, в 1900 году семья переехала в Харьков. В 1902 году закончил 3-ю харьковскую гимназию. Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета (1907), преподавал в местных гимназиях и одновременно учился в аспирантуре. В 1909–1912 годах жил в Санкт-Петербурге, где готовился к магистерским экзаменам. В 1918 году защитил магистерскую работу «Эпизод из истории русского романтизма. Русские писательницы 1830–1860‐х годов». В 1926–1933 годах руководил кабинетом теории и методологии, а также сравнительного литературоведения Института Тараса Шевченко. В 1937 году Белецкому была присуждена степень доктора филологических наук по совокупности работ. С 1944 года и до конца жизни – директор Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР. В 1941–1944 годах был эвакуирован вместе с другими сотрудниками АН УССР в Башкирию. Главный редактор журнала «Радянське літературознавство» (1957–1961; сейчас – «Слово і Час»). Умер 2 августа 1961 года, похоронен в Киеве. См.: Белецкий А. И. Автобиография. С. 5–25.
[Закрыть]. Подобно Владимиру Перетцу[327]327
Белецкий пишет: «Поездка в Киев осенью 1908 года познакомила меня с „семинаром“ В. Н. Перетца, и чары его „филологического метода“, пример работы его учеников на меня подействовали». А также: «„Филологический метод“ В. Н. Перетца требовал изучения литературной специфики, обострял интерес к вопросам формы» (Белецкий А. И. Автобиография // Белецкий А. И. Избр. труды по теории литературы / Под общ. ред. Н. К. Гудзия. М.: Просвещение, 1964. С. 9–11).
[Закрыть], в 1910–1920‐е годы Белецкий объединил вокруг себя молодых студентов и аспирантов Харьковского университета[328]328
Еще в ранней юности Белецкий был очень дружен с Николаем Недоброво, видным автором предформалистских течений начала 1910‐х: «эстетической критики» и стиховедения: Звиняцковский В. Я. Питомцы третьей гимназии (харьковские гимназисты Николай Недоброво, Борис Анреп и Александр Белецкий) // Український Ахматовський збірник. 2019. Вип. 2 (14). С. 20–24.
[Закрыть]. В 1912 году он был принят в число приват-доцентов на кафедру русского языка и литературы, где, начиная с 1916, вел литературоведческий семинар, который сформировал не одно поколение украинских филологов и критиков.
После 1917 года Харьковский университет и его кафедры были несколько раз реорганизованы, а сам университет в разные годы назывался по-разному: Академия теоретических знаний (1920–1921), Харьковский институт народного образования (1921–1931; с 1925 года носил имя А. А. Потебни), Харьковский педагогический институт профессионального образования (ХПИПО, 1931–1933), Харьковский государственный университет (с 1933-го)[329]329
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров [та ін.]. Харків: Фоліо, 2004.
[Закрыть]. Советское высшее образование 1920‐х годов предполагало разделение учебного процесса и научной работы, которая осуществлялась научно-исследовательскими кафедрами. Официально кафедра истории украинской литературы начала работать с июля 1920 года как одна из тринадцати кафедр литературного отделения Института общественных наук Академии теоретических знаний. Но уже в сентябре 1921‐го Академия была реорганизована в ХИНО, а секцию украинской литературы разделили между кафедрами европейской культуры и украинской культуры, которой руководил историк Дмитрий Багалей[330]330
См.: Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. акад. Багалiя. Харків: Соловій, 1994.
[Закрыть]. С осени 1926 года обе эти кафедры объединились в одну научно-исследовательскую кафедру литературоведения. При этом первая из них разделилась на три секции: теории и методологии литературы (под руководством профессора Белецкого), русской литературы (руководитель профессор Николай Жинкин[331]331
Николай Жинкин (1880–1957) – литературовед. Окончил Харьковский университет (1913). Ученик М. Ф. Сумцова. Исследовал русскую классическую и зарубежную литературы. Его не следует путать с лингвистом и психологом Николаем Жинкиным (1893–1979), членом Московского лингвистического кружка.
[Закрыть]) и западноевропейской литературы (руководитель Николай Плесский[332]332
Николай Плесский (1882–1939) – филолог, библиотековед, литературный критик и общественный деятель. Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета. С 1925 года возглавлял секцию западноевропейской литературы научно-исследовательской кафедры литературоведения, работал библиографом в Харьковской государственной библиотеке им. В. Г. Короленко. В 1920‐е годы работал секретарем отдела искусства Главного управления политического просвещения. 29 апреля 1937 года арестован за «шпионскую деятельность». Умер 14 марта 1939 года в Северо-восточном лагере НКВД в Хабаровском крае. Реабилитирован посмертно.
[Закрыть]).
Руководство секцией украинской литературы, которая, как пишет литературовед и критик, ученик Белецкого Владимир Державин[333]333
Владимир Державин (1899–1964) – литературовед, лингвист, критик, специалист в области сравнительного языкознания, классической филологии, ориенталистики (египтологии и арабистики). Родился в Санкт-Петербурге. В 1909–1917 годах учился в немецкой классической гимназии, потом – на отделении классической филологии Санкт-Петербургского (с 1917) университета и историко-филологическом отделении Харьковского университета (1918–1921). Тема дипломной работы – «Стиль и композиция шестой рапсодии „Одиссеи“». С 1922 – аспирант секции античности кафедры европейской культуры при ХИНО; с 1927 – научный сотрудник кафедры литературоведения. С 1931 года работал в Харьковском филиале Института языкознания ВУАН: руководил теоретико-лингвистическим семинаром для аспирантов, в 1935–1941 годах преподавал немецкий язык и латынь. Кандидат исторических наук (1941). В 1941–1943 годах заведовал кабинетом истории Харьковского университета. По воспоминаниям Юрия Шевелева, в годы оккупации Державин работал также переводчиком при городской пожарной команде. В 1944 году вместе с отступающей немецкой армией покинул Украину и оказался в Германии, где с 1946 года был профессором Украинского свободного университета в Мюнхене. Ему принадлежат переводы античных и древнегреческих авторов, классиков западноевропейской литературы. В 1920‐е годы активно выступал как критик, в своих критических и литературоведческих статьях применял формальный метод. Одним из первых осмыслил феномен «неоклассиков» и «Пражской школы». См.: Художественно-филологический перевод 1920–1930‐х годов / Сост. М. Э. Баскина. Отв. ред. М. Э. Баскина, В. В. Филичева. СПб.: Нестор-История, 2021; Державин В. М. Про мистецтво перекладу: статті та рецензії 1927–1931 років / О. Кальниченко, Ю. Полякова. Вінниця: Нова книга, 2015; Качуровський І. Володимир Державин – теоретик неоклясицизму // Качуровський І. Променисті сильвети. К.: Києво-Могилянська академія, 2008. С. 228–237; Державин В. Література і літературознавство. Вибрані теоретичні та літературно-критичні праці / Упоряд. С. І. Хороб. Івано-Франківськ: Плай, 2005. В последнее время связями В. Державина с кругом ГАХН активно занимается Ю. Н. Якименко (Москва).
[Закрыть], «после смерти своего основоположника академика М. Сумцова долгое время переживала период „междуцарствия“», было поручено профессору Миколе Плевако[334]334
Микола Плевако (1890–1941) – литературовед, библиограф, критик. Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета (1916). Ученик М. Ф. Сумцова. С 1921 года профессор ХИНО, член комиссии новейшей литературы ВУАН. Руководитель кабинета библиографии Института Тараса Шевченко в Харькове (1926–1933). Арестован 17 мая 1938 года. Умер 11 апреля 1941 года в с. Вишневцы Акмолинской области. Реабилитирован посмертно. Автор «Хрестоматии новой украинской литературы» в двух томах, которая в 1926–1928 годах переиздавалась пять раз. Вместе с И. Я. Айзенштоком был редактором полного собрания поэзии Т. Г. Шевченко (первое издание – 1925, ДВУ).
[Закрыть]. Секретарем кафедры с самого ее основания был Иеремия Айзеншток. Как отмечает В. Державин, с 1920 года среди основных вопросов, разрабатываемых кафедрой, были вопросы методологические, «при этом ни методы работы, ни основная линия научных интересов, ни даже основное ядро участников не претерпели значительных изменений в ходе административных преобразований»[335]335
Державін В. Харківська науково-дослідча катедра та її наукова діяльність // Культура і побут. 1927. 19 листопада (№ 44). С. 4–5.
[Закрыть].
Айзеншток вспоминает, что в 1916 году Белецкий пригласил его, на тот момент студента-юриста первого курса Харьковского университета, принять участие в недавно организованном под его руководством «историко-литературном кружке».
Кружок не был многочислен. Из его участников запомнились молодой магистрант Л. А. Булаховский[336]336
Леонид Булаховский (наст. Лейзер Аронович Булаховский; 1888–1961) – лингвист. Профессор Пермского (1917–1921), Харьковского (1921–1941) и Киевского (1944–1947) университетов, академик АН УССР (1939), директор Института языкознания им. А. А. Потебни АН УССР (1944–1961). Автор работ по истории русского и украинского языков. Сторонник сравнительно-исторического языкознания и противник «нового учения о языке» Н. Я. Марра и его последователей. Был наставником Юрия Шевелева. См. воспоминания о нем: Шевельов Ю. Я – мене – мені… (і довкруги): Спогади. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2017. Т. 1: В Україні / Упоряд. С. Вакуленко, О. Савчук.
[Закрыть] ‹…›, студенты-филологи Д. Д. Благой и некий Копцев, студент-математик Валерий Гливенко ‹…›. Собрания кружка происходили раза три-четыре в месяц. Иногда кто-нибудь из участников выступал с докладом. ‹…› Большинство же заседаний посвящалось взаимной информации о книгах и статьях, содержавших «новый подход» («новый» по сравнению с традиционным, «академическим» литературоведением) к изучению явлений художественной литературы. Итак, основным в работе нашего харьковского кружка были не доклады, но оживленные беседы и споры в связи с прочитанным, иногда всеми участниками (если речь заходила о легко доступных «источниках», вроде упомянутых «Сборников по теории поэтического языка» или русских журнальных статьях…), иногда кем-нибудь одним…[337]337
Айзеншток И. Из ранних лет научно-литературной деятельности А. И. Белецкого // Искусство слова: Сб. ст. М.: Наука, 1973. С. 396.
[Закрыть]
Одной из тем заседаний в этом сообществе были произведения Тургенева: его столетний юбилей в 1918 году, посреди политических и военных схваток, был также отмечен специальными заседаниями в Харьковском университете. Айзеншток впоследствии, уже в середине 1960‐х, посвятил этой деятельности отдельный мемуарный очерк[338]338
Айзеншток И. Я. Из истории изучения Тургенева (кружок по изучению Тургенева при Харьковском университете, 1918 г. // Тургеневский сборник: Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. М.; Л., 1964. Т. II. С. 216–225.
[Закрыть]. Обращает на себя внимание продолжение «общерусской» линии Потебни и ряда его учеников: Тургенев, конечно, еще не воспринимается как «не свой» классик.
В других воспоминаниях Айзеншток пишет: «Когда мы познакомились в конце 1916 года, он (Белецкий. – Г. Б., А. Д.) в ответ на мой вопрос – как работать? – рекомендовал мне первых два „опоязовских“ „Сборника по теории поэтического языка“»[339]339
Айзеншток И. Я. У перших лавах // Про Олександра Білецького. Спогади. Статті. К.: Радянський письменник, 1984. С. 73.
[Закрыть]. Айзеншток также отмечает, что в своем «теоретико-аспирантском семинаре» начала 1920‐х Белецкий знакомил своих слушателей с западными работами в области теории и методологии литературы[340]340
Там же. С. 74.
[Закрыть].
То, что Белецкий и его ученики внимательно следили за научными публикациями по истории и теории литературы, подтверждает письмо Белецкого к Павлу Сакулину от 18 октября 1921 года: «Пользуясь случаем, через свою ученицу Бэлу Павловну Ярославскую, по семейным обстоятельствам вынужденную переехать в Москву, хочу поблагодарить Вас за полученную мною Вашу книгу о Пушкине[341]341
Сакулин П. Пушкин и Радищев: новое решение старого вопроса. М.: Альциона, 1920.
[Закрыть], чрезвычайно заинтересовавшую весь небольшой кружок харьковских историков литературы (курсив наш. – Г. Б., А. Д.)»[342]342
Белецкий А. И. Письмо П. Н. Сакулину от 18 октября 1921 года // РГАЛИ. Ф. 444. Оп. 1. Ед. хр. 105. Л. 3.
[Закрыть]. О самих участниках кружка можем узнать из автобиографии Белецкого.
Вокруг меня образовывалась с 20‐х годов группа молодежи, аспирантов и научных сотрудников кафедры истории европейской культуры, литературная секция которой была затем преобразована в кафедру литературоведения, еще позже влитую в институт имени Т. Г. Шевченко[343]343
Институт литературы имени Т. Г. Шевченко был основан в Харькове в 1926 году в системе Народного комиссариата образования УРСР (с филиалом в Киеве). С 1936 года находился в системе Академии наук УРСР (сейчас – Национальной академии наук Украины). В том же году Институт «переехал» в Киев. В разные годы Институтом руководили Д. И. Багалей (1925–1930), Е. С. Шаблиовский (1933–1935), П. Г. Тычина (1936–1938, 1942–1943), А. И. Белецкий (1939–1941, 1944–1961) и другие. О создании Института см.: Державін В. Науково-дослідницький інститут Тараса Шевченка за 1926–1927 роки // Культура і побут. 1927. 10 декабря (№ 47). С. 6.
[Закрыть]. В центре наших совместных занятий стояли вопросы поэтики, разрабатываемые на материалах западной, русской и украинской литератур. Группа наша пользовалась некоторой известностью и за пределами Харькова. Наиболее живое участие в работе принимали И. Я. Айзеншток, М. О. Габель[344]344
Маргарита Габель (1893–1981) – литературовед, библиограф, специалист по истории и поэтике русской литературы и фольклора. Ее работы 1920‐х годов о фольклоре являются важным образцом применения формального метода к изучению былин («К вопросу о технике русского былевого эпоса: формы былинного действия», «Форма диалога в былине», обе – 1927). Одна из лучших и наиболее последовательных учениц Белецкого, который включил отдельной главой ее работу «Изображение внешности лиц» в свою книгу «В мастерской художника слова». См.: Габель М. Изображение внешности лиц // Вопросы теории и психологии творчества. Харьков: Научная мысль, 1923. Т. 8. С. 191–211. См. также воспоминания о М. Габель, И. Каганове, А. Финкеле их учеников: 25‐й подъезд / Сост. М. Каганов, В. Конторович, Л. Фризман. Харьков, 2001.
[Закрыть], М. Г. Давидович, З. С. Ефимова[345]345
В 1927 году был издан сборник статей учеников Белецкого – М. Давидовича, З. Ефимовой и М. Габель. Сборник предваряло предисловие самого Белецкого «Очередные вопросы изучения русского романтизма»: Русский романтизм. Сборник статей / Под ред. А. И. Белецкого. Ленинград: Academia, 1927.
[Закрыть], М. П. Самарин, А. Г. Розенберг[346]346
Один из авторов сборника стихотворных пародий «Парнас дыбом», изданного в 1925 году в Харькове и содержательной статьи того же времени о философских взглядах Потебни (Розенберг О. До характеристики філософічних поглядів О. О. Потебні // Науковий збірник Харківської Науково-Дослідчої Катедри Історії Української Культури. 1926. № 2–3. С. 69–77), на которую сочувственно ссылался В. Петров в автореферате 1966 года. См. подробнее главы нашей книги о Йогансене и Петрове, а также: Паперная Э., Финкель А. Как создавался «Парнас дыбом» // Вопросы литературы. 1966. № 7. С. 234–241.
[Закрыть], И. Я. Каганов, А. П. Шамрай, А. З. Левенсон, З. И. Чучмарёв[347]347
См. подробнее о нем главу «Борис Эйхенбаум в Украине».
[Закрыть], С. М. Утевский… Особенностью нашей работы в 1926–1927 годах было выделение в особую группу докладов, связанных с историей читателя[348]348
Белецкий А. И. Автобиография. С. 19.
[Закрыть].
В число кружковцев также входил Владимир Державин, с 1922 года аспирант при кафедре европейской культуры (по понятным причинам Белецкий будущего эмигранта не упоминает). Можно также предположить, что близким к кругу учеников Белецкого был литературовед Григорий Майфет, который с 1926 года обучался в аспирантуре Института Тараса Шевченко в Харькове.
И наконец, чуть позже, уже в конце 1920‐х годов, лекции Белецкого, а также его учеников – Булаховского, Шамрая, Габель – посещает известный в будущем украинский славист и историк литературы Юрий Шевелев (Шерех)[349]349
Юрий Шевелев (фамилия при рождении – Шнайдер; псевдоним Юрий Шерех; 1908–2002) – славист, историк литературы и литературный критик, писатель, эмигрант второй волны. Действительный член Научного общества им. Т. Г. Шевченко (1949) и Украинской Академии искусств и наук (1945), иностранный член НАН Украины (1991). Во время войны публиковался в Харькове в издававшейся немцами украинской газете, работал в оккупационной немецкой администрации, ушел с отступающим вермахтом в Словакию, затем в Германию, где и продолжил после 1945 года научные занятия. Во второй половине 1940‐х работал в Украинском свободном университете в Мюнхене. В 1950 году переехал в США, преподавал в Гарварде, профессор Колумбийского университета. Получил широкую академическую известность как лингвист. В постсоветской Украине деятельность Шевелева 1942–1944 годов порой рассматривается как свидетельство его коллаборационизма, что до сего дня вызывает ожесточенные дискуссии, в частности в связи с попыткой установить мемориальную доску ученому на харьковском доме, где он родился и жил до эмиграции.
[Закрыть]. В 1931 году Шевелев окончил литературный факультет ХПИПО, после чего учился в аспирантуре под руководством Булаховского до 1939 года. В своих воспоминаниях о харьковском периоде жизни Шевелев пишет: «…в изложениях и Шамрая, и Белецкого, и Габель было понимание и филологической школы, и формализма, и еще живых традиций символистского литературоведения времени „Весов“ и более позднего „Аполлона“ и раннего „Золотого руна“, и не было попыток подогнать литературу под марксизм и борьбу классов»[350]350
Шевельов Ю. Я – мене – мені… (і довкруги): Спогади. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2017. Т. 1: В Україні / Упоряд. С. Вакуленко, О. Савчук. С. 243.
[Закрыть].
Результатом «коллективной работы» секции литературы стало издание в начале 1923 года «Указателя литературы по поэтике 1900–1922», составленного Исааком Кагановым и Айзенштоком. «Указатель» содержит неполный, но достаточно обширный перечень работ по «методологии, поэтике, теории современных литературных течений», появившихся к тому времени на русском языке. Однако, судя по письму Айзенштока к Осипу Брику от 19 апреля 1923 года, на этом работа по сбору библиографии «Харьковского кружка формалистов» не закончилась:
Одновременно с этим письмом посылаю вам заказной бандеролью оба экземпляра библиографического указателя русской литературы о поэтике, составленного мною совместно с И. Я. Кагановым (переводчиком «Поэтики» Р. Мюллера-Фрейенфельса, Харьков, 1923): один экземпляр предназначается для вас, второй – московскому кружку «Опояз», к которому Вы, кажется, имеете отношение. Наконец, еще одна просьба – обращенная к Кружку[351]351
Имеется в виду московский филиал ОПОЯЗа (под маркой которого вышла работа А. А. Реформатского о строении новеллы).
[Закрыть]. Нас очень интересовали бы сведения о прочтенных в нем докладах, о коллективных работах, личных работах отдельных его членов, наконец, о напечатанных работах. В обмен могли бы быть высланы сведения о работе харьковского кружка «формалистов»[352]352
См.: Айзеншток И. Я. Письмо О. М. Брику от 19 апреля 1923 года // РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 158. См. с. 681–682 наст. изд.
[Закрыть].
В своей поздней автобиографии Белецкий представит свою работу тех лет следующим образом:
В Петербурге, ставшем тем временем Петроградом, уже начинал свою работу «Опояз»; но «опоязовцы» мне не импонировали, занятия их казались кустарничеством: зато внушали уважение западноевропейские, главным образом немецкие и французские, исследования в этом же направлении – от популярных работ Альбала до «Стилистики» Бальи, от книги Нордена (об античной прозе), Гейнце (об эпической технике Вергилия) до работ о новейших писателях. Я изучал это и заставлял знакомиться с этим слушателей своих и слушательниц[353]353
Белецкий А. И. Автобиография. С. 11. В первом номере ЛЕФа Шкловский напечатал ехидную рецензию на перевод книги француза Антуана Альбала (1856–1935) «Искусство писателя – начатки литературной грамоты» (Пг, 1924) – книга вышла с предисловием давнего оппонента опоязовцев А. Горнфельда. О соратнике Соссюра Шарле Балли в русской науке указанного времени см.: Веселинов Д. Из истории рецепции Charles Bally в советской лингвистике: история в транскрипции, транскрипция как история // Слово. ру: Балтийский акцент. 2017. Т. 8. № 1. С. 62–83. Эдуард Норден (1868–1941) – один из самых известных специалистов по латинской поэзии своего времени, профессор университетов в Бреслау и Берлине (ректор Берлинского университета в конце 1920‐х), с 1931 – член-корреспондент АН СССР. Скорее всего, Белецкий имел в виду его книгу «Die antike Kunstprosa von VI Jahrhundert vor Christ. bis in die Zeit der Renaissance» (1898), отмеченную еще Ф. Ф. Зелинским. Рихард Хайнце (1867–1929), профессор в Кенигсберге и Лейпциге. Упомянутая книга (Heinze R. Virgils epische Technik) вышла в Германии тремя изданиями с 1903 по 1915 годы.
[Закрыть].
Приведенная цитата требует некоторого пояснения. «Автобиография» Белецкого была впервые напечатана в 1964 году по рукописи. Как сказано в примечании, она была написана по просьбе Булаховского и ученика В. Н. Перетца Сергея Маслова в конце 1944 – начале 1945 года. Предполагая, что этот текст может быть доступным для публикации, Белецкий посчитал правильным дистанцироваться от опасных на то время контактов с ОПОЯЗом и делал упор на влияние, которое оказали на него работы давно умерших западных ученых, посвященные античной литературе (что выводило его из-под удара). Отметим также, что в тексте 1945 года он не называет «повлиявшие» на него западные работы о литературе ХХ века, что было бы гораздо опаснее. Эти воспоминания являются любопытным документом очень короткого периода (конца войны и первого послевоенного года), когда – с оглядкой на цензуру и партийные инстанции – можно было без разоблачительной риторики вспомнить события, предшествовавшие революции, и первых революционных лет, а также указать на воздействие западной науки. После начала «кампании по борьбе с космополитизмом» это стало невозможным – вплоть до самой смерти Сталина.
Об интересе к формальному методу самого Белецкого свидетельствует не только пристальное внимание к работам ОПОЯЗа и научная рефлексия по поводу их теоретических открытий (о чем будет сказано дальше), но и профессиональные и товарищеские отношения с Виктором Шкловским, Борисом Эйхенбаумом[354]354
Эйхенбаум Б. М. Телеграмма А. И. Белецкому (б. д.) // РГАЛИ. Ф. 1527. Оп. 2. Ед. хр. 113. Л. 1.
[Закрыть], Виктором Жирмунским, Виктором Виноградовым[355]355
См. фонд А. И. Белецкого: Відділ текстології і рукописних фондів ІЛ НАНУ. Ф. 162 (Білецький О. І.). 5875 ед. хр. 1853–1997.
[Закрыть]. Так, в письме к Виктору Шкловскому середины 1930‐х годов Белецкий сожалеет, что «не удалось еще раз увидеться» в Москве, и сообщает, что Айзеншток, который в 1934–1936 годы был научным сотрудником Института русской литературы РАН, «усердно работает над докторской диссертацией и, по-видимому, преисполнен сил и бодрости»[356]356
Белецкий А. И. Письмо к В. Б. Шкловскому // РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 512. Л. 2.
[Закрыть].
По замечанию самого Белецкого, воспитавшись в атмосфере Харьковского университета, на тот момент насыщенной влиянием Потебни, он не был ни «потебнианцем», ни «формалистом», хотя и первому и второму, как мы уже показали выше, уделял значительное внимание в своих теоретических поисках. Научные интересы Белецкого в 1920‐е годы были сосредоточены на вопросах теории и методологии литературы, главным образом на изучении читателя как «фактора индивидуального писательского творчества и общего литературного процесса». В 1922–1923 годах выходят сразу несколько работ Белецкого, которые полно отображают его научные устремления того времени: «Новейшие течения русской науки о литературе», где он полемизирует с опоязовцами[357]357
См. также его рецензии: Белецкий А. Рец.: Жирмунский В. Композиция лирических произведений // Путь просвещения. 1922. № 2. С. 300–301; Он же. Рец.: Шкловский В. О теории прозы // Червоний шлях. 1925. № 11/12. С. 363–365.
[Закрыть], упомянутая нами ранее «Потебня и наука истории литературы в России», а также «Об одной из очередных задач историко-литературной науки (изучение истории читателя)»[358]358
Белецкий А. Новейшие течения в русской науке о литературе // Народное просвещение. 1922. № 5/6. С. 39–47; Он же. Об одной из очередных задач историко-литературной науки // Наука на Украине. 1922. № 2. С. 94–105; Он же. А. А. Потебня и наука истории литературы в России // Бюллетень редакционной комиссии для издания сочинений А. А. Потебни. Харьков, 1922. Ч. I. С. 38–47. А также: Білецький О. Читач, письменник, література (З доповіді на з’їзді «Плуга») // Плужанин. 1927. № 6. С. 40–48.
[Закрыть]. Его следующая работа – «В мастерской художника слова»[359]359
Белецкий А. В мастерской художника слова // Вопросы теории и психологии творчества. Харьков, 1923. Т. 8. С. 87–277.
[Закрыть], впервые напечатанная в 1923 году в «потебнианском» сборнике «Вопросы теории и психологии творчества»[360]360
«Вопросы теории и психологии творчества» – непериодическое издание, выходившее под редакцией Б. Лезина в 1907–1923 гг. Харькове. Первые выпуски сборника продолжали линию психологической поэтики А. Потебни и историко-сравнительной поэтики А. Веселовского. Со временем тематика сборников расширилась. Сотрудниками издания был Д. Овсянико-Куликовский, а также его ученики и последователи.
[Закрыть], издаваемом Борисом Лезиным[361]361
Борис Лезин (1880–1942) – филолог, историк литературы. В последние годы жизни работал при кафедре литературоведения Харьковского государственного университета и редактировал полное собрание сочинений Потебни. См.: Лезін Б. Дещо про теорію і психологію слова Потебні // Червоний шлях. 1925. № 1/2. С. 291–297.
[Закрыть], – во многом определила дальнейшее изучение роли читателя в эволюции литературных форм[362]362
Панченко В. Є. Олександр Білецький як літературний критик: 1920-ті роки // Маґістеріум. 2002. Вип. 8. Літературознавчі студії. С. 72–76; Шевченко Г. Проблема читача в компаративних дослідженнях Олександра Білецького // Слово і Час. 2007. № 11. С. 81–83.
[Закрыть].
В том же году выходит «Поэтика» Рихарда Мюллера-Фрейенфельса в переводе Исаака Каганова и Эстер Паперной. В предисловии к книге Белецкий предвосхищает слова выше помянутого А. Шамрая, обращая внимание на всеобщий интерес к «поэтике» («Термин сделался вдруг ходячим: не только в академических центрах, в самых глухих когда-то углах образовываются кружки для изучения поэтики и поэтического языка, читаются доклады, производятся открытия»)[363]363
Белецкий А. И. Несколько слов о разработке научной поэтики в России и на Западе // Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы / Ред. Н. К. Гудзий. М.: Просвещение, 1964. С. 42.
[Закрыть], и делает краткий обзор исследований по теории литературы, преимущественно немецких и французских. Белецкий отмечает, что работу Мюллера-Фрейенфельса следует рассматривать в рамках психологического подхода к изучению литературы. Именно благодаря своему союзу с психологией, по мнению исследователя, поэтика «приобрела некоторое наукообразие, с течением времени все более обращаясь в подлинную науку».
Как бы то ни было, мы предлагаем вниманию читателя психологическую поэтику (здесь и дальше курсив Белецкого. – Г. Б., А. Д.), как будто не учитывая того факта, что недавно заинтересовавшиеся поэтикой многие русские читатели ищут, в первую очередь, работ по поэтике формальной. Это нам известно: но относясь с полным сочувствием к формально-стилистическим штудиям (поскольку они не переходят, однако, в наивную статистику и упрощенную механизацию изучения), мы не думаем, что задача изучения поэтического творчества ими исчерпывается. Живые и задорные статьи В. Шкловского («Сборники по теории поэтического языка»), разумеется, легче читать, чем книжку Мюллера-Фрейенфельса, требующую во многих местах сосредоточенного внимания и размышления. Но можно ручаться, что это внимание не будет потрачено даром, что в итоге этого размышления читатель придет к бóльшему, чем восхищение от остроумия и одаренности автора[364]364
Белецкий А. И. Несколько слов о разработке научной поэтики в России и на Западе. С. 49. Ставка на Мюллера-Фрейнфельса оказалась, по сути, ненадежной, в отличие от попыток Жирмунского в пику опоязовцам вывести на первый план в процессах немецко-русской рецепции то Оскара Вальцеля (1923), то морфологов вроде Вильгельма Дибелиуса, или же близкого социологии Леона Шюккинга (1927–1928). Выбор Белецкого пал на специалиста по психологии искусства и литературы, но именно эта сфера оказалась позднее, пожалуй, наименее востребованной, в отличие от «протоструктуралистских» теорий или феноменологии.
[Закрыть].
Белецкий принадлежит к тому поколению филологов, которые пытались расширить рамки академической науки и принимали активное участие в послереволюционной культурной и литературной жизни (как указывает Владимир Звиняцковский, он даже печатал стихи в харьковском журнале «Творчество» под псевдонимом Анфим Ижев). Мысля тогда вполне в духе русских символистов, Акима Волынского или Евшана, Белецкий опубликовал в харьковской газете «Новая Россия» 1 января 1919 года статью с довольно широковещательным названием «Литература и действительность». Опираясь на психологическую эстетику и ее конвенции, а не на «реалистическую» теорию отражения, он утверждал:
…Действительность – и в смысле современности, и в смысле реального бытия вообще – никем объективно не познаваема, никому не ведома, и с величайшим трудом, много лет спустя, взвешивая и тормоша документы и цифры, историки добывают ее отдаленное подобие. Искусство (и литература как одна из его отраслей) – вольное или невольное искажение природы в результате сознательного или бессознательного подражания ей. Жалеть ли об этом? Это личный вопрос художников: наше дело научиться воспринимать их «возвышающие обманы» так, чтобы они нас воистину возвышали. И не ждать, и не требовать от поэтов того, что они не могут давать именно в силу того, что они – поэты[365]365
Цит. по: Звиняцковский В. Я. К познанию «тайной логики вещей». (Проблема «Литература и действительность» в традициях школы Белецкого // Collegium. 2016. № 25. С. 38.
[Закрыть].
В 1920‐е годы Белецкий выступает не только как историк и теоретик, знаток русской и европейских литератур, но и как критик украинской литературы. Шевелев также вспоминает, что в курсе русской литературы, разбирая период Киевской Руси, тот «сделал уступку украинскому патриотизму» и напрочь отказался говорить о произведениях, написанных на территории Украины, включая «Слово о полку Игореве», остановившись только на произведениях новгородцев и суздальцев[366]366
Шевельов Ю. Я – мене – мені… (і довкруги). С. 203.
[Закрыть]. И все же поворот в сторону украинской культуры Белецкий в годы Гражданской войны осуществил не без сомнений и оговорок. Когда вышла книга ученика Перетца Ивана Огиенко «Українська культура» («Коротка історія культурного життя українського народа», 1918 г.), негативно встреченная, напомним, давним кадетом и федералистом Владимиром Науменко, харьковский филолог напечатал в местной газете «Наш день» в 1919 году горькую рецензию:
Путь украинского народа – скорбный путь. Но был ли усыпан розами путь «московского» народа, недоброжелательство к которому так сквозит в излишне демагогических страницах в последней части книги г. Огиенко? Официальная народность зиждется на самомнении: но самомнение влечет за собой презрение к другим; самомнительный не простит обиды, он платит за нее ненавистью. И в самом ли деле так повинны «братья-москали» в стеснениях украинского слова, в указах Петра, Екатерины II и других правителей российских? Мимоходом г. Огиенко обмолвился о том, что в среде «московских» ученых находятся и друзья украинской культуры – иногда не-украинцы по происхождению. Он мог бы припомнить еще, напр., что своим успехом писатель Квитка обязан до некоторой степени статьям Плетнева, что украинская литература едва ли могла бы гордиться стихами Шевченко, если бы в его судьбе не приняли участия Жуковский и Брюллов; он мог бы вспомнить об интересе, проявленном к украинской литературе Тургеневым, и о том, что защиту украинской школы брали на себя Ушинский, Водовозов, Корш, Вессель, Пирогов и другие «московские люди»; что украинская литература, вообще говоря, кой-чем обязана литературе русской; что украинская культура, оказавшая в XVII веке столь сильное влияние на северно-русскую, в дальнейшем, пожалуй, сама потерпела некоторое влияние культуры «московской»… Да, много фактов он мог бы припомнить; он счел более удобным не вспоминать о них, предпочитая факты иного порядка. Вероятно, он сделал это, руководимый любовью к своему народу и своей культуре.
Но он забыл тогда, что никакая культура не развивается на началах самомнения и ненависти. «Официальная народность» не взращивает, а сушит в мыслящих людях чувство национальное[367]367
Цит. по: Звиняцковский В. Я. К познанию «тайной логики вещей». С. 44–45. Обе статьи перепечатаны в журнале «Русский язык и литература в учебных заведениях» ([Киев]. 2011. № 1).
[Закрыть].
Белецкий был в своих раздумьях совсем не одинок; часто это были и проблемы поколенческих размежеваний – многим ученым старой формации переход к украинскому языку и культурному горизонту казался неоправданным отказом от исходных установок и притязаний. Но разлад касался и приват-доцентского слоя. Леонид Белецкий в своих воспоминаниях писал о спорах между Александром Дорошкевичем, будущим участником литературной дискуссии второй половины 1920‐х, и учеником Перетца Николаем Гудзием (у которого даже были к тому времени и печатные труды по-украински):
Преданный целиком общерусской революционной идее, он глубоко переживал внутреннюю драму той раздвоенности, что тогда творилась в душе у так называемых сочувствующих украинскому делу. С одной стороны, «я тоже малоросс», как Гудзий с иронией и даже искренним смехом себя называл, с другой – как же быть с общероссийской культурой, на которой он всецело и воспитывался, изучению которой он себя посвятил на всю жизнь? Разве можно забыть Пушкина, Белинского, Тургенева, Достоевского, Толстого и многих прочих российских корифеев, выкинуть их за борт своих духовных интересов и с легкостью перейти на изучение Т. Шевченко, Ив. Котляревского, Квитки, Кулиша, Франка и т. д.[368]368
Білецький Л. Т. Мої спомини (1917–1926 рр.) / Підгот. тексту В. Р. Адамський. Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2013. С. 121. Гудзий в годы Гражданской войны был профессором Таврического университета, активным членом местных литературных и научных обществ; подробнее см.: Филимонов С. Б. Из прошлого русской культуры в Крыму: поиски и находки историка-источниковеда. Симферополь, 2010. С. 43–47, 241–272; о «позднем» Гудзие см.: Чичерин А. В. Николай Каллиникович Гудзий // Чичерин А. В. Сила поэтического слова: Статьи. Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1985. С. 208–228.
[Закрыть]
В 1919 году Белецкий (вместе с Григорием Петниковым, Владимиром Коряком и другими) входит в организационный совет лекционной секции при недавно созданном в Харькове Всеукраинском литературном комитете[369]369
См. подробнее: Тимиргазин А. Узорник ветровых событий: поэт Григорий Николаевич Петников. Феодосия; М., 2019. С. 44–45.
[Закрыть]. Он принимает активное участие в литературных диспутах и публичных лекциях того времени, к примеру, из журнальной заметки 1924 года можно узнать, что Белецкий делал доклад на диспуте «Коммунизм и искусство»[370]370
Комунізм і мистецтво. Диспут // Література, наука, мистецтво. 1924. 17 лютого (№ 7). С. 4.
[Закрыть]. В украинских периодических изданиях выходят его статьи, в которых он критически осмысляет ранний украинский модернизм, анализирует творчество поэтов «Молодой Музы» (М. Вороному он посвящает отдельную статью), поэзию футуристов, формалистские эксперименты в прозе того времени (Белецкий считал М. Хвылевого главным прозаиком 1920‐х), делает обзоры современной западной литературы и т. д.[371]371
Білецький О. Двадцять років нової української лірики (1903–1923). Харків: ДВУ, 1924. Он же. В шуканнях нової повістярської форми // Шляхи мистецтва. 1923. № 5. С. 59–63; Он же. Сучасне красне письменство Заходу // Червоний шлях. 1923. № 9. С. 170–190; Он же. Рец.: Зеров М. Нове українське письменство, 1924 // Червоний шлях. 1924. № 1/2. С. 247–249; Он же. Про прозу взагалі й нашу прозу 1925 року // Червоний шлях. 1926. № 2, 3; Он же. Микола Вороний (до 25-річчя літературної діяльності) // Червоний шлях. 1929. № 1. С. 158–173.
[Закрыть]
В 1920‐е годы Белецкий выступает и как организатор переводческих серий всемирной классический литературы на украинский язык. Позднее он указывал:
Но вообще мои широкие замыслы по части обогащения украинской культуры переводами мировой литературы мне удалось осуществить лишь в малой мере. Пример горьковской «Всемирной литературы» и проспектов издательства «Academia» был заразителен: ежегодно я доставлял в украинские издательства обширные проспекты того, что следовало бы перевести; работал и сам над планом обширной хрестоматии европейских литератур в украинских переводах, сделанных с подлинников; для этого нужно было мобилизовать всех способных к этому делу, начиная от видных поэтов до любителей[372]372
Белецкий А. И. Автобиография. С. 16.
[Закрыть].
Таким образом, Белецкий в 1920‐е годы сумел создать свою собственную школу, в основе которой лежало совмещение разных подходов к изучению литературы, и вырастить целое поколение филологов, которые тогда кардинальным образом изменили украинскую науку о литературе и критику. Его фигура стала одной из ключевых в процессе модернизации гуманитарного знания в Украине в рамках советского проекта. Его работы, педагогическая деятельность, академические связи, работы его учеников – все это является важнейшим элементом культурного ландшафта советской Украины 1920‐х, который стремительно менялся, сочетая в себе элементы национального и социалистического преобразования. Также фигура Белецкого является одной из определяющих для понимания процесса рецепции идей русского формализма в советской Украине.