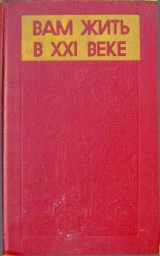
Текст книги "Вам жить в XXI веке"
Автор книги: Г.А. ЮРКИНА
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
– Ломоносов возглавлял кафедру химии в Академии наук – и уже через сто лет русская химия заняла видное место в мировой науке, украсив ее именами Менделеева, Зинина, Бутлерова, Марковникова.
– Ломоносов много времени и сил уделил минералогии и пробирному делу – и уже в советское время отечественная геология открыла в недрах страны колоссальные богатства – от углей и руд до алмазов.
– Ломоносов интересовался найденной архангелогородцем Прядуновым нефтью на реке Ухте – и в 1901 году русская нефтяная промышленность дала больше половины мировой добычи нефти, а в наши дни занимает первое место в мире.
– Ломоносов составил инструкцию для экспедиции адмирала Чичагова, собиравшегося искать путь на восток через Северный Ледовитый океан – и уже в советское время русские моряки сначала прошли этим путем, а ныне широко и прочно освоили великий Северный морской путь, проходящий перед «ледяным фасадом России».
– Ломоносов открыл, что «планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою» – и серия изумительных советских космических станций не только установила состав этой атмосферы, но даже передала изображения поверхности этой поистине «адской планеты»…
XIX век, открыв Ломоносова заново, поспешил вынести ему и свое осуждение: «Будь он верный и терпеливый исполнитель намеченных им теоретических и экспериментальных планов, он совершил бы перерождение химии…» В веке XX мы смотрим на Ломоносова иными глазами. Да, не открыл он «соли», «масла» или «спирты». Да, не сделал он многих открытий, которые мог бы сделать. Да, не совершил он перерождения химии!
Но Ломоносов дал русской науке нечто большее, чем «соли», «масла», «спирты» и даже «перерождение химии».
Он дал русским ученым веру в самих себя!
ЛОБАЧЕВСКИЙ

Не только для гения, для простого смертного что может быть печальнее равнодушия? Подумать страшно: человек всю жизнь шел к великой цели, достиг ее, поймал свою жар-птицу, но никого это не интересует: ни коллег, ни друзей, ни жену, сам смысл трудов ото всех сокрыт, жар-птицу никто не видит, а те, кто и видит, считают, что вряд ли стоит громко о том говорить. Физика XX века показала нам границы человеческого воображения. Помню, как Ландау говорил, что некоторые процессы микромира понять можно, а представить себе нельзя, они не имеют аналогов в макромире, утверждал, что наука отняла у мозга испытанное оружие сравнений. Оказалось, есть не только нечто тоньше волоса, быстрее движения века, ярче солнца, есть жидкое твердое, существующее исчезающее, невесомое и неостанавливаемое. Все это, если вдуматься, даже враждебно человеческому разуму, миллионолетняя эволюция которого шла в милой и привычной простоте мира Эвклида и Ньютона. И наверное, первым усомнившимся в единственности этого мира, в абсолютной однозначности его законов был величайший русский геометр Николай Иванович Лобачевский.
Я много думал: счастлив ли был Лобачевский? Нищее детство. Утонул любимый брат. Умер любимый сын. Дом сгорел. Интриговали вокруг людишки, мелко, но больно огорчали. Жена, влюбленная в картежную игру, истерики с требованием денег. Слепота, отнявшая все краски у заката его жизни…
Но ведь была и веселая озорная молодость, хохот, скачка верхом на корове в городском саду. Выносили выговоры, записывали на черную доску, даже в карцер сажали – ему все нипочем. Была ранняя ревнивая страсть к науке и раннее признание таланта. Преданные взоры учеников. Спасение университета от холеры. Государем дарованный перстень. И девочка, еще не ведающая о картах, лучистая от любви, и сладкое бессилие от взгляда ее…
Ушел в науку. Изучал солнечную корону, вел наблюдения во время затмения. Увлекся температурными режимами почв, ставил опыты. Но все это не главное, разумеется. Главное – геометрия. Геометрия витала над всеми делами, над радостями и горестями бытия. Геометрия давала высшее счастье и самую острую боль. Он постоянно ощущал огромное нечеловеческое одиночество, недуг неизлечимого непонимания, заговор враждебного молчания, прерываемый вдруг мерзким пасквилем в булгаринском журнале: «Даже трудно было бы понять и то, каким образом г. Лобачевский из самой легкой и самой ясной в математике, какова геометрия, мог сделать такое тяжелое, такое темное и непроницаемое учение… Для чего же писать, да еще и печатать такие нелепые фантазии?…»
Такая слепота была для него во сто крат страшнее слепоты собственной.
Если верить рапортам, молодой Лобачевский «был по большей части весьма дурного поведения, оказывался иногда в проступках достопримечательных, многократно подавал худые примеры для своих сотоварищей, за проступки свои неоднократно был наказываем, но не всегда исправлялся; в характере оказался упрямым, нераскаянным, часто ослушным и весьма много мечтательным о самом себе, в мнении получившем многие ложные понятия; в течение сего времени только по особым замечаниям записан в журнальную тетрадь и шнурованную книгу тридцать три раза».
Он изменился быстро и резко, и, как часто бывает с натурами яркими, пылкими, поломав свой нрав, стал не то чтобы угрюмым, а каким-то спокойно невеселым. Но даже в профессоре Лобачевском, в Лобачевском-ректоре была какая-то незавершенность характера, когда ход поступков и направление мыслей не совмещаются с общепринятыми, когда опыты, проверенные на многих, объявляются необязательными, короче, когда понять человека, установить его между привычными полюсами добра и зла невозможно. Глядя на Лобачевского, проницательный наблюдатель отгадал бы сразу, что звания, положение, ордена, деньги – все это для него лишь зыбкие постройки на не понятой другими тверди принятых им истин.
Жизнь Лобачевского – Казанский университет. Он стал ректором в 34 года и был ректором 19 лет. Перед ним прошла целая вереница поколений. Мог ли он запомнить, выделить хотя бы некоторые лица? В 1845 году к нему пришел некрасивый скуластый мальчик, просил перевести его с восточного факультета на юридический. Звали его Лев Толстой. В год смерти Лобачевского поручик Толстой написал замечательный рассказ «Метель» и повесть «Два гусара» – уже поднималось солнце его вселенской и вечной славы. Лобачевский прочесть их не мог: он был слеп. Но хоть слышал ли он о нем, помнил ли?
А Толстой помнил. Он прямо говорил: «Я его отлично помню. Он всегда был таким серьезным и настоящим «ученым». Что он там в геометрии делает, я тогда ничего не понимал, но мне приходилось с ним разговаривать, как с ректором. Ко мне он очень добродушно относился, хотя студентом я был и очень плохим».
Из Казани Лобачевский уезжал очень редко и неохотно. Был только в Петербурге и Дерпте, да еще в 1840 году ездил в Гельсингфорс на торжества тамошнего университета. Два года спустя благодаря рекомендациям великого Гаусса избран был Николай Иванович членом-корреспондентом Геттингенского королевского общества. Лобачевский никогда не ездил за границу. Гаусс отклонил приглашение работать в Петербурге. Встреча, самая необходимая, самая желанная в истории математики, так и не состоялась. Уже после смерти Гаусса ясно стало, что светлейшему уму его открылся смысл прозрений русского геометра, но столь дерзки были они, столь сокрушительны по новизне своей, что недостало даже у Гаусса смелости открыто признать их истинами. А ведь он все продумал, наметил три горы – Брокен, Инзельберг и Высокий Гаген, – нарисовал в воображении своем гигантский треугольник и собирался, поставив на вершинах гор теодолиты, провести самый грандиозный геометрический опыт: измерить сумму углов и проверить, действительно ли равна она двум прямым углам. Когда о планах его узнали, посыпались насмешки, анекдотики. Евгений Дюринг, вошедший в историю только потому, что спорил с Энгельсом, прямо писал, что Гаусс страдает: «Paranoia geometrica» – геометрическим помешательством. И Гаусс отступил. В письме к астроному Бесселю писал: «Вероятно, я еще не скоро смогу обработать мои обширные исследования но этому вопросу, чтобы их можно было опубликовать. Возможно даже, что я не решусь на это во всю мою жизнь, потому что боюсь крика беотийцев, который поднимется, когда я выскажу свои воззрения целиком».
А как нужна была Лобачевскому решимость Гаусса! Как остро тосковал он по единомышленнику! Ведь такая однообразная жизнь окружала его! Университет, лекции, заседания ученого совета. В 52 года истек срок его профессорства, требовалась пустая формальность – утверждение министерства, но дело отчего-то затянулось, поползла какая-то липкая интрига, слушки, и утверждения не последовало. Так он расстался с университетом. Теперь у него была никчемная должность помощника попечителя учебного округа, дом и семья. Большой трехэтажный пустынный дом и очень большая семья – пятнадцать детей родилось в семье Лобачевских (какие-то несчастные были эти люди. Болели, рано умирали, наукой не интересовались совершенно, ничего не умели, вечно бедствовали). В этом шумном доме – неуютный кабинет. Пыльные ящики с жуками на булавках, разные диковинки – подарки друзей, привезенные из Персии, Турции, Египта, – хлам, который как-то неловко выбросить. И посреди этого кабинета – слепой человек.
Он стыдился слепоты и скрывал ее от жены. Смеялся над ее подозрениями, научился узнавать людей по шагам.
– Ты слепой, слепой! – в истерике кричала она.
– Нет, я вижу, – и не знал, что же еще добавить, как еще спрятать свою беду…
Лобачевский умер 63 лет от паралича легких. Понимал, что умирает, сказал просто: «Человек родится, чтобы умереть». И умер так тихо, что даже доктор не поверил, все щупал пульс, капал на лицо свечной воск, следил, не дрогнут ли мускулы…
В имении своем посадил Николай Иванович молоденькие кедры и потом говаривал: «Ничего, доживем до кедровых шишек!» Первые шишки появились в год его смерти. Не дожил.
А годы шли. И вот сын бедного провинциального священника Бернгард Риман выстроил здание своей геометрии, «геометрии Лобачевского наоборот», такой же странной, строгой и логичной, как и у казанского геометра. Так был открыт путь геометрий разных пространств, идущий в четырехмерный мир теории относительности, в океан невероятных, непостижимых далей и глубин, на берег которого вышло человечество.
МЕНДЕЛЕЕВ

Слабеющая рука горящего в жару старика медленно ведет перо по бумаге: «В заключение считаю необходимым хоть в самых общих чертах высказать…» Сил дописать фразу не хватило. Он знаком подозвал служителя, тихим шепотом велел подать себе гребенку, сам расчесал волосы и бороду, приказал принести чашку с холодным чаем. Напуганный бледностью больного, служитель замешкался, и тогда в последний раз, в самый последний раз проявился властный характер старца: «Михайло! Ты, кажется, собираешься меня не слушаться?…»
«Тревожно спал в ту ночь Петербург, – писал на следующий день корреспондент одной из столичных газет, – умирал Менделеев…» Эти слова не были преувеличением. Скорее наоборот. Тревожно спала в эту ночь вся Россия.
Общественное мнение каждой страны из числа ученых наций нередко выделяет одного, который пользуется уважением среди всех слоев общества, даже очень далеких от науки. Таким любимцем Англии был Фарадей, Франции – Пастер, Америки – Эдисон.
В России это место занимал Дмитрий Иванович Менделеев. Любуясь такими людьми, нация как бы любуется сама собой. Ибо каждый из них – наиболее яркое воплощение лучших национальных черт своего народа. Английская практичность – в Фарадее, французская систематичность – в Пастере, американская предприимчивость – в Эдисоне. Главным качеством Менделеева было умение вносить гармонию и закономерность в хаотическое нагромождение фактов.
То, что химические элементы – не пестрая смесь простейших веществ с хаотическим распределением свойств, а какая-то единая система, обладающая внутренней структурой, ученые догадывались давно. Действительно, в свойствах, скажем, лития, натрия и калия или хлора, брома и йода так много общего, что трудно не усмотреть в этом проявления какого-либо глубокого принципа. И 1830–1860 годы изобилуют попытками порой прямолинейными, порой весьма уж хитроумными отыскать эту таинственную закономерность.
Тем более поразителен прием, оказанный учеными первому появлению периодической системы элементов, созданной Д. Менделеевым. Большинство химиков рассматривало систему элементов лишь как удобное учебное пособие для студентов, против нее не возражали, но и не принимали всерьез. Сейчас с изумлением узнаешь: Менделееву пришлось потратить немало сил, чтобы убедить ученый мир в важности сделанного им открытия.
Самой убедительной проверкой любой научной теории всегда считалось предсказание будущих открытий. И Менделеев решил подвергнуть свое детище этому решительному испытанию.
Располагая элементы в порядке возрастания их атомных весов, он обнаружил, что они выстраиваются в линии, в которых их свойства периодически повторяются. Однако если строго следовать этому принципу, через некоторое время начинается путаница, и в одну группу попадают элементы совершенно не похожие друг на друга.
«Не происходит ли это потому, что в природе существуют еще неизвестные науке элементы? – предположил Менделеев. – И если это так, то не правильнее ли оставить в таблице несколько пустых мест, дополняя основной принцип построения требованием химического сходства?»
Вот эти-то «пустые места» принесли триумф великому творению Менделеева. В 1871 году он описал свойства нескольких, тогда еще неизвестных элементов, которые рано или поздно должны быть обнаружены наукой. И когда в течение следующих пятнадцати лет один за другим были открыты галлий, скандий и германий, заполнившие пустующие места в таблице, ученые мира убедились в фундаментальности открытой Менделеевым закономерности.
Интуитивно уловив повторяемость свойств элементов, он артистически возвел стройное здание периодической системы. Чтобы оценить эту мастерскую работу, надо вспомнить: сто лет назад еще не были известны многие элементы, а точность измерения атомных весов оставляла желать много лучшего. Наконец, следуя своему правилу: «Факт сам по себе очень мало значит, – важна его интерпретация» – Менделеев и нескольких местах пошел на сознательное нарушение основного принципа построения системы и расположил элементы с большим атомным весом раньше, чем с меньшим. Сделать так его заставила подмеченная им периодичность.
Как показало время, он сделал все абсолютно правильно. Все открытия последующих лет, поначалу казавшиеся угрозой для системы, очень скоро оказывались ее убедительнейшими подтверждениями. Так, нашли свое место в ней инертные газы, обнаруженные в 1890-х годах. Открытие радиоактивности принесло системе новые успехи: радий и полоний, выделенные супругами Кюри, оказались давно предсказанными Менделеевым элементами – экабарием и экателлуром. Со временем нашли свое место в системе многочисленные изотопы. Изощренные методы анализа позволили обнаружить четыре элемента – протактиний, гафний, рений и франций, существование которых предсказывал Менделеев 100 лет назад.
Периодическая система стала путеводной звездой для физиков-ядерщиков, которым довелось завершить великое творение русского ученого. Именно они изготовили больше десятка элементов, не встречающихся в природе. И чтобы увековечить имя создателя периодической системы, одному из искусственно созданных элементов присвоено название – менделеевий.
Даже при беглом знакомстве с менделеевским литературным наследием, насчитывающим около 430 работ, невозможно не поражаться, как много успел сделать этот человек за свою жизнь.
В представлении большинства людей Менделеев в первую очередь химик. Но, оказывается, из всего количества его трудов собственно химии посвящено лишь 9 процентов. С гораздо большим основанием Дмитрия Ивановича можно было бы назвать физико-химиком, физиком или технологом, ибо каждой из этих областей он посвятил около 20 процентов своих работ. Наконец немалая доля его исследований приходится на геофизику (5 процентов) и экономику (8 процентов).
Статьи, брошюры, книги, докладные записки. Каких только проблем не коснулся этот мощный ум: тончайшие химические исследования и сыроварение, пульсирующий насос и действие удобрений, температуры верхних слоев атмосферы и наивыгоднейшие конструкции керосиновых ламп, полет на воздушном шаре и поощрение мореходства и судостроения в России, судебная экспертиза и метрическая система, картина Куинджи и мировой эфир, ледокол «Ермак» и винокурение в России.
На склоне лет, подводя итоги своей деятельности, Менделеев не без гордости заметил: «Сам удивляюсь – чего только я не делывал на своей научной жизни. И сделано, думаю, неплохо». И действительно, все, за что брался крепкий менделеевский гений, сделано своеобразно, добротно и основательно.
Однажды, пораженный картинами Куинджи, Менделеев стал допытываться, в чем секрет их необыкновенной эффективности. И когда художник, смеясь, сказал, что никакого секрета нет, Менделеев задумчиво произнес: «Много секретов есть у меня в душе, но не знаю вашего секрета…»
Быть может, главный секрет менделеевского гения состоял в том, что в нем сочеталась изумительная способность к логическому анализу и поразительная интуиция. Не раз задумчиво глядя на соблазнительные формулы, предлагаемые ему сотрудниками, он говорил: «Ну, знаете, по соображениям, эта реакция должна идти так, как вы говорите, только тут что-то не так, я чувствую, что не так, не пойдет…»
И как это нередко бывает, глубже всех сумел понять своеобразие гениального ученого Менделеева гениальный поэт Александр Блок. «Твой папа, – писал он своей жене, дочери Менделеева, – вот какой: он давно все знает, что бывает на свете. Во все проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, у простых людей такого не бывает… Такое впечатление он и производит. При нем вовсе не страшно, но всегда неспокойно, это от того, что он все и давно знает, без рассказов, без намеков, даже не видя и не слыша. Это всепознание лежит на нем очень тяжело. Когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает обо всем вместе. Ничего отдельного или отрывочного у него нет – все неразделимо. То, что другие говорят, ему почти всегда скучно, потому что он все знает лучше всех…»
ПАСТЕР

«Если бы Пастер жил во времена отдаленной древности, – говорил в день смерти великого французского микробиолога его коллега из России Н. Ф. Гамалея, – он превратился бы в мифического героя, и память о нем была бы окутана ореолом легенд. Но мы были современниками Пастера. Мы знаем, что все работы были сделаны действительно им. И мы имеем возможность не только представить себе и правильно оценить весь размер его гения, но и попытаться анализировать этот гений и определить его отличительные особенности».
Чем же поразил Пастер воображение своих современников – людей XIX века, столь обильного блестящими, продуктивно работавшими учеными? Чем выделялся он среди десятков других прославленных исследователей природы, наделенных не меньше, чем он, теми качествами, которые обязательны для каждого выдающегося ученого: любовью и преданностью науке, настойчивостью и терпением, добросовестностью и искренностью, умением ставить научную истину выше личных амбиций? Какие еще, сверх этих, способности счастливо соединились в Пастере и позволили ему сделать те многочисленные и важные открытия, каждого из которых было бы достаточно, чтобы навеки прославить имя первооткрывателя?
В Париже на здании Высшей нормальной школы укреплена доска, на которой написано:
Здесь была лаборатория Пастера –
1857 г. Брожение
1860 г……… Произвольное зарождение
1865 г. Болезни вина и пива
1868 г. Болезни шелковичных червей
1881 г Зараза и вакцины
1885 г. Предохранение от бешенства
И это еще далеко не полный перечень научных открытий Луи Пастера – сына деревенского кожевника и правнука крепостного крестьянина из восточной Франции.
В 1854 году, когда 32-летний профессор химии приехал в Лилль, где он получил университетскую кафедру, за его плечами уже было великолепное чисто химическое исследование – открытие оптической асимметрии молекул винной кислоты – работа, входе которой он впервые столкнулся с темными, малопонятными тогда процессами брожения. И именно в Лилле, где местные фабриканты уговорили его взяться за исследование болезней вина и пива, он создал биологическую теорию брожения, выведшую его на тот путь, который принес ему высокое удовлетворение и всесветную славу.
Поражает прямолинейность и какая-то неотвратимость, с какой Пастер шел от одного успеха к другому. Через каждые два-три года он переходил от одной проблемы к другой – от оптической асимметрии к ферментации свекловичного сахара, от открытия анаэробных бактерий к вопросу о самопроизвольном зарождении, от изобретения фабрикации уксуса с помощью уксусного грибка к «пастеризации» – излечению болезней вина и пива нагревом их до 55–60 °C. В каждой из этих областей были специалисты, занимавшиеся одним делом всю жизнь и знавшие о нем в сто раз больше, чем Пастер. И, однако, именно он через несколько месяцев упорной работы решал проблемы, которые им оказывались не под силу.
Особенно ярко эта способность Пастера проявилась в 1865 году, когда эпидемические заболевания шелковичного червя, охватившие некогда процветавшие плантации на юге Франции, приняли масштабы национального бедствия. Приехав в Алэ – центр шелковичного производства, – Пастер, до этого никогда в жизни не видавший шелковичных червей, уже через двадцать дней продемонстрировал специалистам микроба – причину заболевания – и предложил способ избавиться от болезни отбором яичек от здоровых бабочек. Сделавшись всеобщим достоянием, этот способ спас французское шелководство.
Такая же история повторилась позднее, когда от заболевания вина, пива и шелковичных червей Пастер перешел к заболеваниям животных и человека. «Скажите, коллега, – спросил он одного русского врача в 1875 году, – что такое сибирская язва?» А уже через три года он дал правильное объяснение причины таких заболеваний, как сибирская язва, куриная холера, родильная горячка, остеомиелит, септицемия. Но Пастер не был бы Пастером, если бы он только выявил причины заболеваний, но не попытался бы дать практический способ борьбы с ними. В 1880 году он делает удивительнейшее и величайшее из всех своих открытий – искусственную вакцину…
Некоторые специалисты считают, что, будь Пастер профессиональным медиком, он принялся бы искать способы лечения уже заболевших людей. Но, к счастью для человечества, он был не медик, но больше, чем медик, биолог или химик. Пастер был мыслитель, способный к широким обобщениям и строгим логическим выводам из них. Не лечить болезни, а предупреждать их с помощью предохранительных прививок – вот великая мысль Пастера, легшая в основу всего дальнейшего прогресса в бактериологии.
В чем же секрет этой изумительной научной продуктивности Пастера? Ясно, что в основе его успеха лежали не энциклопедические знания и не случайная удача. По мнению американского биофизика Дж. Плэтта, Пастер достиг выдающихся успехов благодаря последовательному, систематическому применению в биологии метода, выработанного тогда в органической химии. Плэтт назвал его методом твердых заключений. Нужно выдвигать взаимоисключающие гипотезы, считает Плэтт, придумывать решающий опыт и ставить его так, чтобы полученный результат ясно указывал, какая из альтернативных гипотез верна. Тогда, уподобив решение задачи разветвленному логическому дереву, надо повторять эту процедуру до тех пор, пока не будет получен однозначный результат.
Именно так и действовал Пастер. Неделя за неделей его решающие опыты создавали логическое дерево исключений – и в конце концов головоломная проблема сводилась к твердому заключению, к которому не могли привести ни энциклопедические знания, ни многолетние систематические измерения, ни теоретические расчеты и таблицы. И в этом стремлении к ясному, твердому, однозначному результату проявлялась активная практическая натура Пастера. Ему было чуждо простое удовлетворение жажды знаний. Он изучал явления природы для того, чтобы управлять ими. Поэтому в исследовании каждого вопроса он доходил только до той ступени, с которой ему было видно, что и как нужно сделать, чтобы извлечь из открытия практическую пользу для человечества.
6 июля 1885 года впервые в истории была сделана прививка против бешенства, которая спасла жизнь эльзасцу Жозефу Мейстеру, укушенному бешеной собакой. И с этого дня началась беспримерная по смелости борьба Пастера против этого страшного заболевания. Победа над бешенством принесла Пастеру небывалую славу и популярность во всем мире, но она же и сломила его силы. После прямолинейной чистоты его прежних экспериментов на грибках и животных он впервые столкнулся с человеческим организмом и окунулся в сложнейшие условия медицинской практики с ее непредвидимыми случайностями, противоречивыми требованиями, непостижимыми неудачами и ежеминутной тревогой за человеческую жизнь.
Первый апоплексический удар настиг Пастера еще в 1868 году, но он оправился после недуга и на протяжении последующего двадцатилетия украсил науку множеством блестящих открытий. Но болезнь взяла свое: в разгаре работ по профилактике бешенства, отягченных нападками красноречивых оппонентов, Пастера снова настигает апоплексический удар. И с 1888 года великий исследователь был вынужден отказаться от дела, составлявшего главное содержание его жизни. «Я не могу больше работать!» – такова была главная жалоба великого труженика на протяжении последнего семилетия его жизни…
В 1875 году, вскоре после поражения Франции во франко-прусской войне, известный английский ученый Гекели дал необычную оценку пастеровскому вкладу в науку. «Денежная стоимость его деяний, – писал Гекели, – без всяких преувеличений, значительно превышает ту контрибуцию, которую Франция недавно уплатила Германии». (А она исчислялась пятью миллиардами франков!) Теперь, спустя столетие, мы видим и то, что ускользало от внимания современников: нравственный урок, данный Пастером ученым грядущих поколений.
Если говорить о самом существенном отличии нашего века от веков минувших, то оно состоит в том, что сейчас в науке работает неизмеримо больше людей, чем во все времена, вместе взятые. А это не могло не сместить критерии оценки научной работы. Некоторые ученые наших дней стали чрезмерно ценить рутину научных исследований. Им полюбились привычные методы и исследования, которые могут продолжаться бесконечно. Они с похвалой стали говорить о «жизни, посвященной исследованиям», там, где достаточно нескольких месяцев или недель для получения решительного результата. Короче говоря, рутину науки они предпочли той «отчетливости впечатлений», к которой должны приводить настоящие научные исследования. Исследования, блестящие образцы которых дал человечеству Луи Пастер…
МЕЧНИКОВ

Илья Ильич Мечников был очень впечатлителен. Ничтожнейшая мелочь могла вызвать в нем огромный восторг и тяжелое уныние, могла толкнуть на серьезный поступок.
После гимназии он решил продолжать учение за границей. В Германию он приехал не вовремя: были каникулы. Обескураженный юноша разыскал колонию русских студентов, но те встретили его холодно. Мечников расстроился и в тот же день уехал домой.
Смерть первой жены настолько потрясла Илью Ильича, что он утратил всякий интерес к жизни.
Как-то угрюмый, ослабленный болезнью, погруженный в свои невеселые думы, Мечников брел по набережной Сены (дело было в Париже). Вдруг его внимание остановилось на рое бабочек-поденок, метавшихся над рекой. Эти насекомые живут один день, откладывают яйца и умирают.
«Как объяснить появление поденок с точки зрения теории борьбы за существование? – подумал Мечников. – Ведь они не питаются, и никакой борьбы у них нет».
Захваченный внезапной мыслью, Илья Ильич ускорил шаг. Мрачные раздумья улетучились. Он снова почувствовал вкус к работе, к жизни. Маленькие бабочки ценой своей необычной однодневной жизни спасли жизнь великому ученому, а для нас, его потомков, спасли его замечательные открытия.
Мечников один из первых в России понял громадное значение дарвиновской эволюционной теории. Вместе со своим другом Александром Онуфриевичем Ковалевским он взялся за исследования беспозвоночных животных. Друзья справедливо считали, что, сравнивая пути развития этих примитивных видов, смогут добыть новые данные в подтверждение эволюционной теории. Работая вместе и порознь, постоянно обмениваясь научными данными и идеями, помогая друг другу, споря, иногда даже ссорясь, Мечников и Ковалевский основали новую науку – сравнительную эмбриологию.
Мечникова особо интересовал вопрос о питании беспозвоночных, у которых нет желудка, и пищу захватывают и переваривают особые, «блуждающие» клетки. Однажды в Мессине, экспериментируя с личинками морской звезды (личинки прозрачны, блуждающие клетки поглощают введенный экспериментатором порошок кармина и окрашивают в красный цвет, и их легко наблюдать в микроскоп), Мечников вдруг пришел к мысли, что блуждающие клетки могут быть и у высших животных, в том числе и у человека, они играют в организме очень важную роль – борются с вторгающимися микробами. Это была гениальная догадка. Мечников стал бактериологом. Двадцать пять лет упорных исследований понадобились ему, чтобы убедить ученый мир в справедливости своей теории. Не раз в годы этой борьбы постигали его неудачи, не раз он приходил в отчаяние. Но истина оказалась на его стороне, и он выиграл титаническое сражение.
Мечников верил в науку, он видел в ней единственное средство улучшить жизнь людей. Будь его воля, он бы сутками не выходил из лаборатории, разве лишь для того, чтобы прочесть лекцию студентам. Но нелегко было честному ученому работать в царской России. Не мог он спокойно работать в лаборатории, когда ему не разрешали взять в ассистенты способного юношу только потому, что он поляк; когда не принимали в университет известного ученого только потому, что он «не того направления»; когда студентов, освиставших профессора-мракобеса, отдавали в солдаты…
И Мечников борется. Его впечатлительная натура остро реагирует на каждую несправедливость.
В знак протеста он уходит из Новороссийского университета. Он организует первую в России и вторую в мире (после Пастера в Париже) станцию по борьбе с бешенством. Но благородная деятельность ученого не встречает поддержки. Его травят, и с каждым годом все сильнее. Мечников не выдерживает, покидает Россию. Его с распростертыми объятиями принимает в Париже Пастер, великий Пастер, создатель современной бактериологии. Мечников становится ведущим сотрудником знаменитого института Пастера. Он работает с прежней неистовостью и азартом. В орбиту его интересов входят все новые и новые проблемы. Сибирская язва, возвратный тиф, сифилис, холера…








