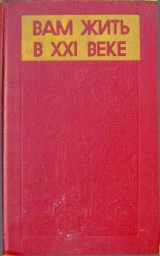
Текст книги "Вам жить в XXI веке"
Автор книги: Г.А. ЮРКИНА
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
«Луч света, озаряющий теперь мир, блеснул из маленького городка Торн», – так отозвался Вольтер об открытии Коперника. Великий основатель гелиоцентрической системы не решился, однако, отказаться от неподвижной звездной сферы и от равномерности движения планет по круговым орбитам. Датчанин Тихо Браге считал, что все планеты вращаются вокруг Солнца, которое, в свою очередь, обращается около неподвижной Земли. Следующий шаг требовал человека, наделенного могучим и изобретательным умом, живым воображением, склонностью к созерцанию, неутомимым трудолюбием, восторженной, поэтической душой и неиссякаемым энтузиазмом. Таким человеком суждено было стать Иоганну Кеплеру – первому ребенку в семье наемного германского солдата.
Слабость, хилость, болезненность Иоганна, делавшие его непригодным к тяжелому труду, спасли его для астрономии. Пройдя курс наук в нескольких монастырских школах и Тюбингенском университете, он в 1593 году приступил к преподаванию астрономии в Граце. «Бездействие – смерть для философии, – считал он, – будем же жить и трудиться».
Однако Европа XVII века была малоподходящим местом для тихой жизни и мирного труда. Судьба заставила Кеплера укрываться от религиозных гонений, скитаться по городам Германии в поисках покровителей, составлять астрологические календари и гороскопы для королей и маршалов, браться за любую работу, чтобы прокормить себя и семью. И потребовался поистине геройский дух, чтобы в борьбе с нуждой и гонениями, среди волнений тридцатилетней войны, исторгшей у Тихо Браге вопль души: «Всякая земля – отечество для сильного, а небо есть везде!» – совершить то, что совершил для науки Кеплер.
В 1610 году он не случайно усмотрел в анаграмме Галилея намек на Марс. К этому времени он уже около 10 лет занимался изучением движения этой планеты, на основании данных многолетних наблюдений Тихо Браге. В стремлении найти разгадку замысловатых траекторий Марса, воображение Кеплера создавало гипотезу за гипотезой, комбинацию за комбинацией. Но каждый раз сравнение с наблюдением опровергало его построения. Логика исследования вела ученого как бы против собственной воли к первому закону новой астрономии – Марс движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Так было покончено с первым заблуждением предшественников, согласно которому планеты движутся по круговым орбитам. Примерно в том же, 1609 году Кеплер установил и второй закон: прямая линия, соединяющая планету с Солнцем, описывает равные площади в равные промежутки времени. Так было покончено со вторым заблуждением о том, что планеты обращаются на своих орбитах с постоянной скоростью.
Поэтический деятельный ум Кеплера постоянно искал соотношения между различными числовыми величинами, встречающимися в Солнечной системе.
И наконец, в 1618 году он напал на счастливую мысль: найти связь между размерами орбит различных планет и временами их обращения вокруг Солнца. Эта идея привела его к открытию третьего закона: квадраты времен обращения двух планет около Солнца пропорциональны кубам их средних расстояний от него.
«Все согласны насчет громадной важности трех законов планетного движения, – писал в прошлом столетии английский астроном Берри. – Но эти результаты составляют лишь небольшую часть объемистых сочинений Кеплера, наполненных массой странных идей и мистических фантазий и бредней… Прочитывая главу за главой и не встречая ни одной верной мысли, трудно удержаться от сожалений по поводу того, что Кеплер часто бесплодно растрачивал свои громадный ум…»
Думается, такой отзыв о трудах основателя новой астрономии несправедлив. Русский биограф Кеплера Е. Предтеченский считает: «Кеплер – человек не только искренний, но, что называется, «душевный» – он не хочет скрывать от своих читателей ничего: свои удачи и неудачи, горе и радость, увлечение и разочарование – все это рассказывает он непосредственно в самих своих научных трудах, представляющих как бы протоколы всего того умственного процесса, который за время их писания совершался в голове автора. «Среди глубокого мрака неведения, лишь ощупывая все стены, мог я добраться до светлых дверей истины».
В груде наблюдений и идей, кажущихся Берри «массой бредней», рассеяно немало поистине пророческих мыслей. Так, Кеплер был первым, кто предсказал спутники Марса. Он изобрел, хотя и не построил, астрономическую трубу. За сорок лет до Торричелли он утверждал, что воздух весом. Он правильно объяснил устройство глаза, дал правильное объяснение близорукости и дальнозоркости. Он доказывал, что Луна подобна Земле и что именно ее движение вызывает приливы и отливы океанов на нашей планете.
Судьба, немилостивая к Кеплеру с самого его детства, не изменила себе. Великий астроном умер от болезни, подхваченной во время четырехсотверстной поездки верхом поздней осенью 1630 года. Человек, который, по собственным его словам, «измерял небо», сошел «мерить земной мрак», оставив семье все свое наследство: несколько мелких монет, носильное платье, две рубашки и семьдесят три экземпляра своих трудов.
Роскошный памятник, установленный на могиле Кеплера через 178 лет после его смерти, дал повод потомкам утверждать, что если бы при жизни Кеплер располагал такими деньгами, каких стоил воздвигнутый ему памятник, то он, может быть, прожил бы еще несколько лет к великой пользе науки.
Говорили также, что огненными буквами на звездном небе начертан истинный памятник Кеплеру, человеку, которому «суждено бессмертие в награду за бесконечное терпение, с которым он проверял свои гипотезы через сравнение с наблюдениями, за чистосердечие, с которым он признавал ошибку за ошибкой, и за настойчивость и изобретательность, с которыми он возобновлял свои попытки разгадать тайны природы».
ГАЛИЛЕЙ

Порывы пронизывающего ветра пригоршнями швыряют на землю хлопья мокрого снега и пытаются сорвать черный суконный плащ с человека, бредущего по дороге в Рим. Человек часто останавливается и отдыхает, отвернувшись от ветра. И тогда можно видеть, какое у него усталое, измученное лицо.
Нелегко, очень нелегко узнать в этом семидесятилетием старце того, кого по праву называют «Архимедом своего времени» – Галилео Галилея.
Впрочем, если говорить строго, то талантами своими он превосходил Архимеда, обладая даром увидеть в обычных вещах действие законов, которые не поддавались усилиям самых проницательных философов. Кто не знает знаменитой истории с люстрой в Пизанском соборе, наблюдая за качанием которой девятнадцатилетний Галилео обнаружил, что большие и малые размахи совершаются в одинаковое время!
А удивительно хитроумные приборы и механизмы, которые он с большим искусством изготовлял собственными руками! Взять хотя бы пропорциональный циркуль, позволяющий легко и быстро делить линии на заданное число отрезков, решать пропорции, извлекать кубические и квадратные корни. Или удивительная машина для орошения полей, приводившаяся в движение всего одной лошадью. А разве не Галилей придумал первый термометр, ставший с тех пор непременной принадлежностью любой физической лаборатории.
Что уж говорить о его зрительной трубе, которая удивительным образом приближает отдаленные предметы и позволяет увидеть на Луне и отдаленных звездах немало такого, что не обнаружишь невооруженным глазом…
И вот этот человек, гордость Италии, больной, одиноко бредет в Рим по категорическому требованию святой инквизиции. Увы, его многочисленные таланты и успехи слишком часто заставляли его увлекаться собственными доводами и стараться выказать больше проницательности, чем другие. Еще студентом университета в Пизе многочисленными и яростными нападками на Аристотеля, труды которого одобрены католической церковью, нажил он себе немало врагов и прозвище «выскочки».
С годами не образумился Галилей. Кто не помнит этой истории с землеройной машиной для очистки Ливорнской гавани, которую предлагал построить Джованни Медичи, считавший себя искусным механиком. Ведь тогда – это было в 1591 году – приглашенный высказать свое мнение Галилей прямо так и заявил, что такая чудовищная машина не стоит трудов, затраченных на ее постройку. Ему, конечно, пришлось покинуть после этого профессорскую кафедру в Пизанском университете, но из этого он тоже не сделал для себя никаких выводов.
На что он обратил свой талант и свои астрономические открытия? На подрыв Священного писания. Ведь вот утверждал же Галилей, что он открыл новые планеты! Хотя каждому ясно, что планет может быть не больше семи, ибо существует семь металлов, подсвечник в храме имеет только семь ветвей, голова имеет только семь отверстий!
А солнечные пятна? Ну надо же додуматься, что на Солнце есть пятна. Да не только додуматься, но и настаивать на этом. И даже предлагать честным католикам взглянуть на эти пятна через телескоп! А разве в своих книгах и беседах не высказывал Галилей мысли о том, что Земля не есть центр мира и движется вокруг Солнца? И разве не противоречат эти его взгляды Священному писанию?
Но самое ужасное то, что Галилей не просто заблуждался. Он еще настаивал на своих заблуждениях. В письме к еретику Кеплеру он так писал о достойных, всеми уважаемых профессорах и философах:
«Этот род людей думает, что истину надо искать не во Вселенной, не в природе, но (я употребляю собственные их слова) в сличении текстов. Как громко ты расхохотался бы, если бы услыхал, что говорил против меня первый философ Пизанского университета, как он старался то логическими доводами, то магическими заклинаниями отозвать и удалить с неба новые планеты».
А разве не известно, что Галилей простер свою дерзость до того, что в своих трудах в уста одного из участников научных бесед – Симпличио (что в переводе означает «простак»!) вложил он слова, доверительно сказанные ему самим папой Урбаном VIII?
Нет! Не случайно бредет один по дороге в Рим семидесятилетний старец Галилео Галилей! Пусть ответит он теперь за свои многолетние прегрешения против католической церкви перед святой инквизицией…
22 июня 1633 года под гулкими сводами церкви санта Мария сопра ля Минерва в Риме прозвучали грозные слова сентенции – акта осуждения учения Коперника и самого Галилея. «… Ты подлежишь всем взысканиям и наказаниям, изрекаемым священными канонами и другими постановлениями общими и особенными против таковых провинившихся. Но от таковых наказаний нам желательно избавить тебя, под условием, чтобы предварительно – чистосердечно и с искреннею верою, в присутствии нашем, ты отрекся, возненавидел и проклял сказанные заблуждения и ересь…, противные католической, апостольской и римской церкви по формуле, какая тебе нами будет предложена…»
Выслушав приговор, измученный, униженный старик, став на колени, глухим голосом, запинаясь, зачитал клятвенное отречение: «Я, Галилео Галилей, сын покойного Винченцо Галилея семидесяти лет от роду, преклоняя колени пред святейшими кардиналами и генерал-инквизиторами, касаясь рукою Евангелия, клянусь, что ныне верю, всегда верил и с помощию Божиею буду верить всему, чему учит и что повелевает святая апостольская римско-католическая церковь…»
Прозвучали последние слова отречения. Бледный, с дрожащими губами поднимается с колен Галилео Галилей – величайший ученый всех времен.
«Е pur si muove!» – «И все-таки движется!»
Нет, не произнесли этих слов губы и язык Галилея. Общественное негодование вложило эти слова в его уста, в них выразился суд потомства над судьями Галилея!
«И все-таки движется!» – быть может, именно эта мысль побудила Галилея снова взяться за перо и показать миру, какой могучий ум обитал в этом уже дряхлом теле. Он целые дни и ночи работал над рукописью и в 1638 году закончил замечательнейшее из своих сочинений «Беседы о двух новых учениях в механике»!
«И все-таки движется!» Движется мысль, пробудившаяся от спячки средневековья, движется наука, основателем которой стал Галилей.
«И все-таки движется!» Кто может поставить границы человеческому гению? Кто осмелится утверждать, что мы уже видим и знаем все, что есть на свете видимого и доступного пониманию?
Над природой властвует тот, кто ей подчиняется!
НЬЮТОН

«Знаменитый геометр Исаак Ньютон полтора года тому назад впал в умопомешательство отчасти вследствие чрезмерных трудов, отчасти же от горести, причиненной ему пожаром, истребившим его химическую лабораторию и некоторые рукописи». Стоустая молва дополняла эту скупую дневниковую запись голландского ученого Гюйгенса массой красочных подробностей. Одни говорили, что огонь уничтожил результаты многолетних и дорогостоящих исследований по оптике, трактат по химии и большое сочинение по акустике. Другие утверждали, что Ньютон был настолько потрясен происшествием, что только через месяц пришел в себя. Третьи называли даже виновника пожара – любимого Ньютонова пса Даймонда, опрокинувшего горящую свечу на груду рукописей, – и приводили вырвавшееся у ученого восклицание: «О, Даймонд, ты не знаешь, каких бед ты наделал!»
И эти, пускай не в точности соответствующие действительности слухи, быть может, ярче всего показывают, сколь высоко уже тогда стояла научная репутация Ньютона и сколь многого были готовы ожидать современники от кембриджского профессора. Никого не удивило, что гибель рукописей разбила сердце и помутила рассудок философа: ведь не исключено, что огонь пожрал труды, подобные знаменитым «Математическим началам натуральной философии»!
«Никогда еще ничего подобного не было создано силами одного человека», – воскликнул современник и друг Ньютона астроном Галлей, впервые прочитав «Начала». «Если взять математиков от начала мира до Ньютона, то окажется, что Ньютон сделал половину, и притом лучшую половину», – так отозвался об этом труде прославленный Лейбниц, возвысившийся над личною неприязнью из-за приоритетных споров.
«Биографы Ньютона удивляются, – писал А. Герцен, – что ничего не известно об его ребячестве, а сами говорят, что он в восемь лет был математиком, то есть не имел ребячества». Не совсем точный по форме – Ньютон в детские годы не обнаруживал исключительных математических способностей, – А. Герцен прав по существу. Маленький Ньютон не любил пустых забав. Начав с постройки игрушечных мельниц, он перешел к сооружению водяных часов и самоката собственной конструкции. Молва уверяет, что он первым – по крайней мере в Англии – стал запускать воздушных змеев, выбор наивыгоднейших размеров и форм которых дал толчок для проявления его исследовательских талантов. Именно это увлечение натолкнуло Ньютона на опыт, который сам он считал своим первым научным экспериментом: желая измерить силу ветра во время бури, 16-летний Исаак измерял дальность своего прыжка по направлению и против ветра.
Когда в 1661 году юный Ньютон приехал поступать в Кембриджский университет, его научный багаж был не особенно велик, зато ум давно уже привык к серьезному самостоятельному мышлению, а руки – к тонкой, точной, искусной работе.
XVII век бредил оптикой и телескопами, и все известные ученые и философы той эпохи отдали дань этому увлечению века. Но мало кто смог достичь такого успеха в благородном ремесле шлифования линз, как воспитанник Кембриджского университета Ньютон. Увлекшись этим искусством еще в 1664 году, студент Ньютон скоро понял, что линзовым телескопам свойствен принципиальный дефект – хроматическая аберрация, – и сосредоточил свои усилия на постройке зеркального телескопа. Он самостоятельно разработал всю технологию изготовления и полировки металлических зеркал, и искуснейшие лондонские мастера-полировщики были вынуждены идти к нему на переучку. Зато его телескоп, подаренный королю Карлу II и открывший Ньютону двери в знаменитое Лондонское королевское общество, стал предметом национальной гордости в Англии и любимым прибором британских астрономов.
«Как в увертюре, предшествующей большой музыкальной пьесе, – писал академик С. Вавилов, – переплетаются основные мотивы этой пьесы, так и в телескопе Ньютона можно проследить истоки почти всех главных направлений его дальнейшей научной мысли и работы». И действительно, обход хроматической аберрации – начало изумительных исследований Ньютона по оптике. Звездное небо, привлекшее внимание ученого к небесной механике и астрономии, в конечном итоге привело его к открытию великого закона всемирного тяготения. Исследование несферических линз отточило его математическое мастерство, изготовление сплавов для зеркал – секрет необъятных химических познаний Ньютона и залог его замечательной деятельности в Монетном дворе Англии. И если учесть, что практически все наиболее важные открытия и исследования, каждого из которых хватило бы на всю жизнь иному ученому, были сделаны до 1680-х годов, нетрудно понять, какое небывалое напряжение испытывал организм и мозг человека, родившегося таким хилым и маленьким, что его «можно было бы выкупать в большой пивной кружке».
Когда спустя много лет его спросили, каким образом он достиг своих великих открытий, Ньютон, совершенно чуждый напускного важничанья и тщеславия научных посредственностей, ответил классически простыми словами: «Я непрерывно думал об этом. Исследуемый предмет я носил постоянно в уме, обдумывая его с различных сторон, пока не удавалось наконец найти ту нить, которая приводила меня к ясному представлению».
За кажущейся простотой этого ответа кроется разгадка всего жизненного уклада великого механика. Человек, охватывавший мыслью Вселенную, не только никогда не выезжал из Англии, но никогда не съезжал с 200-километрового отрезка меридиана, на котором лежат города Грэнтем, Кембридж и Лондон. «Сэр Исаак считал потерянным всякий час, не посвященный занятиям, – вспоминал секретарь Ньютона, служивший у него в годы самой напряженной работы. – Редко уходил он из комнаты… занятиями увлекался он настолько, что часто забывал обедать… Раньше двух-трех часов он редко ложился спать, а в некоторых случаях засыпал только в пять-шесть часов утра. Спал он всегда четыре или пять часов, особенно осенью и весной, когда в его химической лаборатории ни днем, ни ночью почти не прекращался огонь. Я не мог узнать, чего он искал в этих химических опытах, при выполнении которых он был очень точен и аккуратен; судя по его озабоченности и постоянной работе, я думаю, что он стремился перейти черту человеческой силы и искусства…»
Такая яростная одержимость в работе, такое неукротимое стремление познать истину отчасти объясняет ту поразительную медлительность, которую Ньютон проявлял в публиковании своих научных исследований. Поняв предмет, разобравшись в деле сам, он считал его завершенным и мало беспокоился о том, чтобы публикацией закрепить за собой первенство.
Правда, была еще одна причина, по которой Ньютон медлил с публикациями: его фантастическая осторожность в утверждениях и точность в формулировках. Вызванные нежеланием попасть в положение, когда придется «отказаться неприятным образом от своего мнения», эти качества Ньютона-ученого породили фундаментальный метод принципов: «вывести два или три общих принципа движения из явлений и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных принципов… хотя бы причины этих принципов и не были еще открыты». Благодаря этому замечательному методу XVII веку, не знавшему практически ничего об атомах, элементарных частицах и квантах, оказалось под силу изучение тяготения, оптических и тепловых явлений. Лишенный возможности исследовать природу на молекулярном и атомарном уровнях и следуя девизу Королевского общества – «Ничего на веру», – Ньютон скептически относился к произвольным гипотезам. «Если кто создает гипотезу только потому, что она возможна, я не вижу, как можно в любой науке установить что-либо с точностью: ведь можно придумывать все новые и новые гипотезы, порождающие новые затруднения». «Я не измышляю гипотез, – твердил он. – Я не желаю смешивать домыслы с достоверностями».
Быть может, именно этим нежеланием объясняется то, что Ньютон никогда не обсуждал н не публиковал своих химических работ: в обилии экспериментов терялась та нить, которая в его времена могла бы сделать химию наукой, выводимой из нескольких принципов. Но то, что Ньютоном опубликовано, построено на добротном материале: верном опыте и точном математическом рассуждении. Эта часть научного наследия Ньютона бессмертна, создана навсегда!
Пожар 1692 года подвел черту под периодом наиболее интенсивной творческой работы ученого. Он не сразу пришел в себя. «Знаменитый геометр Исаак Ньютон… уже настолько поправился, что начинает понимать свою книгу «Начала», – записывает один из его современников. Прочная заслуженная слава украсила второй период жизни Ньютона: его избирают президентом Лондонского королевского общества, ему жалуют дворянское звание, он обласкан двором. Время от времени былая мощь проявляется в великом старце, и он поражает современников быстротой решения сложнейших научных и производственных задач. Назначенный директором Монетного двора, Ньютон неожиданно показал себя блестящим администратором и в разгар перечеканки монеты увеличил производительность своего предприятия в восемь раз!
Падкий на пышные, выспренние описания XVIII век не поскупился на комплименты Ньютону. Его именовали и «дворянином, который почти сверхъестественной силой ума первый показал с помощью факела математики движения и фигуры планет, пути комет и приливы океана»; и «небесным существом, совсем не похожим на смертных»; и «быстрым разумом Невтоном». Будто отвечая на эти восторженные излияния, сам Ньютон незадолго до смерти говорил о себе:
– Если я видел дальше других, то потому лишь, что стоял на плечах гигантов!
ЛОМОНОСОВ

Блистательна и трагична судьба этого «умственного великана». Стремительная научная карьера, дружба вельмож и сановников, милости царствующих особ при жизни и почти полное забвение, отрицание каких– либо научных заслуг и снисходительное признание одних лишь стихотворных опытов на ниве российской словесности после смерти. «Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого дееписателя… не поставим его на степени Маркграфа и Ридигера, зане упражнялся в химии. Если сия наука ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, то шествие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными, и в неисчислимом богатстве природы не нашел он ни малейшия былинки, которой бы не зрели лучшие его очи, не соглядал он ниже грубейшие пружины в вещественности, которые бы не обнаружили его предшественники».
Произнесенные через четверть века после смерти Ломоносова эти слова Александра Радищева тяжкой печатью припечатали репутацию великого исследователя. И когда спустя столетие настало время вновь открыть Ломоносова, перед ученым миром предстала могучая фигура неповторимого гения, не имеющего себе равных в истории человечества.
В 1731 году среди малолетних учеников Московского заиконоспасского училища появился двадцатилетний малограмотный переросток с далекой северной окраины России. А через десять лет он возвращается в Петербург из академической заграничной командировки вполне сложившимся, европейски образованным ученым. И с 1741 года начинается та поистине титаническая деятельность, которая вознесла на вершину славы сына архангельского помора, одержимого горячечным «желанием дознаться основы вещей».
Трудно измыслить тему, которой не коснулся бы его быстрый и светлый ум. В течение шестнадцати лет этот не знающий устали гигант заваливает Академию наук своими трактатами, изобретениями, проектами, сообщениями. Здесь и глубокомысленные «Размышления о причине теплоты и холода», в которых отрицается теплотворная материя и проповедуется механическая теория теплоты; и «Попытка теории упругой силы воздуха», в которой излагаются основы молекулярно-кинетической теории газов; и «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», где сделана попытка открыть причины молнии, грома и северных сияний; и прославленное поэтическое «Слово о пользе химии», то самое, откуда пошла знаменитая фраза: «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие» и в которой автор советует химикам «чрез Геометрию вымеривать, чрез Механику развешивать, чрез Оптику высматривать»…
И это были не пустые слова.
В ту эпоху, когда все прочие верили в мифический флогистон, световую и тепловую материю и спрятали свои весы потому, что показания их противоречили этим воззрениям, Ломоносов верил, что свет обусловливается волнами в эфире, а теплота – движением частиц. «Он пользовался весами и пренебрегал флогистоном. Он был современный химик. Задолго до Лавуазье он отличил элементы от соединений, и за 75 лет до Либиха он построил первую лабораторию для преподавания химии».
Именно эта, сооруженная его хлопотами и по его планам лаборатория знаменовала наступление великой эры экспериментальной химии, освобожденной Ломоносовым от ига медицины и аптекарского искусства. Именно в ней намеревался наш академик осуществить обширную программу исследований, долженствующих привести к созданию новой науки – физической химии. «Мера, вес и пропорция» должны были стать девизом новой науки, покоящейся не на шатких качественных наблюдениях, но на неотразимом фундаменте точных измерений удельного веса, оптических, электрических и магнитных свойств.
«Если мы сравним гигантскую программу физикохимических опытов Ломоносова с современным состоянием физической химии, – писал в 1919 году академик П. Вальден, – то нас прямо поразит общность научного материала задуманной Ломоносовым и созданной в продолжение 150 лет физической химии! Исходной точкой у обеих является изучение частиц… Исследование всех физических свойств однородных тел, отношения последних к теплоте, свету, электричеству и магнетизму – вот дальнейшие общие области. Потом следует изучение явлений растворения и всестороннее физическое исследование растворов… Даже новейшая область физико-химии – химия коллоидов – Ломоносовым не забыта: в числе своих опытов он отмечает «застудневание растворов, сцепление студней, цвет, запах»… А взаимная связь химии с электричеством им уже предчувствуется; он убежденно заявляет, что «без химии путь к познанию истинной причины электричества закрыт»… Его взгляды настолько современны и изложение их настолько свежо, что при чтении их мы забываем, что полтораста лет разделяют нас от того, кто может быть назван отцом физической химии».
Но выполнение этой необъятной программы было далеко не единственным делом в жизни Ломоносова. Могучую фигуру профессора можно было увидеть и в доме академика Рихмана, готовящего опыты по исследованию атмосферного электричества; и в лаборатории, где он читал лекции первым русским студентам и обучал их искусству экспериментальной химии; и на кафедре первой в России публичной лекции; и во дворе дома академика Брауна за увлекательными опытами по замораживанию ртути. Преподавательской деятельности Ломоносова отечественная наука обязана такими классическими терминами, как ареометр, поршень, сферический, упругость, атмосфера, кислота, барометр, метеорология, термометр, полюс магнита, микроскоп, преломление лучей. Его замечательному изобретательскому искусству она обязана множеством остроумных лабораторных приемов и приборов. Именно Ломоносов впервые применил фильтрование под давлением; именно он ухитрился построить небольшой пружинный вертолетик для измерения температуры воздуха на большой высоте; именно он построил первые самопишущие метеорологические приборы.
«Мой покоя дух не знает», – говорил Ломоносов. И это благородное беспокойство духа подчиняло себе весь уклад жизни великого работника и великого мастера. «По разным наукам у меня столько дела, что я отказался от всяких компаний; жена и дочь мои привыкли сидеть дома…. Я пустой болтовни и самохвальства не люблю слушать».
Как же могло случиться, что человек, знавший цену времени, получив в свое распоряжение долгожданную лабораторию, вдруг охладевает к излюбленному своему научному детищу – физической химии – и безрассудно расточает драгоценное время на изготовление цветных стекол и мозаичных картин? Почему, произведя фундаментальные опыты по растворению солей, по замерзанию солевых растворов, по лучепреломлению растворов, он беззаботно оставляет их неопубликованными? Почему равнодушно прерывает он исследования окисления металлов в запаянных колбах, уже открыв, в сущности, закон сохранения материи, и не удостаивает этого великого открытия публикации?
Некоторые биографы считают, что Ломоносов не рассчитал свои силы, что, провозгласив принцип: «мера, вес, пропорция» – в химии, он не применял его к самому себе; что расточительно расходуя свою физическую и психическую энергию, он преждевременно истощился. Другие считают, что к концу жизни литературный труд стал преобладать над научным и что, «хотя у Ломоносова-химика было много врагов, одним из величайших его противников был Ломоносов-поэт».
С такими объяснениями трудно согласиться. Они порождены тем, что биографы подошли к оценке уникальной личности Ломоносова с мерками XIX столетия – столетия завидливого и ревнивого к научным репутациям и к научной славе. Ломоносов находился в таком положении одинокого безотрадного превосходства, в каком не находился ни один ученый в истории человечества. И он ясно сознавал трагичность своего положения. «Хотя голова моя много зачинает, да руки о дне…» – жаловался он, не видя вокруг себя людей, способных понять его замыслы, поддержать его начинания. И ни секунды не сомневался он в том, что после смерти труды его на долгое время будут забыты. «Я умираю и на смерть взираю равнодушно, – сказал он на смертном одре, – но сожалею о том, чего не успел совершить для пользы наук, для славы отечества, для академии нашей. К сожалению вижу, что благие мои намерения исчезнут вместе со мною».
Нетрудно понять, что в том положении, в котором находился Ломоносов, смешно было беспокоиться о приоритетах, первенствах, предвосхищениях. Как одинокий строитель в пустыне заботится не о том, чтобы со всей тщательностью вывести одну-единственную аккуратную стенку, нелепую среди песков, так и Ломоносов беспокоился не о том, чтобы со всей тщательностью разработать одну научную теорию. Он стремился наметить контуры, заложить краеугольные камни будущего здания русской науки. И он лихорадочно, торопясь, укладывал эти камни, довольствуясь смелым очертанием и не желая тратить время на окончательную отделку.
Чувство восхитительной уверенности в своих силах, в своей способности быстро овладевать любым делом освободило его дух от оков ремесленной ограниченности, позволило ему смело вторгаться в незнакомые области знания. Изумительное чутье ни разу не обмануло его. Составив перечень научных проблем, которыми интересовался Ломоносов, с изумлением видишь, что именно эти отрасли с течением времени получали последовательное развитие в русской науке.








